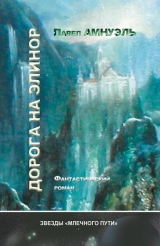
Текст книги "Дорога на Элинор"
Автор книги: Павел (Песах) Амнуэль
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Глава шестая
Наутро он ничего не помнил. Такое с ним случилось впервые в жизни. Было противно. Противно в желудке, где булькало и переливалось что-то тяжелое и совершенно не нужное организму, если судить по тому, с каким упорством эта жидкость, названия которой Терехов не знал, стремилась наружу, причем совершенно все равно в каком направлении. Противно было в голове, где мысли перемешались настолько, что невозможно было обнаружить название книги, из-за которой он пустился в нелепый загул. «Эльсинор»? Почему-то упорно вспоминался замок в Дании, где жил известный принц, которому тоже было определенно плохо, если он кончил тем, что убил собственную мать.
Противно было на улице – когда, с трудом поднявшись, Терехов, пошатываясь, подошел к окну, дождь лил как из ведра, нормальный осенний ливень, которому можно было бы и порадоваться, как он радовался, будучи лет на десять моложе, и даже выскакивал, бывало, во двор, подставлял струям лицо и пил дождевую воду, содержавшую, как говорили, немало полезных для здоровья элементов, но и гадость всякую, в том числе радиоактивную, содержавшую тоже, но на вкус это была чистейшая жидкость, не то что та гадость, которую они с Пашей потребляли вчера, начиная с восьми вечера.
Или – не с Пашей?
Неважно.
Все на свете было противно, но самое противное было то, что Терехов никак не мог вспомнить, из-за чего, собственно, он так налакался. Не из-за того же, что «Вторжение в Элинор» (вот! Вспомнил, именно так называется книга!) появилось в продаже. Терехов привык за последние недели считать этот роман своим, не раз его перечитал и мог на читательской конференции ответить на каверзные вопросы о героях, прототипах, аллюзиях и гротесковом отображении реальности в современной российской прозе. Нет, противно было из-за чего-то другого. Вспомнить Терехов не мог, а было очень важно – вспомнить, потому что иначе загул превращался в обычную пьянку, чего не должно было быть в принципе.
Часа полтора Терехов отмокал в ванной, выпускал остывшую воду и доливал горячую, пытался вспомнить, что же они с Пашей вчера делали и где были, но в памяти сохранилась только перебранка с водителем частной машины (даже марки не запомнил!), который то ли слишком много требовал за ночной извоз, то ли вообще не хотел везти приятелей туда, куда они собирались ехать, а вот куда они все-таки ехать собирались, Терехов вспомнить не мог и в конце концов оставил это занятие, лежал, закрыв глаза, а потом вдруг, будто что-то переключилось в мозгу, поспешно вылез из ванны, обтерся махровым полотенцем и резво побрел в кухню, где сварил себе воистину черный кофе, чернее, чем абиссинский, он же нубийский, он же эфиопский, негр – такой же черный, как его мысли, которые именно потому и были совершенно неотличимы одна от другой, что чернота скрывала их особенности и кажущуюся индивидуальность.
Кофе взбодрил, вторая чашка заставила Терехова отправиться в гостиную и отыскать лежавшую почему-то на полу у дивана книгу со злобной женщиной на обложке. Взглянув ей в глаза, Терехов содрогнулся и вспомнил, наконец, телефонный звонок – странные и страшные слова неизвестного, ставшие причиной и поводом для вчерашнего безумного загула.
Может, Паша помнит хоть что-нибудь из произошедшего?
Звонить Брилеву Терехов не собирался – отчасти потому, что боялся услышать от приятеля такие подробности ночных похождений, о которых лучше бы не вспоминать никогда.
После кофе стало легче, Терехов доплелся до компьютера и заставил себя приступить к обычной утренней работе: сначала проверка почты, потом рассылки, новости. В почте не оказалось ни одного личного письма, а рассылки содержали информацию, которая была ему сейчас настолько безразлична, что он даже названия не прочитывал до конца – сразу отправлял файл в корзину.
Новости…
Обычно Терехова интересовали две вещи: криминальная хроника и терроризм. С терроризмом сегодня все было в порядке – в том смысле, что даже в Израиле не произошло новых инцидентов, – а в криминальном разделе Терехов почти сразу наткнулся на заметку, которая еще вчера вряд ли привлекла бы его внимание. Подумаешь, какой-то невротик свел счеты с жизнью…
«В квартире на Шаболовке покончил с собой Эдуард Ресовцев (43). О происшествии в милицию сообщила соседка, обнаружившая дверь в квартиру Ресовцева открытой. Причина самоубийства неизвестна».
И что?
Ничего, – подумал Терехов. Этот человек звонил вчера. Шептал в трубку: «Ты взял у меня жизнь!.. Жить ты будешь, потому что умру я»…
Невозможно. Если это происходило на самом деле, то похожий на выстрел звук, раздавшийся в конце разговора…
Глупости, – подумал Терехов. Просто упала трубка. Где он мог взять пистолет?
Нет, не может быть. Это другой человек. Почему ты решил, что – тот самый?
Но ведь ни о ком больше не сообщают – кто покончил с собой вчера…
А почему ты думаешь, что тип, звонивший и шептавший, действительно был…
Потому что он написал «Вторжение в Элинор». Он писал роман двадцать три года (значит, ему было двадцать, когда возник замысел?), больше половины жизни…
Почему ты уверен, что это он?
Потому что, – сказал себе Терехов.
Может, Ресовцев – не тот человек, но нужно убедиться. Терехов точно знал, что не сможет существовать в этом мире, пока не выяснит правду.
Ресовцев жил на Шаболовке. Это какое же отделение? Сто семьдесят пятое, кажется… Или шестое? У Терехова, в принципе, были знакомые во многих отделениях милиции – доводилось устраивать презентации, обращаться за консультацией, точнее – делать вид, что обращаешься, все нужные ему сведения Терехов получал, конечно, не от милицейских начальников и, тем более, не от простых оперов, ему достаточно было интернета и того, что можно было вычитать в газетах, но для поднятия собственного реноме и завязывания контактов он все-таки старался милицию не обижать, понимая, что в свое время помощь какого-нибудь милицейского майора может оказаться не бесполезной.
Терехов перелистывал записную книжку. Шестое отделение… Анатолий Ильич Мартынов. Высокий, как дядя Степа, старший лейтенант. Примерно год назад после встречи, которую устроило издательство для работников охраны правопорядка, он подошел, когда Терехов закончил раздавать автографы и торопился к выходу.
– Мартынов моя фамилия, – представился старлей, и Терехову пришлось задрать голову, что видеть лицо собеседника. – Я сидел, слушал и вот что хочу спросить, извините. Не обидитесь?
– Н-нет, – протянул Терехов.
– Вы действительно думаете, что преступление можно раскрыть?
– Но… – растерялся Терехов. – А чем же вы и ваши коллеги…
– Я имею в виду дедукцию, анализ и прочую фигню, – перебил дядя Степа Мартынов. – Вы знаете, наверно: если по свежим следам преступника не поймали, то пиши пропало. Если он не идиот, конечно. А у вас преступники явно не идиоты, почему они так легко дают себя поймать?
– Ничего себе легко, – обиженно сказал Терехов – в его романе «Смерть откуда ни возьмись» частный сыщик Борода три месяца гонялся за матерым бандюгой, получил две пули – одну в бедро, вторую в голень, – но именно дедукция и правильная оценка поведения преступника (Борода, ко всем своим достоинствам, был прекрасным психологом, поскольку окончил еще во времена перестройки соответствующий факультет МГУ) привели героя к победе, а книгу – к благополучной развязке.
– Легко, – отмахнулся Мартынов. – На самом деле в девяти случаях из десяти заказные убийства не раскрываются, в семи случаях из десяти преступник попадается совершенно случайно, а не потому, что его удается вычислить, и в половине случаев убийства вообще не имеют реальных мотивов, а потому вычислить что бы то ни было абсолютно невозможно.
Все это Терехов знал без Мартынова. И дядя Степа, конечно, знал, что Терехов это знает. Но у литературы свои законы, в начале своего выступления Терехов рассказывал о сути и цели криминального романа. О мифологизации преступной идеи, о символическом значении образа частного сыщика и его преимуществе по сравнению со стандартным для советской литературы образом милицейского следователя…
Говорить об этом Терехову не хотелось, он устал, торопился, его ждала Маргарита, но как-то так получилось, что слово за слово, фраза за фразой, и разговор со старшим лейтенантом затянулся, продолжили они в его кабинете, где нашлась бутылка «столичной» («Не подумай чего, на работе не пью, а вот после – это как придется»), странным образом Мартынов оказался весьма сведущ в технологии детектива, знал, чем метод Холмса отличается от метода Вульфа и, тем более, от метода Мейсона, не говоря уж о методе Пуаро, и в тонкостях характеров великих сыщиков разбирался прекрасно – но современную российскую криминальную прозу на дух не переносил и Терехова, кстати говоря, тоже, хотя и признавал, что, в отличие от прочих, в его романах сохранилась прежняя романтика отношений преступника и сыщика, и грань между добром и злом, исчезнувшая в иных нынешних произведениях, у Терехова, к счастью, видна достаточно отчетливо.
В общем, поговорили неплохо. В час ночи Мартынов довез гостя до дома на милицейском «жигуле», и только тогда Терехов вспомнил, что обещал быть у Маргариты в десять, она приготовила цыпленка-табака, и теперь ему неделю придется ползать перед ней на коленях – фигурально, конечно, – чтобы вымолить прощение…
– Майор Мартынов слушает, – степенно проговорил в трубке забытый уже голос бывшего старшего лейтенанта.
– Поздравляю с повышением, – вырвалось у Терехова.
– Спасибо, Владимир Эрнстович, – поблагодарил Мартынов.
– Вы меня узнали? – поразился Терехов.
– С вероятностью процентов девяносто, – сказал майор. – У меня абсолютная память на голоса, как у некоторых – на лица, а у музыкантов – на ноты.
– А я быстро забываю, – признался Терехов, – голоса, лица, особенно фамилии. Правда, сюжеты прочитанных книг помню, даже если читал в глубоком детстве.
– Профессиональное, – сказал Мартынов. – Так я вас слушаю, Владимир Эрнстович. Простите, не могу долго говорить…
– Да-да, – заторопился Терехов. – Я, собственно, по поводу сообщения, только что прочитал в рассылке… Где-то в вашем районе вчера покончил с собой некто Ресовцев.
– Было такое, – согласился майор.
– Он… оставил записку? И… может, это не самоубийство? Откуда у него пистолет?
– Почему вы решили, что он застрелился? – удивленно сказал Мартынов. – Вам что-нибудь известно об этом человеке?
– Абсолютно ничего! Потому и спрашиваю. Не застрелился, вы говорите?
– Повесился на крюке от лампы в кухне. О записке ничего сказать не могу.
– Значит, была?
– Ничего не могу сказать, – повторил майор и, почувствовав на расстоянии огорчение Терехова, добавил: – Я это дело не веду, так что… А вообще – почему Ресовцев вас интересует? Вы сказали, что с ним не знакомы…
– Не знаком. Просто… Странным показалось – человек покончил с собой…
– В Москве, – вздохнул Мартынов, – ежедневно сводят счеты с жизнью от трех до семи человек. Обычно бомжи и юноши, а интеллигентные люди действительно не так уж часто…
– Он был интеллигентным человеком?
– Почему вы спрашиваете? – подозрительность Мартынова взяла верх над вежливостью.
– Пишу роман, – сказал Терехов, понимая, что только такое объяснение может устроить майора. – Героя находят мертвым, пистолет в правой руке, пуля в голове. В записке сказано, что винить, мол, следует такого-то…
– Не тот случай, – с сожалением констатировал Мартынов, но продолжать не стал и на провокацию с запиской не поддался. – Извините, Владимир Эрнстович, я сейчас занят, но с удовольствием поговорю с вами в другой раз. Хорошо?
– Хорошо, – пробормотал Терехов и неожиданно услышал:
– Вашу новую книгу я вчера купил. Кажется, такого вы раньше не писали.
– Не писал, – повторил Терехов.
– Всего хорошего, – сказал Мартынов и положил трубку.
Не тот, – с облегчением подумал Терехов. Наверняка не тот. Звук, похожий на выстрел, Терехов слышал совершенно отчетливо. Майор Мартынов, обладавший абсолютной памятью на звуки, возможно, даже смог бы определить, какого калибра был пистолет и на каком находился расстоянии от телефона. Или сказал бы, что это не выстрел был, а звук падения стула.
Не тот. И не нужно себя изводить. Звонил сумасшедший. Мало ли в Москве психов? Инну Беликову, знакомую журналистку из «Комсомолки», пишущую на криминальные темы, полгода изводил по телефону какой-то идиот, звонивший по ночам и сообщавший о выдуманных им преступлениях, о которых непременно нужно было написать в газете. Инна чуть с ума не сдвинулась, да и любой на ее месте впал бы в депрессию, если бы каждую ночь часа в три или четыре ему сообщали заупокойным голосом о расчлененном трупике младенца, засунутом в мусорный бак на улице Неделина, дом девять…
Значит, сумасшедший, – решил наконец Терехов и сел к компьютеру. Голова была тяжелой, но он заставил себя написать обычную порцию текста – получилось, конечно, плохо, но ведь это смотря по какой шкале оценивать. Для прежнего Терехова – вполне прилично. Для автора «Элинора» – плоско, грубо, вяло, безжизненно.
Господи, как я себя теперь поверять должен? – с ужасом подумал Терехов. Кто я есть теперь и как мне писать дальше?
Глава седьмая
В три часа, плотно пообедав в кафе «курицей жаренной с картофельным гарниром», Терехов медленно шел по правой стороне Шаболовки от станции метро в направлении возвышавшейся чуть в стороне Шуховской телебашни. Желудок у него был полон, а голова пуста. Для чего он сюда приехал, Терехов не мог бы толком объяснить и самому себе, а уж кому-нибудь постороннему – тому же майору Мартынову – подавно. Просто тянуло. Бывают в жизни состояния, когда невозможно объяснить тот или иной поступок логическими причинами. Пришло в голову – и сделал. Почудилось что-то – и полез на рожон. Или того хуже: не понравился поворот головы или взгляд случайного прохожего – подошел и убил. Разве не бывает такого в жизни? Сколько угодно, Терехов знал милицейскую статистику.
Нужно было раз и навсегда избавиться от наваждения. Почему он решил, что звонивший псих не только был истинным автором «Элинора», но еще и носил фамилию Ресовцев?
Терехов вошел в сквер, где на трех скамейках нагло сидели и прохаживались голуби. Несколько пенсионеров стояли поодаль, рядом с газетным киоском – то ли боялись потревожить птиц, то ли сидеть им было холодно, день действительно выдался прохладный, хорошо хоть не дождливый, как давеча.
Медленно проходя мимо, Терехов прислушался к обрывкам разговора, но говорили не о самоубившемся, а о проблемах государственных – о внешнем долге Соединенных Штатов и о том, что американский Сенат выделил сто миллиардов на будущий год с целью подорвать в России устои нормальной человеческой жизни.
– Извините, – сказал Терехов, и взгляды сразу обратились в его сторону. – Вы не могли бы подсказать… Тут неподалеку пару дней назад человек покончил с собой. Ресовцев его фамилия…
Старички переглянулись, но ответа Терехов не услышал. Показалось, или они действительно что-то знали об этом человеке, такое, чем не собирались делиться со случайным прохожим?
– Я почему спрашиваю, – продолжал он. – У меня школьный товарищ был – Ресовцев Эдик, мы в сто тридцать шестой учились. Потом потеряли друг друга, и вот читаю…
Терехов замолчал, чувствуя, что объяснения излишни, его не слушают, никому не интересны его слова, но рассматривали его откровенно, как в зоопарке разглядывают экзотическое животное марабу, которое никогда прежде не видели. Терехов смешался, даже отступил на шаг и оглянулся – ему показалось, что старички смотрели не на него, а на что-то или кого-то позади, но аллея была пуста, только женщина в темно-коричневой кожаной куртке до колен медленно удалялась в сторону перекрестка.
– Так я спрашиваю… – начал он опять, больше всего желая повернуться и бежать отсюда подальше, взгляды выдавливали, толкали, а старичок, рассуждавший о вредоносной сущности американской внешней политики, вдруг сказал:
– Вы лучше у нее спросите, она должна знать, а мы что, мы люди маленькие, а дома тут большие…
– У кого спросить? – растерялся Терехов, и старичок взглядом показал на удалявшуюся фигурку. Женщина шла медленно, будто действительно ожидала, что ее кто-то догонит, пойдет рядом, задаст вопрос… Москвички обычно более торопливы в движениях, Терехов давно это приметил; даже когда они с Маргаритой просто прогуливались по улицам или возвращались из театра, она шла быстро, ему приходилось не то чтобы бежать, но заставлять себя идти быстрее, чем ему хотелось, он как-то сказал ей об этом, и Маргарита удивленно ответила: «Я всегда так хожу, с чего ты взял, что я бегу?»
– Кто это? – вырвалось у Терехова, но старички больше не обращали на него внимания, повернулись к давешнему оратору, и тот продолжил свои разглагольствования с того места, на котором они были прерваны появлением постороннего. Ясное дело, все беды российские – из-за гнусных американцев. Сначала они Советский Союз развалили, а теперь на российскую независимость покушаются. В иное время Терехов непременно остался бы и поспорил, он не любил недоказанных предположений и обычно старался разбить их ясными и точными аргументами, но сейчас его не волновали глупости, он смотрел вслед женщине, дошедшей до конца аллеи и остановившейся на бровке тротуара, видимо, в раздумье – переходить улицу здесь, рискуя попасть под колеса вынырнувшей из-за поворота машины, или идти до светофора, а это довольно далеко, метров двести.
Должно быть, почувствовав на себе чужой взгляд, женщина обернулась на мгновение, но лица ее Терехов разглядеть не успел – она ступила на мостовую и пересекла ее, лавируя в потоке машин.
Терехов пошел вдоль аллеи в сторону шумной улицы. Напрасно он сюда ехал, только зря время потратил. Нет, – подумал он, – не напрасно. Вообще-то он не собирался искать дом Ресовцева, разве что обнаружил бы его по чистой случайности. Ему хотелось увидеть район, где тот жил. Проникнуться аурой, почувствовать что-то, что помогло бы ему понять, на самом ли деле Ресовцев был автором «Элинора». Нет, даже не это главное. Терехов хотел разобраться в самом себе, в изменениях, которые произошли с ним за эти дни.
Странно он вел себя, нелогично. Отдал «Элинор» в издательство, потому что так сложились обстоятельства и иного выхода не было. Но почему за все эти дни ни разу не задумался над тем, что произошло с его собственным романом? Кто-то выкрал у него рукопись, заменил, и что же этот негодяй сделал после подмены? Передал диск с текстом Терехова автору «Элинора»? То есть – Ресовцеву? Но если так, то еще месяц назад Ресовцев знал – или мог догадываться, – у кого находился его роман. Почему не нашел Терехова сразу, не позвонил, не выяснил отношения?
С логикой у меня в последнее время неважно, – подумал Терехов. Если на «Вторжении в Элинор» оказалась моя фамилия, то, получив диск с файлом романа «Смерть, как видимость», Ресовцев мог обнаружить над заголовком собственное имя – и кому тогда он мог предъявить претензии? Оба они оказались в одинаковых обстоятельствах – с той разницей, что Ресовцев, по-видимому, не торопился отдавать рукопись в какое бы то ни было издательство.
И если уж быть до конца логичным, то почему я ищу дом, где жил этот человек, а не издательство, где он мог тусоваться? Наверняка он куда-нибудь обращался если не с этим своим опусом, так с другим, не может быть, чтобы этот человек написал за свою жизнь один-единственный текст, так не бывает, литературный опыт приходит с годами и с публикациями, почему я об этом тоже не подумал, у меня в каждом издательстве знакомые, с которыми говорить проще, чем со старичками у газетного киоска или с милицейским майором, подозрительным уже хотя бы по роду службы…
Наверно, он сюда для того и ехал, чтобы в голову пришла эта очевидная мысль – мысли порой лишь выглядят очевидными, а на самом деле являются в свое время, не раньше и не позже. Как смерть.
Терехов вздрогнул, подумав о смерти, – он дошел до конца аллеи и стоял теперь на том месте, где несколько минут назад видел женщину в коричневой куртке. Нужно было обладать изрядным безрассудством, чтобы перейти улицу именно здесь – машины мчались сплошным потоком, будто камни в быстрой горной реке.
На противоположной стороне улицы незнакомка прислонилась к тыльной стороне киоска и смотрела в сторону Терехова, сложив на груди руки.
Взгляд притягивал, и Терехов бросился вперед, как пловец в бурный океанский прилив. Что-то стало со слухом – он не слышал, как сигналили водители, а ведь они наверняка нажимали на клаксоны и громко выражались в адрес обезумевшего пешехода. Терехов шарахнулся в сторону от внезапно возникшего «КАМАЗа», рванулся вперед и успел выскочить на тротуар за секунду до того, как позади него на большой скорости промчалась легковушка. Почему-то мелькнула мысль: «Как я машину в милиции опишу, если я ее даже не видел?»
Слух вернулся, шум улицы, визг тормозов, но что-то приключилось теперь со зрением: женщины не было не только у киоска, но и вообще в ближайшей окрестности, будто она Терехову всего лишь привиделась, но он точно знал, что это не так – вот здесь она стояла три секунды назад, именно столько времени понадобилось ему, чтобы пересечь улицу.
Он обошел киоск – это оказалась сувенирная лавка, на прилавке стояли матрешки с лицами Путина, Ельцина, Горбачева, Ленина и почему-то Чайковского, который в этой политической компании выглядел так же нелепо, как сам Терехов, стоявший посреди тротуара и не понимавший, куда исчезла коричневая куртка.
Из темноты киоска, будто из недр просыпавшегося вулкана, появился молодой продавец, патлатый парень в джинсовом костюме, и сказал, обращаясь не лично к Терехову, а к воображаемому покупателю, среднестатистической личности, не знающей российской истории:
– Самые лучшие матрешки в Москве! Борис Николаевич, между прочим, совсем как живой, вот даже царапина на носу, это не заводской брак, он действительно поцарапался, когда в девяносто первом на танк влезал.
– Здесь женщина проходила, – выдавил из себя Терехов. – В коричневой куртке до колен…
Он не надеялся на ответ, но получил его сразу, парень даже на секунду не задумался:
– Женщина в коричневой куртке, чтобы вы знали, это Жанна Романовна Синицына, менеджер в фирме, занимающейся распространением представленной на прилавке продукции.
– Ага, – сказал Терехов, не понимая, какое отношение могла иметь стильная и удивительная женщина к этой разноцветной нелепой вампуке. – И она…
Теперь он уже точно ждал продолжения, но именно на этот раз его не последовало, продавец переставлял с места на место матрешки – Ельцина в затылок Ленину, а Путина – лицом к лицу с Чайковским, на Терехова не обращал ни малейшего внимания, будто потерял к нему интерес, поняв, что покупать тот ничего не будет, а за информацией следовало бы обратиться совсем в другое место.
Терехов собрался задать еще один наводящий вопрос (парень наверняка знал, где можно найти Жанну Романовну Синицыну), но слова не пожелали говориться, потому что затылок Терехова неожиданно занемел, как немеет нога от долгой и неудобной неподвижности. Кто-то смотрел ему в затылок, и это ощущение оказалось настолько явственным, что Терехов обернулся не сразу – поднес ладонь к макушке, пощупал, будто место, куда упирался взгляд, могло нагреться от переданной психической энергии.
Женщина в коричневой куртке стояла в шаге от него, посреди тротуара, засунув руки в глубокие карманы, и изучала Терехова, как энтомологи изучают насаженную на иглу и усыпленную эфиром бабочку – внимательно, с любопытством, но и достаточно равнодушно, будто не ожидая ни увидеть, ни узнать, ни понять ничего нового, что не было бы этой женщине о Терехове известно прежде: час, день или жизнь назад.
– Здравствуйте, – сказал Терехов, – я ищу человека, покончившего с собой два дня назад…
Почему он так сказал? Терехов не знал, произнеслось то, что произнеслось – вне его осознанного желания, будто не он участвовал в начавшемся разговоре, а Жанна Романовна Синицына взглядом вытаскивала из него фразы, которые он не собирался произносить, а она хотела услышать.
– Идемте, – сказала женщина и медленно пошла в сторону пешеходного перехода, а Терехов поплелся следом, ничего не понимая, подобно роботу, повинующемуся вербальным командам.
На другую сторону – в сквер, к пенсионерам – Жанна Романовна переходить не стала, метрах в десяти от угла в двухэтажном доме, в створе между двумя магазинами одежды, оказалась дубовая парадная дверь со звонком, и табличка с фамилиями жильцов, которую Терехов не успел прочитать, потому что женщина открыла дверь своим ключом и кивком пригласила войти.
Сделав шаг, Терехов оказался в полной темноте, дверь на улицу захлопнулась позади него с громким щелчком, и он почему-то подумал, что попал в ловушку: Жанна Романовна впустила его, а сама осталась снаружи, и теперь он будет тихо умирать и даже кричать не сможет, потому что здесь нет воздуха – космическая пустота, в которой не распространяются звуки, и где, конечно, невозможно дышать.
Терехов судорожно вздохнул, к ужасу своему действительно убедившись, что дышать нечем, удушье наступило сразу, и он закашлялся, но в это мгновение под потолком вспыхнула тусклая лампочка, и сразу все изменилось – появился воздух, правда, довольно влажный и затхлый, как в погребе, и возникла лестница, ведущая на второй этаж, и беленные стены, где на высоте чуть выше человеческого роста кто-то нацарапал гвоздем: «Маша иди ты в». Слово, указывающее направление, куда должна была идти неизвестная Маша, было старательно замазано белой масляной краской.
Синицына не осталась на улице, она возилась с замком, пока Терехов рассматривал стены, а потом направилась к лестнице, еще одним кивком пригласив Терехова следовать за ней.
И он пошел, хотя больше всего ему сейчас хотелось оказаться в своей квартире, перед компьютером, и не думать не только о предстоявшем разговоре, но и о том, что привело его на Шаболовку.
На втором этаже был короткий коридорчик с тремя в ряд дверями. Синицына открыла среднюю дверь, Терехов вошел следом за ней в комнату с двумя окнами на улицу и увидел все тот же сквер и аллею, по которой шел минуту назад, и старички так же толпились у газетного киоска.
Жанна Романовна задернула длинные темные занавески сначала на одном окне, потом на другом, включила трехрожковую люстру, внешний мир отрезало, они остались вдвоем, и Терехов был почему-то совершенно уверен, что женщина эта живет вовсе не здесь, не могла она здесь жить, не женское это было жилье и даже, возможно, не мужское, а какое-то присутственное, канцелярское, Терехов не сразу и понял, почему такая странная мысль пришла ему в голову. Усевшись – Жанна Романовна кивком показала ему на стул, – Терехов огляделся и увидел большой, черного дерева, старый письменный стол с двумя огромными тумбами и ящиками, наверняка заполненными никому не нужными бумагами. Перед столом стояло кожаное кресло точно такого же цвета, что и куртка на Жанне Романовне – неизвестно, как подбирали цвета: то ли Синицына покупала куртку, помня о кресле, то ли кресло сюда приволокли, когда Жанна Романовна купила новую куртку…
Вдоль всех стен стояли книжные стеллажи – даже вдоль стены, выходившей на улицу, в простенке между окнами тоже были книги, много книг, новые и старые, на русском и на разных других языках. Можно было бы сказать, что это жилище московского интеллектуала начала прошлого века, но жилищем комната быть все-таки не могла, потому что, кроме стола, кресла и двух стульев с высокими спинками, другой мебели здесь не было, как не было и двери в соседнее помещение, которое могло бы оказаться спальней. Это был кабинет, причем заброшенный хозяином, редко посещаемый, судя по слою пыли на поверхности письменного стола. В середине зеленого сукна, впрочем, Терехов увидел яркий, свободный от пыли квадрат – что-то там недавно стояло, а потом эту вещь убрали, скорее всего, унесли совсем, потому что в комнате больше ничего не было – ни на полу, ни на подоконниках, а на полках ничего и поставить было невозможно, все заняли книги от пола до потолка.
Жанна Романовна стянула с себя кожанку и осталась в темном закрытом платье, цвет которого (черный? темно-синий? серый?) определить было невозможно в свете всего лишь одной лампы, остальные две хотя и присутствовали, но, должно быть, перегорели, а заменить их никто не удосужился.
Женщина опустилась в кресло, и в двух шагах от себя Терехов увидел ее ноги в темных туфлях на низком каблуке. Надо было, наверно, что-то сказать, и лучше бы, конечно, начать разговор первым, чтобы перехватить инициативу, безнадежно, казалось бы, утерянную на улице, но слова рождались трудно, Терехов никак не мог сформулировать мысль, чтобы одной фразой и объяснить свое здесь появление, и выразить по этому поводу недоумение, и потребовать объяснений самому.
Жанна Романовна провела ладонями по волосам и сказала низким голосом:
– Из-за вас погиб невинный человек.








