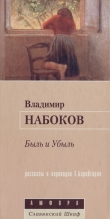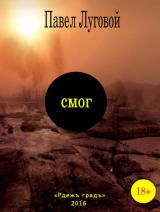
Текст книги "Смог (СИ)"
Автор книги: Павел Луговой
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 9 страниц)
Ыст!
Маша с потухшим взглядом как заведённая ходит из угла в угол, шепчет что-то, качает головой и плачет. Она ходит из угла в угол внутри комнатки в шестнадцать с половиной квадратных метров и в своей голове, в которой безумная усталость аукается со страхом – мечется там между черепными костями и не находит выхода.
В шестнадцати этих с половиной квадратных метрах они прозябают вчетвером: она, новорожденный Данил, муж Рома и свекровь Таисия Петровна. Тесно живут. Что уж говорить о голове Маши, в которой им четверым ещё теснее.
Ребёнок плачет. Он плачет непрерывно и монотонно. Вот уже два часа. Или три? Может быть, и четыре. Эти заунывные стоны дёргают Машины нервы всё сильней и сильней, и нервы вот-вот загудят, как провода под диким напряжением.
– Да сколько же можно, – шепчет она, – да сколько же можно… сколько же! – и, наклонившись над кроватью, яростно плюёт в Данино личико. Плевок залепляет младенцу глазик, он орёт ещё громче, дёргается, дрыгает кривыми ножонками и пускает пузыристые слюни.
Маша мечется из угла в угол и читает молитвы, чтобы не слышать этого бесконечного вопля, но молитвы бессильно бьются о стены со взлохмаченными обоями, вязнут в тесной духоте, не могут пробиться сквозь нескончаемый крик.
– Да заткнёшься ты, выродок?! – кричит Маша, снова вставая перед кроваткой.
На мгновение ей кажется, что сын тянет к ней ручонки, и сердце её тут же наполняется щемящей тоскливой материнской нежностью.
– Сыночек!
Маша достаёт дитя из кроватки, прижимает к груди.
Ребёнок не успокаивается. Его визг проникает сквозь Машин халат, сквозь кожу, сквозь мясо и рёбра, просачивается в сердце и вместе с кровью устремляется по телу. Это невыносимо.
Она сердито встряхивает дитя. В теле младенца что-то тихонько щёлкает. Он вдруг громко испускает ветры, потом отрыжку. Глаза его страшно выпучиваются на Машу, будто газы ищут себе ещё один выход наружу. Испуганная Маша подбегает к кроватке и кладёт – почти бросает – дитя обратно на матрас.
– Боже, боже, за что же?! – причитает она. – Боже, боже, за что же? Боже, боже…
Повторив это семь раз, обессиленно падает на пуфик рядом с кроваткой. Притихший младенец снова начинает плакать.
– Йо-о-о-о-о-об твою мать! – орёт Маша, дёргая себя за волосы и бьётся лбом о решётку кроватки.
– Мать, – вдруг отчётливо произносит Даня и снова испускает газы.
– А? – Маша очумело смотрит на сына, заглядывает ему в лицо, в его выпученные очумелые глаза.
Но Даня больше ничего не говорит. Он лишь бессмысленно таращится в потолок и гулит – немощным старческим голосом.
Маша вздрагивает, когда хлопает входная дверь. Оборачивается, ожидая увидеть что-нибудь страшное.
Но страшного ничего нет, если не считать свекрови Таисии Петровны. Под мышкой у старухи настороженно лупает глазами чёрная курица.
– Ежди́! – возопиет вдруг Таисия Петровна. – Ежди предста в либоде Сдох! Сдох ездох за подвизало!
– Чего? – Маша не чувствует губ своих, они онемели и остыли, будто долго сосали ледышку.
– Сдох ездох, сдох Молох, – бормочет свекровь и вдруг брызжет чем-то в невесткино лицо.
Опустив взгляд, Маша видит в свободной руке свекрови кисточку. Кисточка смочена в тёплом и скользком. «В крови, наверно… Да плевать…»
– Ежди-и-и-и! – снова возопиет Таисия Петровна и бросает курицу в кроватку дитяти.
Но птица себе на уме. Не долетев до кроватки, она выпускает перепончатые крыла и взмывает к потолку. Там она принимается кружить вокруг люстры в четыре рожка и клекотать неразборчивую ересь.
– Что это? Зачем это? – спрашивает Маша, недоумевающе и обессиленно глядя на родственницу.
– На счастье, доченька, на счастьеце, на счастьецечко, – бормочет та.
– Какое ещё счастьеце? – обречённо, устало. Маша действительно безмерно, до невозможности устала. – Какое в жопу счастьецечко, Таисия Петровна?
– Ыст! – доносится из кроватки.
Маша стремительно оборачивается, уже напрочь забыв и не обращая внимания на странную курицу, что кружит и кружит под потолком и уже нагадила на диван.
– Ыст! – повторяет младенец.
– Чего? – произносит Маша.
– Жрать просит, – подсказывает свекровь. – Есть, мол, дескать, говорит, давай. Титьку, значит, требует.
– А… да-да, – кивает Маша и подходит к кроватке.
Достав младенца, который продолжает громко испускать газы, она садится на пуфик и вынимает левую грудь.
– Не-не-не, – торопливо шипит от двери свекровь, – правую дай, правую.
– Почему это?
– Не хошь же, чтобы левшой рос и всё налево нёс?
«Да пошла ты…» – отрешённо думает Маша и грудь не меняет.
Младенец жадно втягивает набрякший сосок, пустым взглядом таращится в лицо матери. Перепончатокрылая курица неожиданно опускается и садится на Машино плечо, косится на ребёнка.
Даня громко и жадно сосёт. Проголодался, маленький, проголодался, детёныш.
Она рассматривает его личико, ищёт в нём любимые черты.
И не находит.
Ни одной любимой чёрточки, ни одной даже просто знакомой в этом маленьком старческом лице.
«Не мой! – мелькает в голове. – Не мой он, я же сразу сказала…»
В уголках его губ проступает розоватая пенка. Маша никак понять не может, что это такое и почему розоватая. Надо бы включить свет, но сосущий младенец так откровенно наслаждается, урчит и похрюкивает, что прервать его не достанет никаких материнских сил.
А пенка всё скапливается и скапливается, и в какой-то момент стекает по Даниной щёчке алой струйкой.
«Да это же кровь! – холодеет Маша. – Откуда же? Поранился, что ли?»
Она хочет отнять у младенца грудь, но тот присосался так, что лишь с четвёртой попытки – с громким «блуп-чмок!» – удаётся вырваться из его пухлых губ. Струйка, стекающая по щеке мальца становится ещё полнее. Весь сосок окровавлен. Маша чуть сжимает грудь и на кончике соска повисает новая капелька алой крови.
Дитя громко отрыгивает и недовольно морщится – ему хочется сосать ещё. Заливисто вдруг поёт на плече странная курица, поёт, а потом бормочет что-то, облизываясь – гылп, гылп, гылп.
– Маша! – треплет её за руку свекровь, – Маша, посмотрите на меня.
– Чего? – она переводит взгляд с окровавленного соска на лицо Таисии Петровны.
– Возьмите меня за руку…
– Зачем?
– … посмотрите. Что вы видите? Видите рукав?
– Вижу.
– Какого он цвета? Вы видите, что он белый?
– Не знаю.
– А на запястье – часы. Часики. Посмотрите на них.
– А?
– Сколько времени? Маша, скажите мне, сколько на часах?
Маша действительно видит на руке свекрови маленькие золочёные дамские часики. Откуда они у этой грымзы? Она сроду часов не носила, а уж таких-то…
– Сколько сейчас времени, Маша? – настаивает Таисия Петровна.
– Ну, это… без десяти… Да, без десяти. Сами-то не видите, что ль?
– Без десяти сколько?
– Час… Или два?
– А рукав видите, Маша? Какого он цвета?
– Белый, вроде… не знаю.
Таисия Петровна вздыхает, во вздохе её слышится «Ну вот, хоть что-то…»
А Маша рассматривает свекровь и удивляется разительной перемене. На старухе белый халат, причёска… цепочка золотая на шее. Недоумевает: «Чего это она вырядилась?»
– Хорошо, хорошо, – говорит свекровь-доктор, заглядывая Маше в глаза. – Всё будет хорошо, Машенька. Я ваша врач. Видите же, что я врач? Видите халат на мне?
– Вижу, – кивает Маша, не переставая удивляться. Что же это с нею такое было? Как она могла… – Я спать хочу.
– Скажите мне, Маша, кто я? Скажите.
– Свекровка моя.
– Маша, Машенька, вы ведь уже поняли, что я ваша врач.
– Да, поняла, вроде.
– Ну вот, вот, хорошо.
– Вас Таисия Петровна же зовут?
– Да.
– Ну вот, вот, – злорадно кивает Маша. – Вот и не морочьте мне голову.
– Ыст! – громко вмешивается младенец. Маша больше не слушает объяснений свекрови – ей нужно докормить сыночка.
– Ыст, ыст, жуклом став поидех хлыст, – бормочет Таисия Петровна, наклоняясь над ребёнком, взмахивая своей кистью, орошая.
– А ну! – кричит на неё Маша, отворачиваясь, пряча дитя от кровавых брызг. – А ну, что удумала! Не трожь!
– Дай мне его, дай дитё, – свекровь протягивает руки к мальчику. – Дай, дай мне его, дай, поцелую в адонай.
– Ага, щас, – бросает Маша. – Курицу свою поцелуй в это.
– Ну дай, дай! – свекровь падает на колени, молитвенно складывает руки. А курица обиженно клюёт Машу в темечко. Меркнет свет…
Когда она приходит в себя, свекровь сидит на диване и жадно смотрит на младенца в Машиных руках, а у дверей стоит Рома. Вид у него усталый и, кажется, расстроенный. Долго, слишком долго он стягивает с себя куртку, расшнуровывает ботинки.
Что-то рано он сегодня. Только бы не уволили с работы-то.
«Только не говори, что уволили, – мысленно молит Маша. – Только не говори мне… Пропадём».
В кармане его она замечает торчащий веник. Обычный веник, ничего особенного, но он весь пыльный и в паутине, поэтому ей становится страшно.
– Ну, что? – спрашивает Рома от двери.
– Ни в какую, – сердито шипит свекровь.
– Зачем тебе веник? – спрашивает Маша. – Беду выметать? Вон, с курицы начни – она наша беда.
– Маша, дайте мне, пожалуйста, вашу подушку, – с неуместной официальностью вдруг просит Рома.
– Подушку? – удивляется Маша. И тут же приходит в негодование. – Ром, ты это… ты того, да? Ты не видишь, я Даню кормлю? Сам не можешь взять?
– Я хочу, чтобы вы мне подали, Мария Львовна, – официально настаивает муж.
– Далась она тебе… – сердито произносит Маша.
– И всё же, – жёстко говорит Рома. Последнее время она всё чаще слышит в его голосе вот такие – холодные, металлические, напористые – нотки. Разлюбил он её. Совсем разлюбил. Или… завёл кого… Эх, любовь, любовь… сука ты лживая, змеюка подколодная.
– Сейчас, Ромаш, – она послушно идёт к дивану, за подушкой.
А подушки – нет.
– Ну? – торопит муж. – Что вы там встали, Мария Львовна? Дайте же мне подушку, скорей!
– Сейчас, – теряется она, – сейчас… Ну не горит же… Да где же она запропастилась-то?!
– Быстрей, Мария Львовна! Подушку! Ну! Быстро!!! – во весь голос.
Она в панике подбегает к Роме, суёт ему ребёнка.
– Я требовал подушку, – говорит Рома, – а вы мне что даёте? Что вы мне даёте, Мария Львовна?
– Так – по… подушку.
– Так это – подушка?
– Да… похоже… Да! Да, да, да!!! – визжит Маша.
– Хорошо, хорошо, – Рома гладит её по голове. – Успокойтесь, Машенька, тише, тише милая, всё хорошо. Таисия Петровна, сделайте нам с Машенькой ытх.
– Ытх? – переспрашивает свекровь. – Ты уверен, сынок?
– Сделайте, сделайте, – кивает Рома.
Младенца он держит в одной руке. За ноги. Болтающаяся внизу лысая голова Данечки стремительно пунцовеет, багрянится, синеет. Младенец безостановочно икает. С губ его нитками тянется выпитая из матери и срыгнутая теперь кровь.
– Рома! – кричит Маша. – Ты что ж делаешь-то, подлец!
Она стремительно выхватывает сына из мужней руки, отирает ребёнку ладонью губы и, укачивая, несёт к кроватке.
– Бесполезно, блядь, всё впустую, – устало и гневно говорит муж.
– Шалох рцел, Молох стлел, Сдох ждел, – талдычит свекровь.
Громко голосит курица, бормочет, клекочет следом невнятицу какую-то: …назин балиум протенс пульвера… ад и менция чреволожие. И потом скрежещущим выкриком: жлох, жлох!
Маша плачет. Она суёт Дане грудь, но тот отворачивается, не берёт (сказалось, наверно, висение вниз головой), и Маша бессильно плачет. И хочется спать, безумно хочется спать. Она снова и снова пытается сунуть ему грудь, расцепляет, разрывает его губы пальцами и, шепча «ну, давай… давай, блядь!», вталкивает меж них сосок.
– Ыст! – говорит дитя и бьёт её кулачонком по груди. – Ыст, ыст!
В Маше снова просыпается ненависть к этому жуткому порождению её омерзительного лона. Неудержимая, бессвязная, зачернелая, поросшая коростой отчуждения ненависть. Она лязгает жёлтыми зубами у самого Даниного личика. Кусает за щеку. Со злобой, почти с остервенением. Младенец орёт, изо рта и носа лезет натужная пузыристая пена. А она кусает его ещё раз, бросает в кроватку и принимается плакать. Курица снимается с её плеча, прыгает на младенца, клюёт его в глаза, в губы, в мозг.
– Ах ты тварь! – бесится Маша. – Пшла, дрянь, пшла!..
* * *
В санпропускнике с облезлой краской на стенах, провонявшем хлоркой и близким туалетом, её встречает молчаливый грустный Рома. Пытается улыбнуться, но получается жалко.
– Привет, – говорит он.
– Привет, – Маша смотрит в пол и тоже хочет улыбнуться. Но выходит что-то скользкое, виноватое, и ненужное, как послед.
– Как ты?
– Нормально. Как Данечка?
– Данечка?.. Данечка нормально, – он мнёт в руках шапку. – Ну что, домой?
– Домой.
– Угу…
Дома она долго стоит у двери, не раздеваясь, вдыхая совершенно будто бы чужие запахи. Смотрит на старые, местами отставшие обои в дурацкую блеклую вязь. Рома с тревогой поглядывает на исхудавшую до скелетообразности жену, в истончённое бледное лицо её, но не говорит ни слова, ждёт. Понимает.
Потом:
– Ну что, раздеваемся?
– А? – она смотрит на него исподлобья. Такая у неё привычка.
– Раздевайся. Давай помогу.
– А где Даня?
Уже взявшись за пуговицу её пальто, он замирает, смотрит на неё оглушённым каким-то и растерянным взглядом.
– Маш… – одними губами, на выдохе.
– Где? – глаза Маши расширяются. – Что?
– Потом. Давай потом, ладно?
– Что – потом? Где Даня?!
– А вот и Ма-ашенька, – из кухни выплывает радушная улыбка свекрови. – Приехала, милая, приехала наша детонька.
Распахнув пышногрудые свои объятия, воняя по́том, она кое-как протискивается в узкой прихожей мимо сына и тянется обнять невестку.
Маша прянет, ударяется спиной о входную дверь. Глаза её расширяются и в них пульсирует паника.
– Где Даня? – шепчет она. – Что вы с ним сделали?
– Ой… – расстраивается свекровь. И сыну: – А ты говорил, что все синтомы сняли. Где же все-то? – И Маше: – Ты же болела, детонька, посляродовым, как это, псориазом. Даня, Даня… Какой Даня? Мальчика ты мёртвым родила, детонька, аль не помнишь? Жлох.
– Даня! – кричит Маша, не слушая. – Что вы с ним сделали? Рома, где наш сын?
– Машенька… – Рома пытается успокаивающе погладить её по плечу. – Ты, наверное, не помнишь… Даня, он…
– Даня! – кричит Маша, словно сын, которому едва исполнилось три месяца, может отозваться.
Она торопливо сбрасывает с себя сапоги и, забыв про пальто, расталкивая свекровь и мужа, пробивается в комнату.
Как ни стремительны и неожиданны оказываются её порыв и атака, едва не завалившаяся в угол свекровь успевает таки сделать ей подножку – целяет носком ступни Машину голень.
Маша теряет равновесие и влетает в комнатушку, сбивая подбородок об истоптанный пол. Половицы скрипят.
Свекровь тут же бросается следом, торопясь придавить невестку своей тушей. А Машины глаза обегают комнату в поисках кроватки, которой почему-то нет на привычном месте. И в других – непривычных – местах её тоже не видно.
– Где?! – кричит она. – Где мой сын?
Она хочет подняться, путается в полах пальто, и в этот момент свекровина туша настигает её, наваливается сверху и напрочь припластывает к полу.
– Молоток давай, – велит свекровь сыну.
– Не луна же, – отзывается тот.
– Да всё одно теперь, – пыхтит свекровь. – Неси.
Покуда Рома бегает к темнушке и возвращается с молотком и двумя гвоздями-сотками, свекровь борется с Машей, силясь перевернуть её на спину. Ей не удаётся, пока она не пускается на хитрость – наваливается на Машино лицо своей пышной желеобразной грудью, напрочь перекрывая доступ кислорода. И когда ослабевшая невестка начинает биться, задыхаясь, теряя сознание и волю к сопротивлению, одним рывком переворачивает девушку на спину, крепко прижимает её руки к полу, так что Маша и двинуть ими не может. Подоспевает Рома с молотком и гвоздями.
– Может, не надо? – с сомнением произносит он, умоляюще глядя на мать.
– Ты ещё заплачь, – бросает свекровь. – Давай-ка руки ейны держи, да хорошо держи.
Сын послушно берётся за Машины запястья. Теперь он смотрит тем же умоляющим взглядом в глаза жены.
– Рома? – дрожащим голосом произносит ничего не понимающая Маша. – Что происходит, Ромочка? Где Даня?
– Ты прости, Маш, – шепчет в ответ муж. – Так надо. Ты только не разговаривай со мной, ладно? Не говори ничего.
Раздаётся первый – богатырский – удар. Гвоздь легко пробивает Машину ладонь и впивается в пол. Она кричит, жутко кричит и начинает биться, но Рома сильней нажимает на её руки. Потом, для верности, придавливает их коленями. Его пах при этом оказывается у самого Машиного лица, на нём ощущается её лихорадочное дыхание, и он чувствует, как стремительно восстаёт в трусах плоть.
Вторым ударом свекровь вгоняет гвоздь почти до конца. Третий завершает дело. Она не обращает никакого внимания на крики невестки и растерянность сына, она деловита, сосредоточена и безостановочно читает наговоры:
– Сдох ездох, сдох Молох. Ежди, напредста…
Она прилаживается ко второй ладони, а истосковавшийся по жениному складному телу Рома ждёт не дождётся, когда она закончит и уйдёт в кухню, чтобы можно было остаться с женой наедине.
* * *
Поздним вечером мать и сын сидят за столом на тесной кухне. На столе ополовиненная бутылка водки и наспех собранная под стопарь и под нетребовательный вкус закуска. Мать уже хорошо пьяна – она дышит часто и шумно, а говорит вязко и громко.
– Сказывала тебе, не зачинай в ней, во мне зачни. Так нет, молодого теста ему захотелось. А не один ли хуй-то, в какую ямку сеять. Вот и страдаешь теперь, олух Молохов.
– Я люблю её, – оправдывается Рома.
– Во-о-она чё, – усмехается мать. – А меня, значит, не любишь?
– Ну что ты, мамонька, люблю и тебя.
– А доказать смогёшь? – она суёт свою плотную красноватую руку с короткими, как обрубки, пальцами в Ромин пах и мнёт там. – Могёшь?.. Ну-ка, ну-ка, не слышу… Ух ты! Могёшь, гляди-ка, – довольно говорит она, поднимается с места и пересаживается на колени к сыну. Одной рукой требовательно обхватывает его затылок, другой быстро расстёгивает на груди халат и прижимает Ромино лицо к студням своих грудей.
– Ыст! – доносится из большой коробки с надписью «Доширак», стоящей в углу, между холодильником и стенкой, у батареи. – Ыст, ыст!
– Ой, – мать расплывается в улыбке, сползает с сыновых коленей, – проснулся. Проснулся, маленький. Разбудила бабка, да? Разбудила, сволочь старая…
Она достаёт из холодильника бутылочку с Машиной кровью и приседает перед коробкой на корточки.
– Плоснулась бабина ладость, – сюсюкает она. – Ку́сать захотел маненький, ку-у-сать. Ну на, потьмокай, потьмокай, мой холосый.
Крестины
В первое воскресенье мая собрались у Прокоповых отмечать открытие дачного сезона. Нынче этот разбитной праздник совпал с крестинами Прокопова. А крестины он праздновал неизменно, с первого дня – так сначала приучили его родители, а потом он и сам не мог без этого тихого праздника, как без крестика, который носил не снимая сначала Лёсик, потом Лёшик, потом Лёшенька, Алёша, Алексей и наконец Алексей Палыч.
В гостях значились Наденька Орлик да Бенислав Фридман; принимающая сторона – Алексей Палыч и его супруга Варвара Михайловна, место действия – дача Прокоповых в Дербятово, время действия, как уже было сказано, – первое воскресенье мая.
Наденька была бальзаковскою дамою какого-то неопределённого цвета кожи и причёски, с лицом, впрочем, заставлявшим всматриваться в него в поисках некой неправильности, которая настойчиво казалась глазу, но старательно ускользала от пристального взора, раздражая этою своею неопределённостью, так что в конце концов у впервые наблюдавшего её мужчины оставалась лишь растерянность: красива ли она в конце концов или так себе?
Бенислав Фридман поражал, во-первых, своими усами, архаически закрученными на гусарский манер, а во вторых – дебелою комплекцией, не свойственной вообще-то людям с фамилиями такого типа. Ну да что там фамилия, был бы человек хороший. А Бенислав Иосифович был хорош во всех своих проявлениях.
Воскресенье не задалось – мрачное, серое, дождливое с то и дело переходом в снежное, что в начале капризного месяца мая явление в общем-то в тех краях нередкое.
Небольшой круглый столик сначала поставили на веранде, но увидев намерения погоды, перенесли в залу, и он теперь отяжелел закусками, бутылками и посудою, типичною для дач, на которые свозится обычно всё ненужное и лишнее, чего в доме держать уже нельзя. Впрочем, фарфор был вполне себе приличный, как и бокалы, рюмки водочные и коньячные, стаканы и серебро.
В зале скоро стало жарко и душно от разогретых алкоголем тел, так что когда дошло до танцев, никто на них не отважился и дискотека отмерла сама собою. Тогда стали играть в карты, в рамс на четыре руки. Прокопову, который всегда имел основания считать себя сильным игроком, нынче то ли отчаянно не везло, то ли сказывалась разболевшаяся к исходу вечера голова. Напротив же, бездарный в карты Фридман, сильный, впрочем, к чести его сказать, в «Тысячу», сегодня играл успешно необычайно. Партия и закончилась его победой в дюжину талий, после чего вторую играть не захотели, а больше делать было решительно нечего. Пробовали связать беседу, но она не связалась, так что, кое-как дотянув до полуночи, отправились спать.
Не спалось. Томило что-то под сердцем. То ли переел, то ли перепил. Наконец, извертевшись до нервозного всхлипа, Прокопов поднялся.
– Что, Лёшенька? – спросила, просыпаясь, Варвара Михайловна.
– Ничего, Варенька, ничего, не спится что-то, желудок тяжёл, – прошептал Алексей Палыч. – Пойду выпью чего-нибудь, выкурю папиросу, авось усну. А ты спи, душа моя, спи.
А Варвара Михайловна этого уже и не слышала – она уснула сразу же, не дожидаясь ответа на свой вопрос, только повернувшись медленно на другой бок.
Алексей Палыч вышел из спальни. Постоял у двери, будто в раздумье, но на самом деле не ощущая ничего, кроме странной пустоты под сердцем, давления в желудке, да той самой головной боли, что никак не хотела утихнуть, а напротив разыгрывалась всё отчаянней. Махнув на что-то рукой, Прокопов вышел в сенцы. Взял там топор, приставленный в угол у двери после рубки дров. Лезвие было иззубренное и давно уже тупое, но Алексей Палыч, проведя по острию пальцем, лишь пожал плечами. Потом зашёл в кладовую и долго рылся там при тусклом свете сорокаваттной лампочки, звякал пыльными банками под заготовки и шуршал старыми газетами. Наконец нашёл то, что искал – баллончик с краскою.
Он проследовал в залу, а оттуда поднялся на второй этаж, где размещались две гостевые спаленки.
Тихонько приоткрыл дверь и вошёл в первую из них.
Бенислав Иосифович спал на спине, подрагивая в храпе гусарскими усами. И это было неудобно, потому что крови – Алексей Палыч предвидел это – будет много.
Подойдя к изголовью он решительно поднял топор и с силою опустил.
Бенислав Иосифович дёрнулся, забился, руки его взлетели на мгновение и тут же опали на смятое покрывало. Брызнула, забурлила, заговорила, зачавкала кровь, пробился сквозь этот звук неприятный всхрап. Запахло железисто и сладко. А Прокопов, не обращая внимания, уже наносил следующий удар по разрубленному кадыку.
Всё-таки топор был заметно туп, да и удар у Алексея Палыча не был поставлен, так что голова отделилась от тела только с пятого или шестого взмаха. Фридман уже успокоился к тому времени, перестал хрипеть и только бесчувственно подрагивал при каждом новом ударе, как бревно.
Покончив с головой, Алексей Палыч включил настольную лампу на тумбочке у изголовья, вышел на середину спаленки, присел, достал баллончик с краской. Старательно, высовывая, как школьник, язык, он принялся рисовать тетраграмму. Слышен был только тихий шёпот пульверизатора да сосредоточенное дыхание. Когда краски не хватило, Прокопов макал попавшийся под руку носок Фридмана в его же еврейскую кровь и продолжал затею.
Наконец он поднялся, оглядел работу. Вышло неплохо. Вот что представлял собою рисунок.

Положив окровавленный и скользкий от уже закиселившейся крови топор в вершину ромба, лезвием направо, на букву «Р», стилизованную под этот самый топор, Алексей Палыч отбросил окровавленный носок, поднялся, подошёл к кровати и взял за волосы голову Фридмана. Она оказалась неожиданно тяжела. Её Алексей Палыч перенёс, сея по полу кровавые капли, и возложил на твёрдый знак в центре изображения, оборотя взглядом к двери. Глаза Бенислава Иосифовича, открывшиеся перед смертью, смотрели в пустоту холодно и безучастно. Прокопов не трудился их закрывать, но зажёг свечу, всегда стоявшую на бюро в углу на случай очередной пропажи электричества, и поставил её перед мёртвым лицом так, чтобы огонёк отражался в зрачках. Оглядев напоследок сцену и удовлетворённо кивнув, он вышел, неслышно прикрыв дверь.
Надежда Сергевна, когда он вошёл в её комнату, спала сном почти младенческим и уж точно совершенно праведным – так чисто и нежно было её лицо в свете ночника. Двери в жилищах у Прокопова всегда бывали смазаны хорошо, ибо дверного скрипа он не выносил, поэтому когда он явился, сон временной хозяйки комнаты не был нарушен даже на йоту – он оставался всё так же спокоен и девичьи нежен, хотя была Надежда Сергевна Орлик давно уж не девицею. Не пробудилась она и когда он, раздевшись сам, поднял на ней подол ночной рубашки до живота. Лишь когда оттянул вниз её трусы, Надежда Сергевна потерянно и удивлённо проснулась.
Она забилась под ним, едва Прокопов быстрым ударом вошёл в неё. Он стал брать её с силою и напором, ничего при этом не чувствуя, но зная, что после всего в ней забьётся жизнь, будучи уверенным, что и она это чувствует, и готова принять, и пожалуй даже хочет этого, а потому оргазм её неизбежен. И словно в подтверждение его уверенности через минуту, когда он стал кончать, она застонала, задрожала, пальцы ног её свело судорогой, и короткий хриплый полубезумный вскрик вырвался из раскрытого рта.
– Ах… – тускло и низко произнесла она, едва дыхание вернулось к ней в грудь. – Что же… зачем же вы так, Алексей Палыч? Что же это вы…
Прокопов, не отвечая, поднялся с неё, не торопясь оделся и пошёл выходить.
– Алексей Палыч! – позвала растерянная Наденька. – Алёша?..
У двери он остановился и через плечо, не глядя на женщину, сказал:
– Родишь же сына, и наречешь ему имя Жлох, ибо он спасёт Рдеж град от падения его.
И уже закрывая за собою дверь, добавил:
– И не вздумай, блядь, сделать абортацию, Наденька, – убью.
Хлопнула, закрываясь, дверь.
Оставшись одна, Надежда Сергевна несколько минут дрожала и всхлипывала, едва удерживаясь от того, чтобы не разрыдаться в голос, с подвыванием. Потом какие-то неясные ощущения, некий дискомфорт во влагалище отвлёк её от растерянного безмыслия. Морщась, она принялась ощупывать половые губы, странно сухие после совокупления, будто его и не было вовсе. Потом окунула один пальчик в свои недра, изогнула его и, зацепив что-то ноготком, кряхтя и постанывая, извлекла это наружу. На кончике пальца прилип странного вида тёмный комочек. С чувством невыразимого страха, задержав дыхание, она растёрла это между пальцами и ощутила твёрдое, рассыпающееся по коже покалывание. Ощущение не обмануло её: поднеся пальцы ближе к глазам, она увидела щепотку песка, слипшегося, тёмного и влажного от её выделений. Ужас! Ужас отобразился на её лице и она снова погрузила палец в себя, чтобы извлечь ещё один такой же бурый комочек. Тогда застонав, почти закричав, она бросилась из спаленки на поиски воды.
Алексей Палыч вернулся в супружескую спальню. Жена его неподвижно застыла на постели и тихонько похрапывала. Он подошёл к ложу, остановился, глядя на счастье всей своей недавней жизни, закончившейся вдруг и разом на пороге новой, неведомой и – как он предчувствовал – вечной. Что-то блестящее отвлекло его взгляд. Наклонившись, он различил на своём месте, там, где он недавно ворочался с боку на бок без сна, лежащий у самой подушки крестик. То был его крестик, и в этом он немедленно убедился, проведя рукой по груди. Видно, в какой-то момент своей суетливой бессонницы, он умудрился оборвать изношенный и давно требующий замены шнурок. Осторожно, словно боясь обжечься, он двумя пальцами взялся за верёвочку, совместил оборванные края, чтобы крестик не соскользнул, и повернулся к жене. Рот у неё как раз был открыт, словно Варвара Михайловна ждала этого, и Прокопов вложил в этот рот крестик, а потом одним быстрым движением двух пальцев протолкнул его вглубь, в горло. Варвара Михайловна тут же проснулась, хотела сказать что-то или вскрикнуть, но, потянув в себя воздух, сделала так, что крестик проскользнул глубже в её дыхательное горло. Глаза женщины тут же полезли из орбит, она засипела, пытаясь вдохнуть и не понимая, что происходит. Прокопов стоял и с бесстрастным любопытством наблюдал за нею. Она потянулась к нему в немой мольбе о помощи, силясь что-то сказать, вцепилась враз окостеневшими пальцами в борт его пижамы. Алексей Палыч принялся с отвращением разжимать и отрывать эти пальцы от себя. Один палец он в горячке сломал – слышно было как хрустнула хрупкая косточка. Но эта мера была уже излишней, потому что Варвара Михайловна в следующий миг потеряла сознание, пальцы разжались и рука безвольно упала на простыню. Ещё через минуту сиплые попытки её груди получить хоть немного воздуха кончились смиренным переходом к беспамятству и далее к клинической смерти. Тогда Прокопов закрыл ей выпученные некрасиво глаза и, вздохнув над медленно умирающим телом, пошёл из спальни.
Выйдя на крыльцо, он увидел сидевшую на сухой ветви голого тополя, что рос когда-то поблизости и умер недавно, и до которого у него всё не доходили руки спилить, увидел на сухой ветви сидящую сову, чьи жёлтые глаза равнодушно остановились на его лице.
– Что? – спросил он. – В Рдеж град?
Сова повернула голову в одну сторону, потом в другую, потом снялась и полетела на юг. Прокопов отправился за нею.
Надежда Сергевна увидела его выходящим в калитку. Она осторожно, чтобы не скрипнула рама, приоткрыла окно. Просунула в него ствол ружья, взятого со стены в кабинете Прокопова. С неловкою женской грацией и с хрустнувшим в пальцах усилием взвела курок и наложила приклад на плечо. Расставила ноги, между которыми всё жгло и болело, чуть отнесла зачем-то влево зад, прищурила глаз, целясь.
«Родишь же сына, – шептала она, морщась и гримасничая с ненавистью к цели своей, – и наречешь ему имя Блох, Змох, Сдох… блядь! Ублюдок. Родишь же…» Палец её в мгновение перестал дрожать, едва улёгся на холодную скобу спуска. В голове по-прежнему звучал мерзкий, сухой как песок голос Прокопова и вызывал ненависть и омерзение.
– Ζο πρόπιτω σιν η̉ α̉δονάι66
Поражу тебя в адонай (рд.).
[Закрыть], – произнесла Надежда Сергевна, готовясь стрелять. – Будь проклят ты песком и ветром, сын верблюда!
Раньше чем она нажала на спуск, крыло какой-то быстрой и бесшумной птицы в полёте коснулось её чела и удар скрюченного когтя вырвал целящийся глаз.