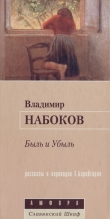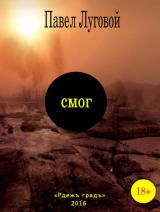
Текст книги "Смог (СИ)"
Автор книги: Павел Луговой
Жанры:
Контркультура
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 9 страниц)
Конечная
Впереди и справа сидели двое, с бутылкой пива. Бутылка была одна, поэтому гуляла по кругу, ото рта ко рту.
Трамвай со скрипом полз по рельсам сквозь ночь, мотаясь из стороны в сторону, конвульсивно подёргиваясь, подрагивая и вздыхая. Того и гляди, казалось, начнётся у него агония. Ободранное сиденье тряслось под задом, как вибромассажёр – дребезжало, размягчало, убаюкивало. Тело за полтора часа езды одеревенело и с радостью предалось бы дремотной расслабленности, но Чадов бодрился, потому что те двое не внушали доверия. А больше в салоне никого не было.
Правый, словно почуяв на себе скольжение чадовской мысли, обернулся к нему, уставился нехорошим прокислым взглядом. Следом за ним повернулся и левый. С минуту они пристально и холодно разглядывали его, потом правый отрыгнул и отвернулся, что вышло у него совершенно одним движением – отрыжка, как отворот, а отворот – как отрыжка. В ту же минуту убрал взгляд и левый. Чадов пошевелил пальцами на ногах – осторожно, стараясь не издать случайно ни звука, ни хруста малейшей косточки, чтобы лишний раз не привлечь к себе внимание двух этих дегенератов.
А левый, допив последний глоток, высосав даже подонную пену, перехватил бутылку за горлышко и вдруг хрустко шмякнул её о дугу на спинке переднего сиденья. Дробно просыпалось на обрезиненный пол стекло. Левый осмотрел образовавшуюся «розочку», одобрительно кивнул и поднялся. Повернулся к Чадову. У того по спине, сверху вниз, промчался табунец липких мурашек. Невольно дёрнулись лопатки – поёжиться. А левый уже сделал шаг вперёд. Правый посмотрел вопросительно и, поняв, кажется, замысел, тоже поднялся.
– То… товарищи, – промямлил, просипел Чадов, осознавая уже, предвидя, что́ будет дальше. Стал повыше поднимать шарф, стремясь избавить горло от острого ощущения раздиравшего его холодного и мокрого после пива стекла.
Шаг, шаг, ещё шаг.
Чадов подскочил с места, кинулся к задней двери. Увидев кнопку вызова вагоновожатого, стремительно нажал её всей дрожащей ладонью. И ещё раз. И – в панике – ещё.
«Надо было бежать вперёд, к водителю… Ага, а как мимо них пробежишь?..»
Или кнопка не работала, или вагоновожатый её игнорировал, но трамвай продолжал скрипуче тащиться вперёд.
Левый, ухмыляясь, приближался. За ним тянулся правый.
– Ребят… – Чадов попытался улыбнуться. Вышло недоразумение какое-то, а не улыбка. – Ребят, давайте не будем… Мне выходить сейчас. Я выйду и всё… и всё… и нет меня. Ну, ребят… Зачем?..
Им оставалось пару шагов сделать. Чадов снова безнадёжно ударил по кнопке. С прежним успехом.
«Лучше бы у них нож был. Этой стеклянной дрянью они же разорвут все жилы. Ещё и убить не убьют, а только зря покалечат».
– Ребят… Может не…
– Конечная, – громко сказал динамик над головой.
Двери, лязгнув, открылись.
Вокруг лежали в оглушающей тьме поля.
Одним прыжком он выпрыгнул в ночь и, не теряя ни мгновения, помчался вперёд. Сзади послышался топот двух пар ног. Похоже, они решили таки прикончить его во что бы то ни стало.
Чадов никогда не был хорошим бегуном, вёл вдобавок ко всему малоподвижный образ жизни, поэтому уже через пару минут дышал тяжело, сипло и готов был сдаться – упасть, обречённо подставить горло, заплакать. Но выпитое преследователями пиво тоже, кажется, не прошло для них бесследно, не позволяло взять нужную скорость.
Минут через десять они всё ещё бежали. Чадов теперь трусил кое-как, не разбирая дороги, не в силах оторваться от своих загонщиков. Но и они растеряли силы и не могли приблизиться ни на шаг. Чадов слышал их тяжёлое дыхание за спиной, метрах в трёх позади.
– Реб… ребят! – попытался он на ходу начать переговоры. – Дав… давай… те… бро… бросим это… а?
Те не отвечали. Чадов понял, что они, в отличие от него, дурака, берегут силы. И правда, сбившись с дыхания, он, кажется, проиграл им ещё один метр, и теперь их сопение слышалось прямо за плечом. Чадов попробовал поднажать и оторваться хотя бы на прежнюю дистанцию, но сил не было. Их просто не было и всё тут. Чадов с тоской шарил взглядом по обочинам дороги, что пролегла через поля. Он и сам не знал, что́ надеется увидеть. Может, годное что-нибудь – подобрать в качестве оружия… Или канаву, в которую можно упасть и уснуть, надеясь спрятаться от этих убийц во сне…
Ещё через пять минут – будь, что будет! – он перешёл на шаг. В конце концов, не так уж и важно, часом раньше умереть или часом позже. Ведь очевидно же, что они не отстанут и будут гнать его до последнего. И тут же понял, что загонщики тоже с облегчением сбавили темп. Он даже позволил себе оглянуться. Да, так и есть: два силуэта покачивались во мраке, бредя следом, спотыкаясь и глухо матерясь. В принципе, их тактика стала ему понятна: они решили взять его измором. Главное для них – не выпустить жертву из поля зрения. И сохранить немного сил на то, чтобы полоснуть ей по горлу «розочкой». Зачем выкладываться, если рано или поздно Чадов всё равно упадёт, сдастся – ведь это видно по его комплекции, по лицу, по говору. Интеллигент же.
К рассвету они добрались до какой-то деревни. Местность была совершенно незнакома, Чадов не представлял себе, в какую сторону рванул вчера – не до ориентирования на местности было, надо было спасать от растерзания горло.
Над ландшафтом едва-едва брезжило, дворы были ещё погружены в липкий предрассветный сон. Единственная улица, рассекавшая поселение надвое, являла вид нехоженой тропы, заросшей ковылём, лопухами и крапивой. Окна домов были то закрыты ставнями, как веками на глазах коматозных больных, то пялились в тебя мутными и невидящими спросонья стеклянными взглядами. Ни единой живой души не мелькнуло за оградами.
– Эй! – крикнул Чадов. – Лю-у-уди-и! По… помогите!
Ничего этот крик не изменил в окружающем мире. И тогда Чадов, сходя с ума от безнадёги, снова перешёл на бег. Измученный долгой дорогой без сна организм сопротивлялся изо всех сил, так что после минуты вялой трусцы Чадов задыхался, будто стайер, отмахавший марафонскую дистанцию. За спиной он слышал пыхтение и нестройный топот – преследователи тоже включили повышенную передачу и теперь, наверное, проклинали свою жертву, заставлявшую выкладываться из последних сил. Но убить Чадова стало для них, кажется, смыслом жизни.
– Помогите! – ещё раз крикнул Чадов, забыв, что крик отнимает силы. И тут же был наказан за это – ближайший из бандитов вытянул руку и почти схватил его за плечо, коснулся цепкими пальцами с грязными обгрызенными ногтями. Тогда, выпучив от ужаса глаза, Чадов ощутил вдруг приток второго дыхания и бросился грудью на пространство, как бегун бросается на финишную ленточку. Следующую сотню метров он буквально мчался и по хлипким звукам шагов преследователей понял, что ему удалось оторваться от них метров на десять самое малое. Вот что значит не употреблять перед стартом!
Потом снова была трусца. Потом – шаг.
На площадь, развалившуюся посреди последних огородов кру́гом выкошенной травы, они вышли тяжело дыша и едва передвигая ноги. И сразу Чадов оказался в центре десятков мутных взглядов, оплетших его словно паучьи узы. Там, на выкосе, были расставлены табуреты и стулья, берущие в круг ещё один, отдельно стоящий, табурет. Сидели на них люди мрачного невыспавшегося вида, всё больше мужчины и старики в чёрных строгих костюмах с галстуками. Вертелись тут же пяток мальчишек разного возраста. В стороне перешёптывался десяток женщин – тоже в чёрных длиннополых одеяниях. Вётлы и вязы, окаймлявшие деревню, окроплены были чернотою вороньей стаи.
«Что за чёрт? – устало подумал Чадов, ещё двигаясь по инерции вперёд, выходя в центр площади, где стоял табурет.
Все были против него, очевидно. И это сразу лишило его воли сопротивляться или бежать дальше. Не было в том никакого смысла – не выпустят, догонят, схватят…
Он устало подошёл к табурету и грузно сел – осел на него. Подоспели его преследователи, приблизились, обдавая кислым смрадом пива и жирного пота. Прерывисто дыша и натужно сдерживая шумность дыхания, встали за спиной.
– Ну вот, – поднялся со своего места измождённый старик в шляпе, в чёрных сапогах, в которые заправлены были брюки под чёрным же пиджаком. – Ну вот, стало быть. Развозить не будем, недосуг нам всем. Нынче подать платить. Праздник, опять же, завтра, – он поправил чёрный галстук, быстрым взглядом мазнул по лицам собравшихся. – Всем всё ясно про человека сего. Да и не человек то вовсе, а скот безобразный. Даром никого в поголовный иск отдавать не станут. Бумагу из города все видели? Все. Так что… – и старик многозначительно махнул рукой.
Шорох голосов одобрил эту резолюцию.
– Про… простите меня, – выдохнул Чадов, пытаясь беглым взглядом охватить лица. Но проникнуть в эти лица было невозможно, будто их и не было вовсе, а были вместо них серые пыльные мешки, натянутые на головы. – Отпустите меня, бога ради, – всхлипнул он, окончательно теряя осознание мира и себя в этом мире. Всё было не то и не так. И одно только было ясно со всей бесповоротной окончательностью: не отпустят.
Его, кажется, не услышали за поднявшимся гомоном.
– Развозить не будем, – повторил старик и, ещё раз обежав глазами собрание (тоже, наверно, не различая лиц), снова махнул рукой.
Просы́палась, прошелестела над выкосом ещё одна вялая волна ропота. Одинокий аплодисмент плеснулся где-то у частокола и тут же смущённо стих. Кто-то зашёлся в лихорадочном трухлявом кашле. Один из мальчишек послал в Чадова неметкий голыш. Другие засмеялись его промаху, опасливо поглядывая на взрослых. Старик снял шляпу и уселся на место.
Словно это было знаком, один из преследователей тут же взял Чадова за волосы, оттянул его голову назад, прижимая затылком к потной рубахе на пузе, а соподельник его торопко, но без суеты принялся вспарывать розочкой чадовское горло.
«Вот и всё, вот и смерть», – трепетно подумал Чадов сквозь беззвучную невесомость, приподнявшую тело.
Спор о поэзии в десятом «А»
Солнце проникает сквозь скучающие по субботнику окна, распадается на лучи и лучики, на блики и отсветы, тепло щекочет глаза своей апрельской непосредственной ясностью. Зудит и тычется в стекло проснувшаяся имбецильного вида муха.
Семён Модестович Глотов, учитель литературы, вздыхает, вполуха слушая как десятиклассники обсуждают Гумилёва, ну, то самое: с тусклым взором, с мёртвым сердцем в море броситься со скалы…
Ропот голосов то накатывает, то спадает. Спорщики распаляются, голоса становятся громче, звонче, напряжённее. Сколько же в них непосредственности, искренности, неумения скрыть мнение своё, каким бы пустым или наивным оно ни было.
Милые, милые ребята… Юные, с безоглядными мнениями, стремительные в расстановке запятых между казнить нельзя помиловать, неуступчивые, дерзкие, нетерпимые, максималисты через одного, и в то же время какие-то… подспудно нежные, трепетные, простые и ранимые мимозы-недотроги. Дети.
Спорщики всё более распаляются, вот-вот дойдёт до нецензурщины, а там и до драчки рукой подать. Бывало такое. Семён Модестович в таких случаях не вмешивается – не в его принципах это. Он действует иначе.
– Земля! – начинает учитель негромко. – Дай исцелую твою лысеющую голову…
Класс притихает – ушки на макушке; спорщики разводят мосты встречных яростных взглядов, вкладывают клинки острых словес в ножны молчания, обращаются в слух. Начало стихотворения сразу дёргает нерв, интригует, сулит…
Семён Модестович умеет читать стихи. Может быть, на конкурсе чтецов он и не взял бы призового места, но женщины млеют от его глубоко баритонистой прочувствованной декламации, и даже вот эти – безоглядно стремительные в расстановке запятых – стекленеют взорами, направленными куда-то в.
Земля,
дай исцелую твою лысеющую голову
лохмотьями губ моих в пятнах чужих позолот.
Дымом волос над пожарами глаз из олова
дай обовью я впалые груди болот.
Ты! Нас – двое,
ораненных, загнанных ланями,
вздыбилось ржанье осёдланных смертью коней.
Дым из-за дома догонит нас длинными дланями,
мутью озлобив глаза догнивающих в ливнях
огней.
Класс притих.
– Кто это?
Ему не нужно оборачиваться – он знает их всех по голосу. Сонечка Скоблева, она, без вариантов.
– Маяковский, – улыбается он в окно. – Владимир Владимирович.
– А-а, этот… – в голосе Сони звучит через губу пренебрежение. Наверняка она даже покривилась.
Семён Модестович поворачивается к классу. На лице его недоумение.
– «Этот»? Ты сказала – «этот»?
– Ну-у… – девочка пожимает плечиком. – Маяковский… Так себе… горлопан. Быдлопе́вец пролетарствующего быдла.
– Что? – брови Семёна Модестовича двумя гусеницами ползут в сторону затылка. – Сонечка, девочка моя, ты что такое говоришь?
Класс заинтересованно притих, взгляды заметались с лица Семёна Модестовича на лицо Сони Скоблевой и обратно. Спор с учителем – явление на уроках Глотова вполне себе нормальное, ничего особенного. О вкусах не спорят? Да бросьте. Ещё как спорят. Да, собственно, только о них и спорят. И уж в этом деле учитель ты или ученик – обстоятельство второго ряда.
Взгляды бегают с одного лица на другое – почуяли детишечки-детинушки, что быть побоищу, лязгу мечному, преломлению копий и бою щитов.
А учитель неспешно приблизился к парте, за которой хмурится ученица Соня Скоблева, встал перед ней – стоит, опершись на указку, как на трость.
– Понимаю, Сонечка, – говорит он. – Ты, видимо, сравниваешь Владимира Владимировича с Гумилё… ах, нет – с Александром Сергеевичем, да? С Пушкиным. Но видишь ли, в чём дело, детка, их нельзя сравнивать. Тут не может быть оценки хуже-лучше, это слишком разные явления нашего…
– Фи, – Соня передёргивает плечиками. – А что – Пушкин? Прилизанный распомажанный хлюст, самовлюблённый шаркун, щелкопер кудрявенький, же-ву-при-же-манж-па, ай да Пушкин, ай да сукин сын, лижу всем по два рубля за жопу.
– Что? – по лицу Семёна Модестовича разливается нехорошая бледность. – Хлюст и шаркун? По два рубля?..
– Фофан! – выпаливает, впадая в азарт, Соня. – Фофан кудрявый; сладенький, хорошенький фофан. Недаром же его Онегин убил.
– Ты, Сонечка, нарушаешь основополагающее правило всякой литературной критики, – увещевает Семён Модестович, – ты апеллируешь к личности автора, тогда как нужно говорить о тексте и только о тексте. Давай разберём любое стихотворение Александра Сергеевича, любое, по твоему выбору, какое тебе кажется наиболее… непрофессиональным, бессильным, уродливым что ли.
– Все, – безапелляционно изрекает Соня.
– Ну, так не бывает, Сонечка, – улыбается учитель. – Но если даже и все, ведь есть же какое-нибудь одно, что вызывает у тебя наибольшее отвращение, острее других ранит твой литературный вкус.
– Фофан, – упрямо талдычит Соня, действительно, кажется, не любящая Пушкина всей своей юной душою. – Напомаженный слащавый фофан.
Указка в руке Семёна Модестовича вдруг делает стремительное движение вверх, а затем резко опускается на голову Сонечки. Добрая треть её (указки) отламывается, отлетает, ударяется в стоящую позади парту, ещё раз рикошетит и острым концом бьёт в щёку сидящего позади Козыкина.
Козыкин стонет, зажимая щёку, а Сонечка, кажется, ничего даже не заметила – тугая причёска густых волос защитила её от травмы.
– Сука! – шепчет Семён Модестович, приходя в ярость.
Поднимаются во всех трёх рядах парт телефоны, торопливо настраиваются фото– и видеокамеры, щелчки и бипы кнопок наполняют повисшую тишину.
Потом в этой тишине Семён Модестович берёт Соню за горло – Сонечку, которая стоит и молча смотрит ему в глаза очумелым взглядом. Под нажимом учительской руки она молча валится назад, на парту, за которой растирает раненную щёку Козыкин.
Вторая рука Семёна Модестовича задирает на Соне юбку и несколькими раздражёнными движениями срывает с тела трусики. Взорам открывается аккуратно выбритый в полоску венерин бугорок и тёмная линия, рассекающая промежность меж чуть полноватых бёдер.
Соня сопит и вяло пытается сопротивляться, но по указующему взгляду Семёна Модестовича Козыкин перестаёт растирать щёку и кладёт руки с разлапленными пальцами на Сонину грудь, прижимая к парте. На помощь ему приходит соседка Таня по прозвищу Карамель. Она хватает Соню за волосы, так что та теперь и шевельнуться не может.
Между тем Семён Модестович уже расстегнул ширинку и достал свой первичный половой признак, который поражает весь класс недюжинными размерами. Если бы он ещё поднялся, то поразил бы стократ, но подниматься-то он и не хочет. Как ни теребит его Семён Модестович, как ни шлёпает им по Сониному лобку, как ни трёт багряную головку о молочно-белые Сонины бёдра – ни в какую.
– Блядь! – срывается недовольством Семён Модестович. – Сучка фригидная!
– Давайте я, – вызывается вдруг из второго ряда Метельский. Высокий, статный, писаный красавец, в которого тайно влюблена половина девочек класса.
Семён Модестович безразлично кивает и отходит от Сонечки. Его место торопливо занимает Метельский. Когда он приспускает штаны, то, в отличие от учителя, сразу показывает полную свою готовность. Инструмент, конечно, совсем не того калибра, но зато – на взводе.
Он торопливо входит в податливую Сонечкину плоть, отчего та вскрикивает и страдальчески шипит. Но Метельский не обращает на её боль никакого внимания – он тут же начинает быстро двигаться. По классу ползут перешёптывания и смешки.
Буквально через минуту быстрых, дёрганых фрикций Метельский шумно кончает, отдуваясь, пыхтя и постанывая. Извлекает мокрый член, который и не думает опадать.
– В жопу! – коротко командует Семён Модестович.
– А можно я? – шустро поднимает руку жгучий татарчонок Ягдашев, отличник и весельчак.
– Давай, – Метельский с готовностью уступает место, потому что в анус ему не очень-то хотелось.
Ягдашев буквально подбегает, на ходу приспуская джинсы. Как и Метельский (да как, наверное, любой из мальчиков класса сейчас) он уже в полной боевой готовности. Дутышева из соседнего ряда протягивает ему баночку крема для лица. Ягдашев торопливо смазывает член и, запыхавшись от возбуждения, пытается войти в Сонечкин анус. Получается не с первого раза и даже не стретьего, да, в общем-то, и далеко не с пятого. Семён Модестович готов уже начать радражаться в нетерпении; Ягдашев, высунув язык, сосредоточенно сопит и не оставляет попыток. Наконец-таки у него получается. Сонечка попискивает от боли. Козыкин мнёт её маленькую грудку. И снова в нависшей тишине только пыхтение – столь же короткое, как и у Метельского. Через пару минут Ягдашев сдаётся – задёргавшись, стонет и клонится к Соне, изливаясь в её тёплую прямую кишку.
Со своего места поднимается Колокольников, вопросительно глядя на Семёна Модестовича, но тот качает головой:
– Хватит. Пора кончать с этой сучкой.
Он подходит к Соне и одним быстрым уверенным движением вонзает обломок указки в её промежность. Соня кричит, срамные губы её стремительно окрашиваются алым, кровь начинает – кап… кап… – орошать потёртый линолеум на полу. Класс восторженно замирает – глаза выпучены, дыхания перехвачены, некоторые руки дрожат предвкушением Сониной агонии, подрагивают телефоны, теряя фокусы камер. Но до агонии ещё далеко-далёко. По крайней мере, Соне это короткое время покажется вечностью.
Семён Модестович медленно вынимает заалевшийся обломок указки из Сониных глубин, как шпагу из ножен. И снова – быстро – внедряет её в. Девочка стонет и бьётся – то ли в оргазме, то ли в предсмертных муках (что на вид не одно и то же ли).
Семён модестович снова вынимает и с силой, невзирая на сопротивление плоти, проталкивает указку в анус.
Ему нужно всё объяснить Соне и себе самому, но эти вялые движения обломком указки туда-сюда не дают ему ничего, кажутся какой-то безвкусицей и бессмыслицей, педагогическим его бессилием. А бессильным в педагогическом плане Семён Модестович себя не считает, да и не был таковым никогда, если реально смотреть на вещи.
Озлясь на самого себя, он выдёргивает указку и доламывает остаток о Сонину голову. Отходит.
– Давайте, – кивает он классу.
Прячутся телефоны, шуршат брюки, джинсы, юбки и платья, класс поднимается с мест и бросается к распластанной Соне, обступает тело.
Градом сыплются мальчишеские удары, и девчоночьи щипки. Кто-то дёргает Соню за сосок, кто-то рвёт полоску на венерином бугорке – волосок за волоском, щепоть за щепотью. Достаются лезвия, булавки, циркули, зажигалки…
«За Пушкина! – слышны разноголосые выкрики. – Сука ты, Сонечка!.. За Маяковского!.. За Семёнмодестыча!.. В пизду, в пизду ей засунь!.. Оба-на, глаз вытек, зырь… Ф-фу-у-у, воняет от неё… Чё, гадина, думала мой Веня тебе достанется, да? А вот обломись… В пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной… Лифчик бы свежий надела, прежде чем на Пушкина лаять… Сучка!.. Сосок, сосок отрезай. Да тише ты, палец мне не оттяпай!.. А ну-ка, прижжём нашей нигилисточке пупочек… Соси, дрянь, а не кусайся. Убью, сука, если укусишь… А давай секель ей… Соня-Соня, где твоя золотая ручка?.. Гля, вспотела как… А вот тебе, Сонечка, пирсинг на язычок… Прижигай, короче, не ссы, не завоняет… Ха-ха, она пердит, ребя! Прикольно… Ага, чё прикольного-то – вонища…»
Некоторое время Соня кричит и бьётся, и стонет и плачет, но потом затихает и только дышит шумно и с присвистом.
– Ну всё, ребятки, всё, – произносит наконец Семён Модестович. – Хватит гомонить, звонок скоро. Тише, да тише же вы, буйные головушки! Нас за дверьми послушать, так подумать можно, что у нас тут бунт и революция, а не урок литературы.
Он подходит к окну и распахивает одну створку. Обалделая от привалившего счастья муха уносится навстречу солнцу. А лукавое солнце прячется от мухи за набежавшие невесть откуда облака. Тёмные облака, преддождевые.
Несколько мальчиков подхватывают истерзанное Сонино тело и быстро несут по проходу между партами, мимо доски, мимо учительского стола и проталкивают головой вперёд в открытую створку. Переваливают трупик через карниз и – толкая в попу и за ноги – сбрасывают его в трёхэтажную бездну.
Шлепка размякшего тела об асфальт во дворе почти не слышно.
Семён Модестович закрывает окно, поправляет причёску и галстук.
– Ну что ж, ребята, – говорит он, после того как все заняли свои места за партами. – Урок подходит к концу, и наш спор останется, наверное, незаконченным – заканчивать его (а скорее – лишь продолжать) будут уже ваши потомки, и потомки ваших потомков. Ибо споры о литературе, о поэзии будут раздаваться до тех пор, пока существуют сами литература и поэзия. А я надеюсь, – он улыбается, – существовать они будут вечно. Арс, ибо, лонга, а вита, как известно, брэвис эст.
Этажом ниже, в классе, затопленном тишиной контрольной работы, стоит у окна математичка Елена Рудольфовна. Она смотрит вниз, на тело Сонечки Скоблевой, распластавшееся на асфальте снулой рыбкой, подобием сломанной куклы, невообразимым пятном Роршаха и думает: а в десятом «А», кажется, снова спорили о литературе… Светлая и немного грустная улыбка скользит по её ярко накрашенным губам.
Как же всегда живо, интересно и… и непосредственно проходят у Глотова уроки, думает она. Всё же, что ни говорите, а Семён Модестович – педагогический гений. Самое главное – он любит свой предмет, он любит детей. И ребята отвечают ему глубоким уважением к Учителю – да, именно так, с большой буквы, – с живым, незапылённым интересом они тянутся к литературе, и глаза их удивлённо распахиваются при встрече с гениями Гоголя, Чехова, Пушкина. Ах!.. как это всё же замечательно и… и немного грустно: они открывают для себя новое, великое, прекрасное, с которым им ещё жить и жить, а мы… мы отдаём им то, что сами уже давно пережили и перечувствовали, частицы душ наших отдаём и годы жизней. Но не ради ли этого и существуем мы, педагоги, не ради ли ощущения этой грусти, которая одна лишь и доказывает эффективность нашего скромного и порой неблагодарного, но столь необходимого труда! Ведь мы не только учим, мы ещё и – как тот же Семён Модестович – воспитываем. Воспитываем людей будущего – людей труда и науки, людей порыва и устремления, носителей смысла, идеи, добра. Это они – будущий стержень нашего общества, нашей великой страны, каковой стержень призваны мы огранить, закалить, выпестовать и…
Дребезденит звонок. Елена Рудольфовна с улыбкой на лице, с новым педагогическим вдохновением в сердце, с пламенеющей душою поворачивается к классу…
А за окном начинается неспешный дождь. Медленно набирая силу, он смывает кровь с нежного Сониного личика. И ещё набирает, и ещё, пока не становится полноценным ливнем.
Бегут, бегут ручейки, собираясь тут и там, соединяясь со струями из водосточных труб, на которых Владимир Владимирович уже никогда более не сыграет свой знаменитый ноктюрн, в бурный поток. Окрашенный алым, этот поток несётся к школьной ограде, где дремлет в беседке школьный дворняг Манлихер, дальше – за ограду, в канавку, по канавке, по канавке, петляя и струясь – в речушку Караську, а уж по ней – так и сяк, кругалями, и переправами, правдами и неправдами – в великую русскую реку Волгу, которая, как известно даже двоечнику Пологину, впадает в Каспийское море. Сонина кровь, всё более разреживаясь, растворяясь, распадаясь на сгустки, капли, взвесь, молекулы и атомы, становится частью великого и бесконечного круговорота воды в природе. Потом, выпав на землю в виде следующего – свежего и чистого – апрельского дождя, уходят Сонины атомы в землю нашу, матушку, вглыбь её, в самую суть и сердцевину, чтобы прорасти вдруг наружу майским удивлённым одуванчиком…
Ах, жизнь! Ах, земля моя, чёрная мать, родительница наша и прародительница, прими же. И дай же, дай же, земля, исцелую я твою лысеющую голову лохмотьями губ моих…