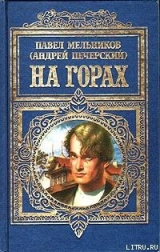
Текст книги "На горах"
Автор книги: Павел Мельников-Печерский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 74 страниц)
– И тем погубит свое рождение. Беспременно погубит, – возвысив голос, горячо заговорила мастерица. – Сказано: «Наказуй дети в юности, да покоят тя на старости, аще же дети согрешат отцовским небрежением, ему о тех гресех ответ дати». Скажи ты это от меня Марку Данилычу… Опосле, как вырастет Дуня да согрешит, будет ему от Бога грех, а от людей укор и посмех. Так-то, сударыня… Намедни, как была я у вас, поглядела на Дунюшку и поболела сердцем, ох, каково горько поболела… Девочка махонькая, а по всем горницам бегает, по стульям скачет, да еще, прости Господи, мирски песни поет… Тут бы сейчас дубцом ее, а тятенька смеется, хохочет, да и ты тоже, сударыня… Хорошо ль это?.. Что про это сказано? «Воспитай детище с прещением и не смейся к нему, игры творя: в мале бо ся ослабиши, в велице поболиши, скорбя»[35]35
Домострой, XVII.
[Закрыть]. А Василий-от Великий что юношам и отроковицам заповедал?.. А?.. Не знаешь разве, сударыня?.. «Бесстрастие телесное имети, ступание кротко, глас умерен, слово благочинно, пищу и питие немятежно»; а она у вас намедни за обедом кричит, шумит, даже, прости Господи, мирску песню запела… А отец-от ровно и не слышит, а тебе ровно и дела нет… Что дальше Василий-от Великий гласит?.. «При старейших молчание, премудрейшим послушание…» А я намедни стала было ее уговаривать маленько с пристрастием, про турлы-мурлы молвила ей, а она мне язык высунула… Благочинно ли это, по писанию ли?.. Отроковице, по Василию Великому, «не дерзкой быти на смех», а она у вас только и дела, что гогочет, «стыдением украшатися» надобно, а она язык мне высунула, «долу зрение имети» подобает, а она, ровно коза, лупит глаза во все стороны… Хорошее ли это дело, совместимо ли с законом святоотеческим?.. Сама, сударыня, посуди! Девица ты не глупая, скажи по чистой совести: хорошо ли такую волю отроковице давать?
– По-моему, вреда тут нет, – молвила Дарья Сергевна. – Ребенок еще, пущай ее порезвится…
– Нет, мать моя! – возразила Анисья Терентьевна. – Послушала бы ты, что в людях-то говорят про твое обученье да про то, как учишь ты свою ученицу… Уши вянут, сударыня. Вот что.
– Мало ли что люди говорят, – молвила Дарья Сергевна, – всех людских речей не переслушаешь.
– Что тут люди! Не люди, а я тебе говорю, – вспыхнула Анисья Терентьевна. – Я, матушка, слава тебе Господи, не одну сотню ребят переобучила. Знаю это дело вдосталь… Насчет чего другого – так, а уж насчет учьбы со мной, сударыня, не спорь. Может, верст ста на полтора кругом супротив меня другой мастерицы нет. Не в похвальбу скажу, сколько ребятенок грамоте ни обучала, мужеска пола и женска, все до единого в древлем благочестии крепко пребывают, свято хранят отеческие предания… А вы, сударыня, со своим Марком Данилычем неповинную от Бога отводите, с бесом же на пагубу приводите… Да!.. Нечего, сударыня, лицо-то косить – не бойсь, не испугаюсь, всю правду-матку выложу тебе как на ладонке… Губите вы, сударыня, со своим Марком Данилычем отроковицу непорочну, губите!.. Да-с!..
– Да чтой-то ты, Анисья Терентьевна?.. Помилуй, ради Христа, с чего ты взяла такие слова мне говорить? – взволнованным голосом, но решительно сказала ей на то Дарья Сергевна. – Что тебе за дело? Кто просит твоих советов да поучений?
Спохватилась мастерица, что этак, пожалуй, и гостинца не будет, тотчас понизила голос, заговорила мягко, льстиво, угодливо. Затаенной язвительности больше не было слышно в ее речах, зазвучали они будто сердечным участьем.
– Ах, сударыня ты моя Дарья Сергевна! Ведь жалеючи вас, моя болезная, так говорю. Может, что неугодное молвила – не обессудьте, не осудите, покройте нашу глупость своей лаской-милостью… Из любви к вам, матушка, из единой любви сказала, помнючи милости Марка Данилыча и ваши, сударыня… Люди ведь зазирают, люди, матушка. Теперь у всех только и речи, что про вас да про Дунюшкино ученье… Известно, сударыня, Марко Данилыч такой богатей, дочка у него одна-единственная. До кого ни доведись, всякому занятно посудить, порядить…
– Да что кому за дело? – с досадой молвила Дарья Сергевна.
– Народ – молва, сударыня. Никто ему говорить не закажет. Ртов у народа много – всех не завяжешь… – Так говорила Анисья Терентьевна, отираясь бумажным платком и свертывая потом его в клубочек. – Ох, знали бы вы да ведали, матушка, что в людях-то про вас говорят.
– Что такое? – чуть слышно спросила Дарья Сергевна. Вспомнились ей слова Ольги Панфиловны.
– Да вот хоть бы сейчас на базаре, – ответила Анисья Терентьевна. – Стоит Панфилиха у возов с рыбой, а сама так и рассыпается, так и рассыпается… И все-то про вас, все-то про вас да про Марка Данилыча… Им, говорит, греховодникам, и без венца весело живется. Без стыда, говорит, живут ровно муж с женой… Да и пошла, и пошла… А еще барыня, благородная!.. Ну да как же не благородная?.. Стоит взглянуть на харю анафемскую, тотчас по рылу знать, что не простых свиней… Отец-от отопком щи хлебал, матенка на рогожке спала, в одном студеном шушунишке[36]36
Шушун – верхнее платье, вроде кофты, из крашенины. Студеный шушун – сшитый не на вате.
[Закрыть] по пяти годов щеголяла, зато какая-то, пес их знает, была елистраторша, а дочку за секлетаря, что ли, там за какого-то выдала… Родословная, видишь!.. А какое у них родословье?.. От ерника балда, от балды шишка, от шишки ком!..[37]37
Ерник – кривой, низкорослый кустарник по болоту, а также беспутный, плут, мошенник; балда – лесная кривулина, дубина, а также дурак, полоумный; шишка – нарост на дереве, а также бес, черт (шишко, шишига); ком – сук в виде клуба на древесном наросте, а также драчун, забияка (комша).
[Закрыть] А вы еще, сударыня, такую паскуду до себя допускаете! Перво-наперво – неверная, у попов у церковных, да у дьяконов хлеб ест, всяко скоблено рыло, всякого табашника и щепотника за добрых людей почитает, второ дело смотница, такая смотница, что не приведи Господи. Только на самое себя сплеток не плетет, а то на всех, на всех, что ни есть на свете людей… А вы еще на глаза ее к себе допускаете. Не дело, Дарья Сергевна, не дело!.. Видите, какая от нее благодарность-то – у кого ест да пьет, на того и зло мыслит.
Не ответила Дарья Сергевна.
– Ахти, засиделась я у вас, сударыня, – вдруг встрепенулась Анисья Терентьевна. – Ребятенки-то, поди, собралися на учьбу, еще, пожалуй, набедокурят чего без меня, проклятики – поди, теперь на головах чать по горнице-то ходят. Прощайте, сударыня Дарья Сергевна. Дай вам Бог в добром здоровье и в радости честную Масленицу проводить. Прощайте, сударыня.
И тихой походкой, склоня голову, пошла вон из горенки.
Убитая нежданными вестями, Дарья Сергевна вся погрузилась в не испытанное еще ею доселе горе от клеветы. Вся она была поглощена тем горем. Краем уха слушала россказни мастерицы про учьбу ребятишек, неохотно отвечала ей на укоры, что держит Дуняшу не по старинным обычаям, но, когда сказала она, что Ольга Панфиловна срамит ее на базаре, как бы застыла на месте, слова не могла ответить… «В трубы трубят, в трубы трубят!» – думалось ей, и, когда мастерица оставила ее одну, из-за густых ресниц ее вдруг полилися горькие слезы. Пересела Дарья Сергевна к пяльцам, хотела дошивать канвовую работу, но не видит ни узора, ни вышиванья, в глазах туманится, в висках так и стучит, сердце тоскует, обливается горячею кровью. Опираясь на столы и стулья, вышла она в другую горенку, думала стать на молитву, но ринулась на кровать и залилась слезами.
Клевета что стрела, человека разит. На себя не похожа стала Дарья Сергевна: в очах печаль, в лице кручина. Горе, коль есть его с кем размыкать, – еще не горе, а только полгоря. А ей кому поделиться печалью? Не Марку ж Данилычу сказать, не с Дунюшкой же про напраслину разговаривать!.. С нянькой, с работницами тоже говорить не доводится. Поймут разве они ее кручину? Пожалуй, еще больше насплетничают! Уйти из дому Смолокурова?.. А обет, данный Олене Петровне на смертном одре ее? Бога ведь ставила ей она во свидетели, что заменит сиротке родную мать. Все обиды надо стерпеть, все оскорбленья перенесть, а данной клятвы не изгубить!.. Опять же Дунюшку жаль… Как ее с нянькой да с работницами одну оставить!.. Марко Данилыч? Его дело мужское – где ему до всего доходить, опять же почасту надолго из дому отлучается… Нельзя одну Дуню оставить, нельзя…
Долго думала Дарья Сергевна, как бы делу помочь, как бы, не расставаясь с Дуней, год, два, несколько лет не жить в одном доме с молодым вдовцом и тем бы заглушить базарные пересуды и пущенную досужими языками городскую молву. Придумала наконец.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Прошла Масленица, наступил великий пост. Дарья Сергевна таила в сердце скорбь, нанесенную ей благородной приживалкой и халдой мастерицей! Три недели еще прошло – «пролетье» наступило, Евдокия-плющиха пришла весну снаряжать[38]38
1 марта празднуют преподобной мученицы Евдокии. В народе тот день зовут «пролетьем», «Евдокией-плющихой» (потому что снег тогда настом плющат). Говорят еще в народе, что Евдокия весну снаряжает.
[Закрыть]. В тот день Дуня именинница была, восемь годов ей минуло. Марко Данилыч надарил имениннице разных подарков и, называя ее уже «отроковицей», веселился, глядя на дочку и любуясь расцветавшею ее красотою. Рада была Дуня подаркам, с самодовольством называла она себя «отроковицей» – значит, стала теперь большая – и нежно ластилась то к отцу, то к Дарье Сергевне. Евдокиин день в том году приходился в среду на четвертой неделе поста; по старинному обычаю, за обедом подали «кресты» из тертого на ореховом масле теста. В одном из крестов запечен был на счастье двугривенный, он достался имениннице. Девочка так и засияла восторгом.
– Да, Марко Данилыч, вот уж и восемь годков минуло Дунюшке, – сказала Дарья Сергевна, только что встали они из-за стола, – пора бы теперь ее хорошенько учить. Грамоту знает, часослов прошла, втору кафизму читает, с завтрашнего дня думаю ее за письмо посадить… Да этого мало… Надо вам подумать, кому бы отдать ее в настоящее ученье.
– Кому же, как не вам, ее учить, Дарья Сергевна?.. – молвил Марко Данилыч. – Не Терентьиху же приставить…
– Всей бы душой рада я, Марко Данилыч, да сама не на столь обучена, чтоб хорошенько Дунюшку всему обучить… Подумали бы вы об этом, – сказала Дарья Сергевна.
– Не в Москву же в пенсион везти, – слегка нахмурясь, сказал Смолокуров. – Пошло нынче это заведенье по купечеству у старообрядцев даже, только я на то не согласен… Потому – одно развращенье! Выучится там на разных языках лепетать, на музыке играть, танцам, а как персты на молитву слагать, которой рукой лоб перекрестить – забудет… Видал я много таких, не хочу, чтоб Дуня моя хоть капельку на них походила. Надо обучить ее всему, что следует по древлему благочестию, ну и рукодельям тоже… Так это, я полагаю, и вы все можете.
– Ну нет, Марко Данилыч, за это я взяться не могу, сама мало обучена, – возразила Дарья Сергевна. – Конечно, что знаю, все передам Дунюшке, только этого будет ей мало… Она же девочка острая, разумная, не по годам понятливая – через год либо через полтора сама будет знать все, что знаю я, – тогда-то что ж у нас будет?
Марко Данилыч задумался.
– Учителей, что ли, каких бы приискали… – начала было Дарья Сергевна, но Смолокуров поспешно ее перебил:
– Это из училища-то, что ли? Ни за что на свете!.. Чему научат?.. Какому бесу, прости Господи!
– Так другого кого поищите, – молвила Дарья Сергевна. – Подумайте об этом, Марко Данилыч.
– Ладно, подумаем, – отрывисто ответил он и круто повернулся к окну. Помолчала немножко Дарья Сергевна, другой разговор повела:
– Сегодня поста перелом, Христов праздник не за горами. Кого располагаете звать страстную службу да светлу заутреню в моленной отправить?..
– Кого позвать? Опричь Красноглазихи, некого, – ответил Марко Данилыч.
– Путает много она по минеи-то, – сказала Дарья Сергевна. – По псалтырю[39]39
Домашняя служба у старообрядцев отправляется по псалтырю, то есть читается псалтырь и после каждой кафизмы тропари празднику. Службою по минеи, или уставною, называется та, что отправляется по уставу. Великим постом справляют уставную службу по книге «Минея постная», от поста до Троицы по книге «Минея цветная», в прочие дни по «Минеи общей».
[Закрыть] еще бредет, а по минеи ей не сладить. Чтоб опять такого ж соблазну не натворила, как в прошлом году.
– Это за часами-то в великую пятницу? Из пятницы в субботу переехала, – засмеялся Марко Данилыч, отворачиваясь от окна.
– А в позапрошлом году, помните, как на Троицу по «Общей минеи» стала было службу справлять да из пятидесятницы простое воскресенье сделала?.. Грехи только с ней! – улыбаясь, сказала Дарья Сергевна. – К тому ж и то надо взять, Марко Данилыч, не нашего ведь она согласу…
– Это еще не беда, – заметил Смолокуров. – Разница меж нами не великая – та же стара вера, что у них, что у нас. Попов только нет у них, так ведь и у нас были да сплыли.
– Все-таки не единого стада, – молвила Дарья Сергевна.
– А вы уж не больно строго, – сказал на то Марко Данилыч. – Что станешь делать при таком оскудении священства? Не то что попа, читалок-то нашего согласу по здешней стороне ни единой нет. Поневоле за Терентьиху примешься… На Керженец разве не спосылать ли?.. В скиты?..
– Оченно бы это хорошо было, Марко Данилыч, – обрадовалась Дарья Сергевна. – Тогда бы настоящая у вас служба была. Все бы нашего согласу благодарны вам остались. Можно бы старицу позвать да хоть одну белицу для пения… Старица-то бы в соборную мантию облеклась, белица-то демеством бы Пасху пропела… Как бы это хорошо было! Настоящий бы праздник тогда!.. Вот и Дунюшка подросла, а заправской Божьей службы еще и не слыхивала, а тут поглядела бы, хорошохонько помолилась бы. Послушала бы певицу…
– Зачем певицу? Брать так уж пяток либо полдюжину. Надо, чтоб и пение, и служба вся были как следует, по чину, по уставу, – сказал Смолокуров. – Дунюшки ради хоть целый скит приволоку, денег не пожалею… Хорошо бы старца какого ни на есть, да где его сыщешь? Шатаются, шут их возьми, волочатся из деревни в деревню – шатуны, так шатуны и есть… Нечего делать, и со старочкой, Бог даст, попразднуем… Только вот беда, знакомства-то у меня большого нет на Керженце. Послать-то не знаю к кому.
– Да вы бы к Лещовым отписали, у них по всем скитам есть знакомство, – ответила Дарья Сергевна. – Они мигом бы весточкой дохнули на Керженец. Теперь четверта неделя, к вербному воскресенью и старочка, и белицы были бы здесь. Нынче же Пасха ранняя, Благовещенье на страстной придется, реки пропустят. Разойдутся не раньше мироносицкой.
– Не раньше, – согласился Смолокуров. – И в самом деле к Лещовым на Ветлугу разве писать. Никите Петровичу точно все Керженски обители знакомы, для меня он сладит дело, сегодня же погоню к нему нарочного.
Нефед Тихоныч Лещов свойственник был Смолокурову, на двоюродной сестре Олены Петровны женат. Человек с достатком был, но далеко не с таким, как у Марка Данилыча, оттого и старался он при всяком случае угодить богатому сватушке. Только что получил он письмо, тотчас же снарядился в путь-дорогу – сам поехал на Керженец, сам все дело обделал; и накануне Лазарева воскресенья на двор Смолокурова въехали три скитские кибитки, нагруженные старицей Макриной да пятью белицами. Старица и певчие девицы были с Каменного Вражка, из обители игуменьи Манефы Чапуриной.
Макрина уставщицей была. Несмотря на великий праздник, Манефа отправила ее к Марку Данилычу, приказав ее помощнице матушке Аркадии заправлять службой в обительской часовне. Когда Лещов рассказал дальновидной игуменье про Смолокурова, про его богатства, про то, что у него всего одна-единственная дочь, наследница всему достоянью, и что отцу желательно воспитать ее в древлем благочестии, во всей строгости святоотеческих преданий, мать Манефа тотчас смекнула, что из этого со временем может выйти… Потому, исполняя желание Марка Данилыча, хоть и в ущерб благолепию службы в своей часовне, послала она пять наилучших певиц правого крылоса, а с ними уставщицу Макрину, умную, вкрадчивую, ловкую на обхожденье с богатыми благодетелями и мастерски умевшую обделывать всякие дела на пользу обители.
Отправив страстную и пасхальную службу, Макрина не тотчас поехала от Смолокурова. Марку Данилычу старица Божия понравилась; целые вечера проводил он с ней в беседах не только от Божественного писания, но и о мирских делах; ловкая уставщица была и в них сведуща… Много ездила она по делам обительским, по всему старообрядству вела обширное знакомство, и ее рассказы очень были занятны Марку Данилычу. Стал он упрашивать ее погостить святую и на радунице хорошенько помянуть родителей. Потом отъезд келейниц замешкался оттого, что дороги попортились, от распутицы реки стало опасно переезжать… Вскрылись реки, Марко Данилыч стал Макрину упрашивать остаться до его именин[40]40
День св. Марка 25 апреля.
[Закрыть], потом до именин погибшего в море брата, чтоб отпеть за него поминальный канон[41]41
Св. Мокия 11 мая.
[Закрыть]. А тут дня через четыре Троица – не ехать же от такого праздника; через неделю после Троицы память по Олене Петровне[42]42
Св. Елены 21 мая.
[Закрыть]. Таким образом, откладывая отъезд день за день, неделя за неделю, комаровские гостьи прожили у Смолокурова вплоть до Иванова дня.
Смолокуров до того времени в скитах никогда не бывал и совсем не знал жизни обительской. Макрина в продолжение гостин много ему рассказывала про житье-бытье матушек, про их занятия, хозяйственность, богомолье. Марку Данилычу ее рассказы пришлись по сердцу; щедро наградив Манефу за службы, в его домашней моленной Макриной отправленные, обещал на будущее время быть благодетелем честной обители, если же мать Манефа с сестрами будут согласны, то, пожалуй, и ктитором сделаться. Оставаясь с глазу на глаз с Макриной, Дарья Сергевна иные разговоры вела: советовалась с ней насчет обученья Дунюшки. Жаль было расставаться ей с воспитанницей, в которую положила всю душу свою, но нестерпимо было и оставаться в доме Смолокурова, после того как узнала она, что про нее «в трубы трубят». Чтоб, не разлучаясь с Дуней, прожить несколько лет вне смолокуровского дома и тем заглушить недобрые слухи, вздумала она склонить Марка Данилыча на отдачу дочери для обученья в Манефину обитель. Только что намекнула об этом она матери Макрине, та с обычной для нее ловкостью на лад затеянное дело поставила. И были, и небылицы по целым вечерам стала она рассказывать Марку Данилычу про девиц, обучавшихся в московских пансионах, и про тех, что дома у мастериц обучались. Называла по именам дома богатых раскольников, где от того либо другого рода воспитания вышли дочери такие, что не приведи Господи: одни Бога забыли, стали пристрастны к нововводным обычаям, грубы и непочтительны к родителям, покинули стыд и совесть, ударились в такие дела, что нелеть и глаголати… другие, что у мастериц обучались, все, сколько ни знала их Макрина, одна другой глупее вышли, все как есть дуры дурами – ни встать, ни сесть не умеют, а чтоб с хорошими людьми беседу вести, про то и думать нечего. Смолокуров соглашался с красноглаголивой уставщицей, говорил, что самому ему доводилось и тех, и других видать и что он не знает, которые из них хуже. «И то еще я замечал, – говорил он, – что пенсионная, выйдя замуж, рано ли поздно, хахаля заведет себе, а не то и двух, а котора у мастерицы была в обученье, дура-то дурой окажется, да к тому же и злобы много накопит в себе…» А Макрина тотчас ему на те речи: «С мужьями у таких жен, сколько я их ни видывала, ладов не бывает: взбалмошны, непокорливы, что ни день, то в дому содом да драна грамота, и таким женам много от супружеских кулаков достается…» Наговорившись с Марком Данилычем о таких женах и девицах, Макрина ровно обрывала свои россказни, заводила речь о стороннем, а дня через два опять, бывало, поведет прежние речи… Дарья Сергевна в одно слово с ней говорила. Сумрачно глядел Марко Данилыч, молчал и, глубоко вздыхая, гладил по головке ненаглядную дочку. Потом Макрина зачнет, бывало, рассказывать про житье обительское и будто мимоходом помянет про девиц из хороших домов, что живут у Манефы и по другим обителям в обученье, называет поименно родителей их: имена все крупные, известные, по всему купечеству. Называет обучавшихся и прежде в скитах, а теперь вышедших замуж и ставших добрыми, домовитыми, умными, попечительными хозяйками… Знавал Марко Данилыч иных из названных Макриной и соглашался со старицей, что в самом деле жены они добрые, матери хорошие, потому, главное, прибавлял он, что живут во страхе Господнем. «Страх Божий при обученье девиц у нас в обители первое дело, – спешит тогда отвечать Макрина, – потому что и в писании сказано: «Страх Божий начало премудрости…» И, сказавши, опять замолчит либо сведет речь на другое. Потом через день, через два опять зачнет рассказывать, как строго в обителях смотрят за девицами, как приучают их к скромному и доброму житию по Господним заповедям, каким рукодельям обучают, какие книги дают читать и как поучают их всякому добру старые матери.
– Все это хорошо и добро, – молвил как-то раз Марко Данилыч, – одно только не ладно, к иночеству, слышь, у вас молоденьких-то дев склоняют, особливо тех, кто побогаче… Расчетец – останется девка в обители, все родительское наследие туда внесет… Таковы, матушка Макрина, про скиты обносятся повсюдные слухи.
– Не верьте, Марко Данилыч, пустым наносным речам. Эти сплетни идут от недоброхотов, – с горячностью вступилась Макрина. – Мало ль чего не говорят про нас, убогих, беззащитных!.. Не верьте… Бывает, что старые матери иным девицам внушают покрыть себя черною рясой… Таить не стану, точно бывает. Только такие советы не отецким дочерям, не богатым девицам внушаются, а сироткам, что с малолетства призрены в обители Христа ради. Ни отца у сироты, ни матери, ни ближних, ни сродников, где ж ей, сердечной, в миру главу приклонить? А в обители ей завсегда готово… Таких точно что уговариваем, а богатых ни-ни… никогда… Родных своих тоже уговариваем, у которой старицы племянненка есть бедная, либо другая сродница, таких берем на воспитанье и, точно, иной раз склоняем принять ангельский чин… А отецких дочерей как можно?.. Помилуйте!
Разговаривая так с Макриной, Марко Данилыч стал подумывать, не отдать ли ему Дуню в скиты обучаться. Тяжело только расстаться с ней на несколько лет… «А впрочем, – подумал он, – и без того ведь я мало ее, голубушку, видаю… Лето в отъезде, по зимам тоже на долгие сроки из дому отлучаюсь… Станет в обители жить, скиты не за тридевять земель, в свободное время завсегда могу съездить туда, поживу там недельку-другую, полюбуюсь на мою голубушку да опять в отлучки – опять к ней».
И вот однажды под вечерок, сидя за чаем, сказал Смолокуров Макрине при Дарье Сергевне, что думает он Дуню к ним в обученье отдать.
Другая на месте Макрины тотчас бы возрадовалась, но ловкая уставщица бровью даже не повела. Напротив, приняла озабоченный вид и медленно, покачивая головой, промолвила:
– Не знаю, что сказать вам на это, Марко Данилыч, не знаю, как вам посоветовать. Дело такое, что надо об нем подумать, да и подумать.
А Дарья Сергевна хоть и радехонька речам Марка Данилыча, но хмурится, будто ей неприятную весть сказал он. Не молвила ни единого слова.
– Чего тут раздумывать? – нетерпеливо вскликнул Марко Данилыч. – Сама же ты, матушка, не раз говорила, что у вас девичья учьба идет по-хорошему… А у меня только и заботы, чтобы Дуня, как вырастет, была б не хуже людей… Нет, уж ты, матушка, речами у меня не отлынивай, а лучше посоветуй со мной.
– Ничего не могу я тут вам советовать, Марко Данилыч, никакого без матушки Манефы ответа дать не могу, – смиренно, покорным голосом отвечала Макрина. – Такого родителя дочку принять не безделица!.. Конечно, если б это дело сбылось, матушка Манефа Дунюшку поближе бы к келье своей поместила, в своей бы «стае». Да теперь вряд ли там возможно поместить ее… Чапурина Патапа Максимыча не изволите ль знать?.. Братец матушке-то нашей по плоти: двух дочерей отдал к ней да третью дочку не родную, а богоданную – сиротку он одну воспитывает. Четвертая с ними живет матушкина воспитанница, тоже сирота безродная… Вот четыре, пятая с ними живет головщица. А горниц-то всего три и то не великие… Из этакого дома Дунюшке-то и тесненько покажется у нас – скучать бы не стала. Опять же не одну ее в обитель привезете, кто-нибудь тоже будет при ней…
– Ну вот этого я уж и не знаю, как сделать… И придумать не могу, кого отпустить с ней. Черных работниц хоть две, хоть три предоставлю, а чтоб в горницах при Дунюшке жить – нет у меня таковой на примете.
– Работниц нам не надо, Марко Данилыч, в обители своих трудниц довольно. Дунюшке все они сготовят: и помыть, и пошить, и поштопать, и новое платьице могут сшить, даже башмачки, пожалуй, справят, – сказала Макрина.
– Ну это ладно, хорошо, – молвил Марко Данилыч. – А где ж такую взять, чтоб завсегда при ней была, безотлучно смотрела бы за ней?
– А я-то на что? – вступилась Дарья Сергевна, вскинув глазами на Смолокурова. – Я с Дуняшей поеду.
– Как? – удивился и с досадой промолвил Марко Данилыч. – А дом-от как же?.. Хозяйство-то?.. Дом-от тогда на кого я покину?
– Марко Данилыч, – пристально глядя на него, сказала Дарья Сергевна. – Разве вам неизвестно, что живу я у вас не ради хозяйства, а для Дунюшки?.. Клятву дала я Оленушке Петровне, на смертном одре ее, обещалась ей заместо матери Дунюшке быть – и то обещанье, перед творцом создателем данное, сколько Господь мочи дает, исполняю… А насчет вашего хозяйства покойница мне ничего не говорила, и я слова ей в том не давала… При Дунюшке до ее возраста останусь, где б она ни жила, – конечно, ежели это вашей родительской воле будет угодно, – а отвезете ее, в дому у вас я на один день не останусь.
Повисла слеза на реснице у Марка Данилыча, когда вспомнилась ему женина кончина. Грустно покачал он головою и с легким укором промолвил:
– А не просила разве она вас, умираючи, чтоб и меня не оставили вы своим советом да заботами?.. Попомните-ка? Не говорила разве того вам покойница?
– Говорила, – потупляя глаза и слегка вспыхнув, ответила Дарья Сергевна. – Но ведь вы и того, думаю я, не забыли, после каких уговоров, после какого от меня отказа про то она говорила?
Смолк Марко Данилыч, нахмурил брови и почесал в затылке.
– Все-таки, однако ж… – начал было он, но не знал, что дальше сказать.
Подумав недолгое время, он молвил:
– Вы у меня в дому все едино, что братня жена, невестка то есть. Так и смотрю я на вас, Дарья Сергевна… Вы со мной да с Дуней – одна семья.
– А люди как на это посмотрят, Марко Данилыч? – строго взглянув на него, взволнованным голосом тихо возразила Дарья Сергевна. – Ежели я, отпустивши в чужие люди Дунюшку, в вашем доме хозяйкой останусь, на что это будет похоже?.. Что скажут?.. Подумайте-ка об этом…
– Чего сказать? Никто ничего не посмеет сказать, – резко и мрачно ответил Марко Данилыч.
– Не говорите… – с горячностью сказала Дарья Сергевна. – Может, и теперь уж не знай чего на меня ни плетут!.. А тогда что будет? Пожалейте хоть маленько и меня, Марко Данилыч.
– Кто смеет сказать про вас что-нибудь нехорошее?.. – вскликнул Марко Данилыч и, быстро вскочив с дивана, зашагал по горнице крупными шагами. – Головы на плечах не унесет, кто посмеет сказать нехорошее слово!
– Перестанем говорить о том, – спокойно промолвила Дарья Сергевна. – От басен да от сплетен никому не уйти, заказу на них положить невозможно. Последнее мое вам слово: будет Дунюшка жить в обители, и я с ней буду, исполню завет Оленушкин, не захотите, чтоб я была при ней, дня в дому у вас не останусь… Христовым именем стану кормиться, а не останусь… А если примет меня матушка Манефа, к ней в обитель уйду, иночество надену, ангельский образ приму и тем буду утешаться, что хоть издали иной раз погляжу на мою голубоньку, на сокровище мое бесценное.
И, закрыв руками лицо, зарыдала. Марко Данилыч продолжал, насупясь и молча, ходить по горнице.
– Эх, Дарья Сергевна, Дарья Сергевна! – горько он вымолвил. – Бог с вами!.. Не того я ждал, не то думал… Ну, да уж если так – ваша воля… Дуню в таком разе уж вы не оставьте.
– Мое дело сторона, – вмешалась при этом Макрина. – А по моему рассужденью, было бы очень хорошо, если б и при Дунюшке в обители Дарья Сергевна жила. Расскажу вам, что у нас в Комарове однажды случилось, не у нас в обители – у нас на этот счет оборони Господи, – а в соседней в одной.
И пошла рассказывать ни так ни сяк не подходящее к делу. Ей только надо было отвести в сторону мысли Смолокурова; только для того и речь повела… И отвела… мастерица была на такие отвороты.
Ден пять прошло после тех разговоров. Про отправленье Дунюшки на выучку и помина нет. Мать Макрина каждый раз заминает разговор о том, если зачнет его Марко Данилыч, то же делала и Дарья Сергевна. Иначе нельзя было укрепить его в намеренье, а то, пожалуй, как раз найдет на него какое-нибудь подозренье. Тогда уж ничем не возьмешь.
Раз при Макрине и при Дарье Сергевне посадил Марко Данилыч Дуню к себе на колени и, лаская ее, молвил:
– Хочешь, Дунюшка, учиться уму-разуму?
– Хочу, тятя, – весело улыбаясь синенькими глазками, отвечала девочка.
– Отдам я тебя матушке Макрине, увезет она тебя к себе домой и там всему хорошему тебя научит, – сказал Марко Данилыч. – Поедешь с матушкой Макриной?
На минутку Дуня задумалась. И, быстро вскинув головкой, блеснула на отца взорами и спросила:
– А тетя Даша поедет?
– Нет, не поедет, – молвил Смолокуров.
– Так и я не поеду, – ответила девочка.
– И учиться не станешь?
– И учиться без тети не стану, – решительней прежнего молвила Дуня.
– А если мать Макрина без тети тебя увезет?
– Убегу.
– А поймают?
– Тогда умру. Как мама померла, так и я помру, – сказала Дунюшка – и так спокойно, так уверенно, как будто говорила, что вот посидит, посидит с отцом да и побежит глядеть, как в огороде работницы гряды копают.
Заискрились взоры у Марка Данилыча, и молча вышел он из горницы. Торопливо надев картуз, пошел на городской бульвар, вытянутый вдоль кручи, поднимавшейся над Окою. Медленным шагом, понурив голову, долго ходил между тощих, нераспустившихся липок.
Река была в полном разливе, верст на семь затопило луга, полои[43]43
Низменное место, затопляемое весною.
[Закрыть] и кустарники левого берега. Попутным ветром вниз по реке бежал моршанский хлебный караван; стройно неслись гусянки и барки, широко раскинув полотняные белые паруса и топсели, слышались с судов громкие песни бурлаков, не те, что поются надорванными их голосами про дубину, когда рабочий люд, напирая изо всей мочи грудью на лямки, тяжело ступает густо облепленными глиной ногами по скользкому бечевнику и едва-едва тянет подачу. Шамра[44]44
Рябь на воде во время ровного не очень сильного ветра.
[Закрыть] бежит в одну сторону с судами, «святой воздух»[45]45
Так бурлаки зовут попутный ветер.
[Закрыть] дополна выдувает «апостольскую скатерть»[46]46
Так бурлаки зовут надутый ветром парус.
[Закрыть], и довольные попутным ветром бурлаки, разметавшись по палубе на солнышке, весело распевают про старые казацкие времена, про поволжскую вольную вольницу. Громко разносится в свежем воздухе удалая песня:
Разыгралася, разгулялася Сура-река —
Она устьицем пала в Волгу-матушку,
На том устьице на Сурском част ракитов куст,
А у кустика ракитова бел-горюч камень лежит.
Кругом камешка того добрые молодцы сидят,
А сидят они, думу думают на дуване,
Кому-то из молодцев что достанется на долю…
На другой гусянке раздался дружный, громкий хохот – какой-то бурлак, взяв за обору истоптанный лапоть и размахивая им, представляет попа с кадилом, шуткой отпевая мертвецки пьяного товарища, ровно покойника, а бурлаки заливаются веселым смехом… А на третьей гусянке неистовый вопль слышится: «Батюшки, буду глядеть!.. отцы родные, буду доваривать! батюшки бурлаченьки, помилуйте!.. родимые, помилуйте!» То бурлацкая артель самосудом расправляется с излюбленным кашеваром за то, что подал на ужин не проваренную как следует пшенную кашу…








