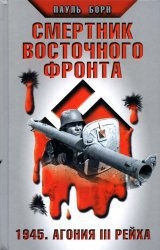
Текст книги " Смертник восточного фронта. 1945. Агония III рейха"
Автор книги: Пауль Борн
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 11 страниц)
К тому времени большинство женщин опухли, у них прекратились месячные, в основном, из-за недостаточного питания, сыграли свою роль и холод, и
нечеловеческие физические нагрузки. По прогнозам медсестер, большинство женщин-заключенных в возрасте от 20 до 30 лет остались бесплодными. Каждый день из городов и сел доставляли беременных женщин; и, естественно, и русские, и поляки оставались «ни при чем». Так вот, 98% новорожденных умирали уже несколько дней спустя. Острая нехватка питания. После этого фермеры снова забирали женщин, и отказаться было нельзя. И снова методы тюремщиков оказывались действенными. Женщины всегда стремились вырваться наружу, и, несмотря на ни на что, буквально рвались из лагеря, чтобы немного отъесться.
Нам,удавалось извлечь из этого пользу: передавать этим женщинам свои домашние адреса, нацарапанные на крошечных лоскутах ткани (за ними очень строго наблюдали, как, впрочем, и за всеми), которые они потом пришивали к одежде и таким образом выносили за пределы лагеря. Многие родственники получили первую весточку от нас именно таким способом, а потом, одурев от радости, бежали на почту и строчили нам письма – в лагере письма вскрывались, затем проводилось расследование, курьера находили и строго наказывали. Другой возможности связаться со своими родственниками у нас не было. Те, кто готовился к побегу, не сообщали о своих намерениях заранее, а адреса предпочитали держать в памяти. Однако большинство домов по этим адресам уже давно были разрушены бомбами, или все их обитатели погибли. И хоть бы раз нас, военнопленных, посетила делегация Международного Красного Кре-
JL
“1Г
ста, но нет, мы за все время представителей этой международной организации никогда не видели.
Так миновало Рождество 1946 года. Мы ненавидели праздники даже больше, чем воскресенья. Будь эти дни для нас рабочими, мы бы о них и не вспомнили. Но со временем наши надсмотрщики разленились и не желали больше работать по воскресеньям. Так было принято решение оставить рабочее время только до обеденного перерыва, а оставшиеся 6 часов перенести на следующую неделю. К тому же от нас требовали выполнять ряд заданий в бараках в наше свободное воскресное время. Нам запретили выходить на прогулки и урезали рационы – поэтому выходные стали еще одной проблемой.
На Рождество в П[отулице] было два выходных дня. Ничего, кроме обычной уборки комнат в бараках, от нас не требовали. Холод, сырой ледяной пол, пустая и жидкая бурда. Несколько дней подряд хлеб выдавали прямо из духовки, потом перестали – снова закончилась мука. Половину нормы хлеба раздали в первый праздничный день, а на второй день – ничего. Мы голодали и, что еще хуже, замерзали. Даже самые бодрые и жизнерадостные из нас забыли все рождественские песни. На Рождество в П[отулице] мы не упустили возможности пожелать Польше всего самого наилучшего.
Следующие несколько месяцев хуже всех пришлось ревматикам. Мое тело долгое время отказывалось повиноваться. Казармы для наказанных упразднили, нас распределили по старым баракам. Красные отметки на нашей форме теперь уже утратили значение. Когда же освободят военнопленных? После того,
как поздней осенью увезли несколько сотен больных гражданских, неспособных работать, стали ходить слухи о том, что будто бы весной организуют нашу отправку домой. Дадут ли нам снова увидеть свои дома, жен, детей и родственников? Просочились новости и о том, что союзные державы намерены потребовать у русских нашей экстрадиции. Иногда нам попадались старые смятые газетные листы, которые мы прочитывали тайком, польская пресса представляла собой сплошную пропаганду и россказни о том, что, дескать, Польша выиграла войну без чьей-либо помощи.
С каждым новым днем углублялось безразличие, казалось, нас уже ничего не могло удивить. Даже старые шутки уже перестали быть смешными. В людях росла раздражительность, они впадали в уныние, что лишь усугубляло и без того безрадостное их существование.
3 мая 1947 года я получил письма из Касселя от брата и жены. Самая важная и волнующая новость – все мои родственники, кроме моего младшего сына и брата, живы, у них есть крыша над головой, достаточно еды, и они ждут не дождутся моего возвращения. В тот день я собрался с силами (хотя уже был готов сдаться) и скомандовал себе: что бы ни случилось, ты обязан выжить.
На следующее утро kierownik вызвал меня к себе в кабинет. По дороге я лихорадочно вспоминал, в чем провинился, и гадал, будут ли меня бить. Если да, то я не отступлюсь. Мне хватит сил, чтобы заехать ему кулаком в физиономию. Пока что меня здесь никто не трогал, и я никому не дам спуску.
Kierownik, когда на него нападала охота, говорил на вполне приличном немецком языке, но обычно сначала в ход шли его кулаки. Очень многие заключенные, женщины, дети и даже надсмотрщики испытали их силу на себе, им было что рассказать о визитах к нему. Он никого не отправлял в карцер, а самолично вершил правосудие тут же, у себя в кабинете, что вызывало у меня даже подобие уважения.
– Ты жаловался на плохое обращение, почему?
– Вас обманул какой-то жалкий доносчик, который не мог слышать эту жалобу от меня лично, но если он доложил вам о моих критических замечаниях, не стану этого отрицать.
– И что же тебя не устраивает?
– Кто из нас может рассыпать похвалы?
– У тебя самого раньше были работники?
– Были, и много.
– Я хочу знать, жаловался ли ты сам на меня?
– Пока что у меня не было на то оснований.
– И что ты думаешь о Польше?
– Я не задумывался над этим, а свою родину люблю, так же, как и вы свою.
На этом вопросы закончились. Опять мне повезло. Он раньше меня узнал о том, что я покидаю П[оту-лиц], и до моего отъезда решил поговорить с немцем, который его не боялся.
В тот же день после обеда меня и еще нескольких человек отправили в неизвестном направлении. Наша группа состояла из молодого баварца, двух фермеров и четырех женщин, одна из которых, бывшая владелица отеля, тоже была приговорена в 3 годам заключения за членство в партии.
Два милиционера, приятная компания, нечего сказать, препроводили нас на железнодорожную станцию С[лесин], в 8 километрах к востоку. Поезд уже ушел. На ночь нас разместили в сельском полицейском участке, а на следующее утро мы должны были сесть на поезд в Б[ромберг]. Участок располагался в здании школы, там было с полдесятка дружелюбно настроенных молодых ребят, надо сказать, они отнеслись к нам вполне по-человечески.
Женщин тут же отправили на кухню, и скоро на столе перед нами появилась огромная миска вареного картофеля и кофе. Мы наелись и закурили. Надежно запертое помещение без окон стало нашим приютом на ночь.
Поезд пришел вовремя. Простояв полдня, состав отправился на Б[ромберг]. С тех пор, как мы были здесь последний раз, ничего не изменилось. Кучи мусора и грязи остались там же, где и были полтора года тому назад, а вгсесильные русские все так же толклись на городских улицах. Местное население изумленно глазело на нас, как будто спрашивая: «Неужели это все еще не закончилось?» Мы шли по этому городу, словно попав в иной мир.
Здание полиции распахивает перед нами двери своего подвала. Немногочисленные камеры заняты, в основном, поляками в форме, оказавшимися здесь чаще всего по причине пьянства, их держали здесь несколько часов, день или даже целую ночь. Моего младшего товарища отправляют на уборку камер, и он возвращается с хлебом и сигаретами. Нас отделили от тех, с кем мы сюда прибыли. Поздно вечером дежурный офицер открывает дверь камеры, он при-
JL "IГ
нес немного еды. Все убеждены, что отсюда нас отправят на Одер. Читая наш приговор, они только качают головой – никто не верит, что нас будут держать за решеткой.
На следующий день, в 12 часов, нас двоих отправляют на вокзал под удвоенной охраной. По узкоколейке поезд везет нас в К[ониц], на конечную станцию. В полицейском участке к нам приставляют охрану. Они звонят по телефону в администрацию тюрьмы, перезаряжают автоматы, и мы проходим через городок под названием К[ониц]. На самой окраине возвышается старинная церковь, и перед ее главным входом нас останавливают. В массивной стене церкви открывается маленькая дверь. Мы стоим в просторном зале, отгороженном от внутреннего двора коваными металлическими прутьями, доходящими до самого потолочного свода церкви.
Моя первая мысль: тюрьма. И тут же ее сменяет новая: странно, но тюрьмы почти всегда стоят стена к стене с церквями. Справа и слева полуоткрытые старинные, тяжелые дубовые двери, обитые кованым железом. Вижу и кабинеты, и помещения для охранников, как в казармах. Служащие и милиционеры деловито снуют туда-сюда, но вместо привычного оружия в руках у них тяжелые старинные ключи. Мы внимательно и с любопытством осматриваемся. Поношенные мундиры и фуражки выдают в нас солдат, и нам задают массу вопросов: правда ли, что мы военнопленные, что за преступления мы совершили и сколько лет нам дали. На каждый вопрос, заданный по-польски, я не отвечаю, притворившись, что не по-
нимаю ни слова. Мой товарищ следует моему примеру.
К слову сказать, мы валимся с ног от усталости, но приходится дожидаться начальника, наделенного соответствующими полномочиями, его вызвали из города. Наконец начальник появляется, судя по знакам различия, это поручик. На безупречном немецком он расспрашивает меня – откуда мы, какой суд вынес приговор и так далее.
– Должно быть, произошла ошибка. Но я все выясню – я сейчас же позвоню куда следует.
Он идет к телефону, возвращается, сожалеет о том, что ему придется временно задержать нас и, наконец, отдает охране приказ увести нас. Похоже, он человек воспитанный и беспристрастный и, видимо, совершенно не желает с нами связываться.
Через низкую дверь тюремщик ведет нас во внутренний двор, ко входу в непосредственно тюремное здание. Мы останавливаемся слева от входа, у другого кабинета, перед толстыми прутьями решетки. Моему товарищу тут же велят зайти, а несколько тюремщиков снова пытаются завязать со мной разговор по-польски. И я снова игнорирую их расспросы. На их лицах проступает плохо скрытая ненависть, и они церемониться со мной явно не собираются.
Один из них молнией подбегает ко мне и сбивает у меня с головы фуражку, после чего носком ботинка отшвыривает ее в сторону и приказывает мне, опять же по-польски, поднять ее. Я делаю вид, что «ничего не понимаю», но, стиснув зубы, гляжу на этого «героя». Остальные тоже явно заинтересовались, чем все это кончится, и все время подуськивали его под-
JL
~1Г
дать этому сукиному сыну как следует в живот. Я уже грешным делом заволновался, но тут распахнулась дверь и с побагровевшим лицом, спотыкаясь, вышел мой товарищ.
«Начальник» сидел за одним из трех столов с сигаретой во рту, поигрывая дубинкой. Он тут же спросил меня на своем родном языке, почему это я еле переставляю ноги. И ему я заявил по-немецки, что, дескать, польского не знаю.
– Ничего, я за две недели выучу тебя польскому, – бросил он в ответ и, вскочив из-за стола, ткнул меня дубинкой в физиономию. Но размахнуться не успел, потому что я неожиданно спросил его:
– Вы польский офицер?
Он на мгновение замер, пристально меня разглядывая. Похоже, что мой вопрос задел его, потому что ему явно не хотелось терять лицо, и он предпочел обойтись лишь грозным криком.
– Ты военнопленный? Kolera Niemniez – здесь ты заключенный, и если тебе удастся выйти отсюда живым, тогда уж точно станешь королем Англии, это я тебе обещаю. И запомни – это не просто тюрьма, это исправительное учреждение. Ты был офицером?
Не отвечаю.
– Сколько поляков ты убил?
Не отвечаю.
– У нас есть свои приемы, ты заговоришь, проклятый немец. Na zellie (в камеру его). – Другой тюремщик ведет нас к каменной лестнице за решеткой, мы проходим сначала третий, потом четвертый, пятый этажи, а на шестом нас принимает другой «служащий этажа». Сначала он тщательно обыскивает
нас. Затем одна из многочисленных дверей открывается и захлопывается за нами. Теперь мы буквально сидим под замком.
Гостеприимным это место явно не назовешь. Начальник заехал моему товарищу в живот и опробовал на его плечах свою дубинку. Меня не покидало чувство, что самое худшее впереди и что все зависит от того, насколько мы сумеем сохранить самообладание. Сколько мы здесь проведем? Год? Три? Здесь, вот в этой камере? Будучи отданными на откуп самодурам, каких мы видели внизу? Нет и нет, такое невозможно. Может быть, это здание, эти камеры – последнее, что мы видим в жизни. Но если даже это так, все равно надо держать себя в руках. Этим субъектам, которые в свое время не могли заработать даже себе на еду, которые готовы были ноги нам целовать за то, что за воровство мы их только журили, которые выклянчивали у нас сезонную работу, – им меня ни за что не сломить. Я перед ними на колени не стану. Я так и заявил своему товарищу, который уже готов был расклеиться.
Снова лязгает ключ в замке. Отодвигаются два засова. В дверях, ухмыляясь, стоит заключенный с блестящим алюминиевым котлом в одной руке и таким же блестящим ковшом в другой, у него за спиной – тюремщик. У нас нет ни ложек, ни мисок, но нам быстро приносят и то, и другое, наполняют миски до краев, – хлоп – дверь снова закрывается. Кажется, здесь все постоянно куда-то спешат.
Суп, а его больше литра, ничем не хуже, чем в П[отулице]. Однако у нас такое настроение, что кусок в глотку не лезет. Казалось, этот полный неприятностей и нервотрепки день никогда не кончится. И снова ключ поворачивается в замке.
– Еще хотите?
– Нет, мы наелись.
– Вот ваш хлеб.
Заключенный (явно получивший привилегию разносить пищу по камерам за хорошее поведение) передает нам два тонюсеньких ломтика хлеба, а охранник предлагает прикурить. Мы молча смотрим на него. Неужели он собрался подкупить наше расположение? Или просто издевается? Тем не менее, достаю предпоследнюю сигарету и наклоняюсь, собравшись прикурить ее. Будто он не начальник, а угодливый официант в ресторанчике. В Польше каждый, на ком форма, – «начальник».
Заключенный сгорает от любопытства и расспрашивает моего товарища, пока пан в форме, предложивший огонька, задает мне разные вопросы. Бац! Снова тяжелые двери захлопываются. С нами такое происходит впервые, нам не только можно курить, нам даже предлагают спички.
Наша камера пять с половиной шагов на полтора, маленький столик, один стул, железная кровать, поднимаемая к стене на цепи. Еще есть маленький столик для умывальных принадлежностей, служащий одновременно и туалетом, если убрать таз, кувшин для воды и крохотный стенной шкафчик для мисок и ложек. Если забраться на стул, то в окно через решетку видна часть внутреннего двора. Стены здесь толщиной в полтора метра. Пол застелен старыми, вытоптанными, но до блеска натертыми дубовыми досками.
Как и следовало ожидать, в первую ночь мы не можем уснуть, хотя места для двоих на койке вполне хватает. Часы на башне отбивают каждую четверть часа, а между ударами мы слышим крики охраны: во внутреннем дворе смена караула. Массивные стены, окружающие двор, сверху усеяны битым стеклом, вдавленным в цемент и охраняются расположившимися на крыше пулеметчиками. Время от времени по стене камеры скользит луч прожектора.
В первый день на рассвете звонит колокол – общий подъем. Здесь наверху нам он еле слышен. Через 15 минут снова удар в колокол. Затем с короткими интервалами два удара, три удара, четыре удара и так далее. Восемь ударов для нас, мы самые последние. Звякает ключ в замке. Ведро с нечистотами выставляется наружу, в это же время мы получаем воду. Через полчаса нам дают пол-литра кофе и столько же хлеба, сколько вечером – всего около 400 граммов. Мы не успеваем доесть его, как вновь распахивается дверь, и нам предлагают прикурить. Последнюю сигарету мы делим на двоих.
И тут в камеру буквально влетает новый заключенный, он еле успевает увернуться, чтобы ноги не прищемило закрывающейся дверью. Оказывается, парикмахер. Пять минут спустя мы обриты наголо. Бесполезно и пытаться заговорить с ним. Он молчит, словно воды в рот набрал, а покончив с нами и условно постучав в дверь, так же быстро и исчезает из камеры.
После этого охрана ведет нас по лабиринту коридоров, и вскоре мы стоим перед зарешеченной дверью в помещение, где нам предстоит сдать все личные вещи. Их регистрируют и прячут в мешок. Мне прямо в лицо швыряют новую, с иголочки, форму, как в П[отулице]. И на ногах у меня теперь новые башмаки, на теле новая рубаха, свежее белье, носовой платок, одеяло, простыни, подушка и миска. Нам быстро суют деревянные ложки, затем доставляют снова в камеру. Теперь у нас вполне подходящий вид, то есть мы неотличимы от остальных заключенных.
Пока нас не было, на пол в камере выплеснули ведро воды с хлоркой, а соломенный матрас протрясли. Это мы понимаем – уборка. Мы почти заканчиваем убирать камеру, когда нас переводят в другую камеру, где точно такой же бардак, мы прибираем и ее. Оттуда мы идем в третью, и так далее. После нескольких часов «выполнения обязанностей» нас отводят обратно к себе, где снова обнаруживаем воду и солому, уборка начинается по новой. Наконец, пол отполирован до блеска, и можно передохнуть.
Ровно в полдень звонит колокол, до восьми ударов, как и утром. С каждым ударом собирается каждое последующее отделение в 6—8 человек, в перерывах между сигналами заключенные строем, в колоннах по два, направляются через двор в кухню – к наполненным алюминиевым котлам. Решетки в каждом помещении и на каждом этаже лестничной клетки отпирает и тщательно запирает дежурная охрана. По дороге и словом ни с кем не перебросишься, стоит охраннику услышать, как тебе и твоему собеседнику гарантирован карцер.
Пища такая же, как в П[отулице]. В полдень литр водянистого супа, вечером – еще пол-литра такого же супа, только погорячее. Хлеб тоже довольно вкусный. Ровно час спустя после еды снова звонит колокол – сигнал па kubbla wodda (ведро с водой для мытья). Одно или несколько ведер из туалета выносят из камер во внутренний двор в прежней очередности. Ведра наполняют чистой водой, подаваемой насосом, и мы их забираем. В каждой камере есть центральное отопление, но нет смыва, вообще нет сантехники.
Ужин в 5.30. В 6 часов kostka; мы снимаем одежду, потом – перекличка, все, кроме нижнего белья, аккуратно складывается в стопку на стул или на скамейку в коридоре. Zellownie (старший по камере) проводит инспекцию, всех пересчитывают, и, согласно правилам, нас отпускают с пожеланиями dobranocz (спокойной ночи). В отличие от П[отулица], здесь по ночам нас не тревожат. Даже если после переклички заключенные перебьют друг друга, дверь камеры останется закрытой до самого утра, согласно правилам.
На третий день прибыло пополнение – поляк, получивший 15 лет за пособничество немецким оккупантам. Без сомнений, это подсадная утка. Мы ведем себя с ним очень осмотрительно, воздерживаясь от любых высказываний. Вероятно, агент провалил задание, потому что, какое-то время спустя, появляются еще двое; они получили 10 и 20 лет, соответственно, за те же преступления. И нашим новым сокамерникам мы не даем себя обвести вокруг пальца, хоть это оказывается непросто.
Несмотря на то, что никто здесь ни слова не понимает по-немецки (а мы всеми силами скрываем, что немного понимаем по-польски), мы узнаем много нового и полезного о тюрьме. В ней содержится 700– 800 заключенных, немцев процентов шесть. 140 человек охраны. Здесь представлено все польское общество: священники, адвокаты, правительственные чиновники, офицеры, осужденные за сотрудничество с немцами, дезертиры, владельцы приобретенного незаконным путем огнестрельного оружия и так далее. По численности эта группа совпадает с другой группой – совершенно неграмотных заключенных. У них сроки от 5 лет до пожизненного заключения, за те же преступления, а еще здесь сидят и за грабежи, и за убийства, и за кражи. Позже я познакомился со многими интересными и даже приятными людьми.
На пятый день нас отводят к speziallnie, который к тому времени уже узнал о нас все, что мог, от доносчиков. Моему товарищу опять не повезло, после долгого пребывания в зловещем кабинете он снова вышел оттуда с разбитой головой. И только вечером признался, что еще получил удар в живот.
Внешне я выглядел очень спокойным, постоянная натянутая улыбка. Какой-то приземистый и коренастый человек спрашивает у меня по-польски, какие у меня воинское звание и должность. Когда я, извинившись, заявляю, что не понимаю его, он зовет переводчика. Оказывается, от меня требуют признания в том, что я был офицером СС, мол, у них есть доказательства. Сколько поляков я убил? Поскольку я уже привык к такого рода допросам, они не производят на меня особого впечатления, и я молчу. Тогда этот добродушный человек открывает крышку стола, достает маузер и кладет его на стол рядом с дубинкой.
Я должен выбрать первое или второе, а если я немедленно не заговорю, он сделает выбор сам.
– Конечно, я перед вами бессилен, – отвечаю ему, разумеется, по-немецки, – в этом роскошном здании вы можете уморить меня голодом, расстрелять, но вы не имеете права так обращаться со мной.
Ему не нужен переводчик, чтобы понять меня, он прекрасно говорит по-немецки.
– Ничего, мы еще поговорим, – отвечает он мне.
А заканчивает разговор уже по-польски:
– Скоро ты сломаешься и будешь ползать у меня в ногах.
Ладно, в конце концов, меня отпустили, и на том спасибо. Короче говоря, я, видимо, прошел через самое с1грашное испытание в лагере.
В тот же день нас переводят в другое крыло здания на 14-дневный карантин. В огромной камере 17 человек. У каждого своя деревянная койка, вернее, двухэтажные нары, как в казармах. Заключенные здесь не очень разговорчивы – каждый видит в соседе доносчика. Все предпочитают молчать и не обнаруживать знаний немецкого из опасений вызвать подозрения. Так что приходится общаться шепотом. Zellownie, как и везде, злоупотребляют своей властью как только можно. Тем, кто настроен против них, нет ни минуты покоя – они обо всем докладывают начальнику, а это уже наихудший сценарий.
Дневной нормы работы нет, кроме обычной уборки и возможных наказаний, но каждый может добровольно отправиться на работу за пределами территории тюрьмы. По сути, заключенные – единственные, кто работает в тюремном саду и на фермах. Есть еще работа в мастерской плотника и в мастерской автомеханика. Есть места и в мастерской плетеных изделий, но я не проявляю интереса. На работу за территорией большой спрос, потому что там время летит быстрее, да и хоть какое-то разнообразие. Кроме того, с тех, кто работает, снимают ненавистные обязанности внутри тюрьмы. Однако, чтобы хорошо работать, нужно хорошо питаться, а это могут позволить себе лишь те, кто получает передачи.
За несколько недель я успел поработать в саду и в поле, даже загорел, но я быстро растратил силы. Чтобы отвертеться от работы, я отправился в лазарет, сославшись на снова воспалившуюся рану на ноге. К тому времени я уже успел побывать и в карцере.
Дело было так.
Моя камера находится на третьем этаже, и через высокую решетку видна часть маленького внутреннего двора, где заключенные совершают ежедневную пятнадцатиминутную прогулку. Согласно правилам, они двигаются кругом на расстоянии 5 шагов друг от друга, обходя газон. Стоять у окна строго воспрещалось, как и смотреть вниз. В кругу заключенных я узнаю молодого человека, с которым мы вместе были в П[отулице] и частенько беседовали. И вот, к моему ужасу, он тоже, оказывается, здесь. Как-то он на расстоянии почувствовал мое желание обменяться хотя бы кивками головы, и вот, задрав голову, смотрит вверх, причем прямо на меня. Естественно, замечает меня, на его лице проступает удивление. Пару секунду спустя он поступает глупее некуда – машет мне рукой. Я слышу отрывистые слова команд, проходит совсем немного времени, и дверь моей камеры от-
крывается. Да, признаюсь, я помахал тому парню внизу. Меня ведут вниз, в подвал, минуя бесконечные коридоры, и, наконец, мы останавливаемся у одной из бесчисленных дверей. Мне велят раздеться догола, вталкивают в камеру, и тут же тяжелая дверь захлопывается за мной. Не видно ни зги, к тому же я стою чуть ли не по колено в воде. Карцер три шага на два, под ногами холодный цементный пол. В общем, дыра приятнее некуда. На следующий день я едва держусь на ногах, чувствую, вот-вот упаду под ноги охранников, когда они отпирают двери карцера. Даже одеться и то не могу без посторонней помощи.
Ходят слухи, что из П[отулица] перевели в наш госпиталь молодого доктора. По описанию вроде он, и мне не терпится с ним увидеться. Жалуюсь, что, дескать, у меня открылась рана, требующая лечения, и после прохождения всех формальностей оказываюсь в госпитале. Да, это на самом деле он. Когда он узнает меня, то невольно роняет на пол ножницы. После обследования врач распоряжается немедленно направить меня на лечение. Однако санитары-поляки категорически против – немцу, тем более знакомому доктора К., никак нельзя позволить валяться в кровати и бездельничать. Да, врач должен лечить заключенных, но распоряжаться здесь не может. Однако несколько фраз на латыни свое дело делают, и завтра утром меня показывают главному врачу.
Главный врач, горький пьяница, разумеется, был под хмельком на следующий день, тем не менее осмотреть меня согласился и приказал без промедления поместить меня в госпиталь. Лучшие мои недели я провел именно в тюремном госпитале. Доктор К.
навещал меня несколько раз в день. Он всегда заходил ко мне в последнюю очередь, чтобы вместе покурить украденные сигареты. У нас всегда были темы для разговоров, а когда какой-то поляк настучал на нас, он проявил твердость характера, выбив ему парочку зубов.
Со временем к нам стали относиться как к фронтовым товарищам, которые не предадут друг друга и к которым надо проявлять уважение. Остальные пациенты, поляки, всего 11 человек, получали передачи. Кое-что перепадало и нам. В целом, поляки – народ добродушный и щедрый.
Госпитальный паек был получше. Большинство пациентов съедали лишь половину, и впервые у меня было хлеба в достатке. Те, кому присылали табак, молча сворачивали одну сигаретку для пана доктора и одну для dobra Niemniez (доброго немца), которого по вечерам не приходилось упрашивать, чтобы рассказал какую-нибудь любопытную историю или пересказал прочитанную книгу. Чтение для большинства из этих людей было и оставалось занятием совершенно диковинным. Они с волнением слушали, сидя на краю кровати, как дети, и не могли наслушаться.
Каждый день всем давали немного рыбьего жира, но мало кто его пил. Я принимал его, пусть даже и с отвращением, но так в моем организме оказывалась еще четверть литра живительной субстанции. Я много спал, отдыхал и ел – это помогло мне за три недели восстановить силы. Доктор К. убедился в том, что последняя, маленькая ранка на моей ноге затянулась, за ней требовалось наблюдать еще 2 недели. Но больше мы не могли откладывать мою выписку.
JL "IГ
На следующие 8 дней меня поместили в камеру-одиночку. Причем безо всяких объяснений. Обычно только самые серьезные проступки предполагали такую кару. Гнетущая тишина и полное одиночество – это на самом деле вынести непросто. Какое-то время спустя ты начинаешь пугаться звука собственного голоса, и все же, если ты хочешь избежать полного сумасшествия, необходимо разговаривать хотя бы с самим собой. Какие приговоры выносил бы судья, если бы ему пришлось просидеть 14 дней в одиночной камере, где нет даже ни единой мухи, клопа, газеты, книги, бумаги, карандаша, ни единого гвоздя, ни часов, ни солнечного света, ни кусочка неба, размеров с ладонь? Только здесь начинаешь понимать, почему закоренелый преступник не исправляется в тюрьме, почему после освобождения он становится изворотливее, злее и опаснее.
Камера № 15 в oddczia (отсеке) 4 расположена в северо-восточном крыле большого отделения X. (так организована тюрьма). Кроме меня, здесь 22 заключенных, которых называют «Фострот». Это люди, имеющие польские корни, но, несмотря на то, что они говорят, читают и пишут на отличном польском языке, на самом деле – немцы. Правительство ненавидит их пуще всех остальных, при любой возможности они подвергаются террору. Из-за того, что они жили на самой германо-польской границе, им с 1914 года приходилось балансировать, ходить по лезвию ножа, между чередовавшейся властью поляков и немцев. Если немцы интересовались их политическими взглядами, они становились коренными жителями
Германии, если обстоятельства менялись – они становились лояльными поляками.
Высокопоставленный чиновник города Т. Лишился ноги, руки и глаза, сражаясь на передовой в 1914– 1918 годах. Он бегло говорил и грамотно писал на обоих языках и после войны продолжил работу в местной администрации под властью поляков, до самого 1939 года. Затем эту территорию захватили немцы и оставили ему ту же должность. За время работы у немцев он спас многих поляков из рук немецкого гестапо. В 1945 году вернулась польская власть, и его приговорили к 20 годам заключения за сотрудничество с немцами.
Еще один – простой фермер, отличился в боях 1914—1918 гг., был серьезно ранен. Между двумя войнами он прожил спокойно, примерно по той же схеме. Но был приговорен поляками к 15 годам заключения за то, что ударил мальчишку, пытавшегося его обокрасть.
Бывший судья и адвокат Д. оказался в такой же ситуации. Он честно исполнял свои обязанности вне зависимости от действующего режима, и, поскольку он осудил среди других нескольких поляков, его бросили за решетку на всю оставшуюся жизнь.
Священники проповедовали слово божье на польском и на немецком языках, чего «ни в коем случае нельзя было делать». И вследствие этих «прегрешений» застряли в этом месте на неопределенный срок. Немецкие власти привозили в оккупированный ими польский округ чиновников и доверенных лиц со всех концов Германии, они вовремя не сумели уехать, вот их и заперли здесь без суда и приговора.
Завершала галерею камеры № 15 группа безграмотных польских преступников, получивших сроки за ограбления и убийства. Это были изверги, которые, используя все свое свободное время, постоянно изобретали новые формы издевательств для своих сокамерников. Находясь под защитой администрации, они постоянно и открыто издевались над своими соседями. Горе тем, кто оказывал сопротивление. Они докладывали о непослушании, и жертву забирали из камеры, после чего какой-нибудь садист буквально кромсал виновного на части. Частенько жертву возвращали обратно в камеру со сломанными ребрами, выбитыми зубами и так далее. Мол, свалился с лестницы. Никто даже не осмеливался признаться в том, что его избили.








