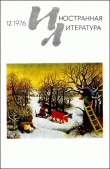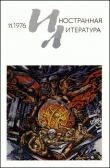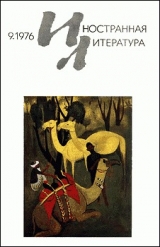
Текст книги "Кружевница"
Автор книги: Паскаль Лене
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
Мать Помм отправилась выполнять поручение в ближайший же понедельник. Но студент уже не жил в той комнате. И привратница не знала, куда он переехал. Правда, дамочка может послать письмо на адрес его родителей, в Нормандию. И привратница дала адрес – теперь уж письмо наверняка до молодого человека дойдет.
И в самом деле несколько дней спустя Эмери де Белинье получил письмо с извинениями Помм и продавщицы из молочной.
Но побудем еще минуту с будущим хранителем музея; понаблюдаем за тем, как он читает письмо, а потом удалимся, покинем его – пусть замыкается в своем одиночестве. Ведь что бы ни произошло с Помм, Эмери в еще большей мере труп, чем она. И лицо молодой утопленницы не исчезнет, когда его не станет, как кучки хвороста. Оно, так сказать, будет вечно сиять своей чистотой, пережив все горести Помм и самое ее смерть.
Будущий хранитель музея обосновался в скромной меблированной квартирке напротив Пантеона. Его прельстил контраст между простотой жилища и величием памятника, который возвышался прямо перед окном. Подойдя к нему, Эмери с волнением видел совсем рядом то, что, возможно, готовила ему судьба. Он часто представлял себе свою смерть вот так. И совсем это было не страшно: душа покидает кокон плоти и летит над собственным похоронным кортежем. Эмери восхищался строгим порядком процессии. Впереди шествуют академики (он узнал свою шпагу и ордена на черной бархатной подушечке, которую несет ученый секретарь). За ними – министр культуры, за ним – члены парламента, художники, писатели. А дальше, насколько хватает глаз, колышется черное великолепное море толпы.
В глубине души Эмери испытывал облегчение от того, что расстался с Помм. Теперь он мог в свое удовольствие предаваться мечтам о себе, не стесненный молчаливым, но бестактным осуждением девушки.
Он прекрасно понимал, что тщеславия у него хватает, – как, например, он ликовал, воображая, что говорят о нем в его отсутствие, и картина собственных похорон являлась как бы апофеозом его мечтаний. Но при этом Эмери убеждал себя в том, что ребяческое его тщеславие (быть может, чуть смешное?) – лишь изнанка глубокой застенчивости, неуверенности в себе, скребущей его даже в минуты самых безумных фантазий.
Ибо наряду с ними у него бывали периоды депрессии, отвращения к себе. Тогда и собственное тело и душа казались Эмери тщедушными и хилыми. И ему необходимо было взять реванш, хотя бы помечтать о будущем величии.
Итак, Эмери расстался с Помм без особых переживаний, но именно поэтому он был недоволен собой: ведь это принижало его, лишний раз доказывало прозаичность его натуры. Нет, не дано ему пережить сильную боль, – он пережил лишь сильный насморк, который подхватил, гостя у родителей. В Париж он вернулся с мучительным кашлем и слезящимися глазами. Он не мог даже читать, так как яркий свет и белая бумага раздражали глаза. И все из-за чудовищного насморка. Он глотал таблетки аспирина и думал, что, возможно, в эту самую минуту Помм принимает снотворное. Это унижало его. Он завидовал Помм – завидовал тому, что она в своем чемоданчике унесла, быть может, большие чувства. В конце концов он выбрался из мучительных сомнений, убедив себя в том, что для него, при любых обстоятельствах, не настало еще время лететь над собственным похоронным кортежем.
Главная его претензия к Помм заключалась в том, что она увлекла его в мир, где царят вещи. Вспоминая Помм, он всегда видел ее с метлой или консервным ножом, в розовых резиновых перчатках. Из-за этого он и решил поменять комнату: ему хотелось избавиться от вещей, которыми Помм наводнила дом.
Но и в своей новой комнате он обнаружил эти вещи или почти такие же. Здесь тоже стояла раковина, на ней – выщербленный стакан для полоскания зубов... и все это с немой иронией неотступно взирало на него. Он пытался найти спасение в книгах, но и они, хитрецы, превращались в вещи, когда лежали стопкой на столе. А в довершение всего каждое утро на лестничной площадке он встречал уборщицу с тряпкой и ведром в руках, которая тоже застывала, словно вещь, и тупо смотрела, когда он проходил мимо. Да, не каждый день наблюдал он собственные похороны в Пантеоне!
А потом однажды вечером на Эмери вдруг снизошло озарение. Он нашел способ удалить размолвку с вещами, наполняющими мир. Он будет писать! Он станет писателем (великим писателем). И Помм вместе с вещами, окружавшими ее, окажется, наконец, всецело в его власти. Он распорядится ею по своему усмотрению. И сделает из Помм то, о чем мечтал, – произведение искусства. А в конце повествования даст читателю понять, что в самом деле знал Помм. И соблаговолит признать, что не сумел полюбить ее. Он видоизменит живущий в нем стыд и легкие угрызения совести, из слабости сотворит произведение искусства. И читателя оно взволнует до самой глубины души.
Заснул он в разгар коктейля, окруженный литературными знаменитостями, журналистами и стрекотом кинокамер. На секунду его кольнуло что-то вроде благодарности к Помм. И он чуть не проснулся.
IV
Когда мы расстались – Кружевница и я, – это никак нельзя было назвать разрывом. Мы и словом об этом не обмолвились. Ведь о будущем мы никогда не говорили.
Мне она очень нравилась, моя Кружевница. Мы жили рядом, бок о бок, но взгляды на жизнь у нас были разные, и по-разному распределялось время, поэтому виделись мы мало. Мы никогда не ссорились. Для этого не было повода. Мы просто уехали из нашей комнаты – и все.
Что до меня, то я на год или на два отправился в провинцию. Кружевница вернулась к себе. Мы условились, обещали друг другу, что будем видеться часто. А потом так и не увиделись. Не было повода. В этом мы тоже очень скоро убедились. Во всяком случае, я. Но и она, по-моему, тоже не пыталась меня увидеть. Мы расстались, расставшись с комнатой.
Комнату эту я отлично помню. Мы снимали ее у очень старой русской дамы, неподалеку от Трокадеро. Этакая мрачная помойка. Должно быть, старуха ни разу не ремонтировала ее. Все стены были исцарапаны какими-то рисунками. Занавески словно прилипли к стеклам. Они были не просто грязные – они стали как пергамент. Пыль не отходила от них, она словно окаменела. Ее можно было бы лишь соскоблить. Я сам решил побелить стены, но сделал это так неумело, что местами краска лежала комьями. Словно я вымазал стены глиной пополам с соломой.
Старуха питала ко мне известную симпатию и разрешала проникать во все закоулки ее катакомб. Жильцом я был удобным, нескандальным. Платил регулярно, благодаря урокам латыни, которые хозяйка частенько слушала, стоя за дверью. Сама она преподавала русским детям, живущим поблизости, но, как мне кажется, родную грамматику к тому времени изрядно подзабыла. Французский она тоже не знала. Во всяком случае, говорила с трудом. Словом, хозяйка моя не могла как следует объясниться ни на одном языке. В свое время она изучала их все понемногу. И страшно путалась. Правда, большого значения это не имело, поскольку словоохотливостью она не отличалась. Главное, умела считать. И на удивление ловко навострилась управляться с новыми франками. Вот тут – ни малейшей ошибки. В общем, она знала все нужные слова и знала, как их употреблять!
Короче говоря, она была очень ко мне расположена. И не раз показывала мне все свои комнаты, все салфеточки и все столики. Сколько у нее было вещей! И на них совсем не было пыли. Наверное, она каждое утро протирала и пересчитывала все свои безделушки.
Когда Кружевница со своим чемоданчиком перебралась ко мне, я немного испугался, как бы моя старушка не рассердилась. Ведь она могла увеличить плату за квартиру, а для меня это был бы конец. С первого же дня она предупредила меня – раз и навсегда: никаких гостей, никаких сборищ. И, разумеется, никаких девиц! Она разрешила мне принимать лишь учениц двенадцати-тринадцати лет. В случаях, когда возрастной ценз превышался, она битый час стояла под моей дверью. И я чувствовал, что она следит за мной в замочную скважину.
Как ни странно, Кружевницу она почти признала. Я был, право же, удивлен. Старуха даже предложила ей пользоваться кухней. И они тут же нашли общий язык. Прямо идиллия, да и только!
Она изо всех сил хотела влезть в нашу жизнь, эта старушенция. Для нее это было развлечением, страстью, последней радостью на склоне лет. По вечерам она буквально вламывалась в нашу комнату. И непременно хотела знать, все ли у нас хорошо или мы вдруг поссорились (но, конечно же, это несерьезно, пустяки, все само уладится; и напрасно я так вспылил). На самом же деле мы никогда не ссорились. Она по всем правилам искусства придумывала наши ссоры.
Раза два или три мы приглашали старушенцию – даже упрашивали – поужинать с нами. Но она всякий раз отказывалась. Ведь мы были все-таки ее жильцы. А не друзья.
По-моему, в глубине души старушенция надеялась, что мы с Кружевницей поженимся. Во всяком случае, однажды она сказала, что если мы захотим, она может уступить нам еще одну комнату. А ей места хватит, даже с избытком. У нее осталось бы еще целых пять или шесть комнат для всех ее столиков, икон и призраков прошлого. Не раз она отводила Кружевницу в сторону и спрашивала, «достаточно ли она бережется».
С Кружевницей хозяйка болтала куда охотнее, чем со мной. Я часто ее переспрашивал. А наша русская старушка не любила, когда собеседник давал понять, что плохо ее понимает. Повторять она не любила. Кружевница же отлично понимала все. Тут никаких недоразумений быть не могло – это я знаю по опыту.
Старушенция показала Кружевнице, как вязать. И та охотно стала учиться. Никакого намека она тут не заметила. Она вообще никогда не замечала зла. Они вязали вместе салфеточки. И пили крепкий чай. Ели печенье. Рассказывали друг другу истории – хотел бы я знать, на каком языке!
Когда я объявил старушенции, что мы съезжаем, для нее это, видимо, явилось чуть ли не ударом. Мне кажется, она привыкла к нам обоим, и ей было жаль расставаться с нами – даже больше, чем с деньгами, которые мы платили ей. Причем не только за комнату, но и за газ – с тех пор, Как стали пользоваться ее кухней.
Скупость, с какою она хранила все свои безделушки, все эти ненужные вещицы, была, конечно же, продиктована стремлением защититься от одиночества в непомерно большой квартире. И если кто-нибудь действительно страдал в минуту нашего отъезда, вернее, разрыва между Кружевницей и мной, так это была русская старушенция.
Потом я видел Кружевницу всего лишь раз. Много лет спустя.
Я по-прежнему преподавал латынь. И начал преподавать литературу. Всего пятнадцать часов в неделю да еще три, чтобы оплатить квартиру. На что-либо большее я не был способен.
И вот однажды пришло письмо. Из Аньера или из Сюрена, точно не помню. В письме сообщалось, что «дочка очень болела», но теперь ей лучше и даже «разрешили принимать посетителей». И выражалась надежда, что я не откажусь навестить ее, если выберу время.
Целую минуту я соображал, о ком и о чем идет речь. Память мою можно было сравнить с бутылкой прокисшего уксуса, который взболтали. Со дна поднялся осадок, жидкость замутнела, утратила прозрачность. В конце концов мне удалось привести в порядок воспоминания. Мать Кружевницы я видел всего один раз, но ее трудно было с кем-либо спутать. Манера выражаться, детский почерк – это могла быть только она. Но почему она вдруг решила мне написать – именно мне? Я несколько лет не виделся с Кружевницей. Я должен был бы исчезнуть из ее памяти, как она стерлась из моей.
Я будто увидел свою фотографию в семейном альбоме незнакомых людей: вот – дедушка, там – маленькая племянница, разряженная для первого причастия, а вот и вся семья на свадьбе старшего сына. И вдруг среди всех этих чужаков вы видите себя! Да-да, вне всякого сомнения, это – вы! Если только... И вы спрашиваете: «А это кто?» – «О, это наш дальний родственник. Он живет за границей». И вы переворачиваете страницу – слава богу! Вы видите новые, совсем незнакомые, совсем безразличные вам лица. Вы обманулись – это была лишь иллюзия, простое совпадение. Кстати, только вы его и заметили.
Так или иначе, а письмо, которое я держал в руках, означало, что моя персона занимает какое-то место и в альбоме и в памяти этой семьи. И я решил отправиться по адресу, указанному в письме.
Больница располагалась в трех или четырех корпусах, окруженных деревьями, в тридцати километрах от столицы, по пути в Шартр. Стоял июнь; посетители и больные сидели на скамейках, рассеянных по парку. Я тоже сел на скамейку, рядом с Кружевницей.
Я мог бы вполне представить себе, что мы отдыхаем с ней в каком-нибудь местечке на водах в окружении других курортников (правда, некоторые из них – в халатах). Но я видел перед собой щемящую душу хрупкость и неподвижный, точно зачарованный взгляд. Все это принадлежало иному миру, не имело ничего общего с цветущими клумбами и тенью ветки, тихонько колыхавшейся над головой Кружевницы. Я спросил ее, давно ли она здесь. С весны. А раньше? Раньше – ничего. Она все время болела. Могу я представить себе: она просто не могла есть?! Ничего не в силах была с собой поделать. При всем желании куска не могла проглотить. Какая-то странная болезнь. Вот ее и положили в больницу, сначала – в Париже, а потом перевели сюда. Теперь все хорошо, я могу не волноваться. Да меня это и не волновало, во всяком случае если и волновало, то не это. Я продолжал настаивать: «Ну, а раньше? Что же все-таки было раньше?» Она ответила: «Ничего».
А как раз это-то мне и хотелось понять, выяснить, что значит «ничего», за которым стоят годы, прошедшие между нашим разрывом и сегодняшним днем; годы, погрузившие в неизмеримое одиночество это тело, словно уже ушедшее из жизни.
Да нет же! Все осталось по-прежнему. Даже говорить с Кружевницей мне было так же трудно, а она, слушая меня, замыкалась в еще более глубоком молчании. Внешне она стала иной, но я чувствовал – по мере того как просыпались во мне воспоминания, – что Кружевница по сути своей не изменилась. Как и прежде, она словно отсутствовала, сидя рядом со мной. И казалось, ее совсем не огорчало то, что она находится в этой больнице (правда, и раньше я никогда не видел, чтобы ее что-либо огорчало). Просто она была чужой, иной, пленницей – и даже не больницы и не своей «болезни», а того далекого мира, в котором жила всегда. Быть может, в этом и заключалось ее безумие?
Я сидел и размышлял над этим «ничего», произнесенным Кружевницей, пытался несмотря ни на что заполнить его романами, историями вроде нашей. Сколько же их было, этих «ничего», не вызвавших у нее, вероятно, ни эмоций, ни сожалений и пришедших, должно быть, к одному и тому же концу? Все остановилось в тот день, когда Кружевница перестала принимать пищу и отвернулась от уродливого высохшего родника, который подсовывала ей жизнь. Она сама отсекла себя от мира – окончательно и бесповоротно. До сих пор особенности натуры отделяли Кружевницу от окружающего, а теперь она по своей воле отказалась от него. Отказалось ее тело – молча, искренне.
И теперь мир Помм – это корпуса психиатрической клиники, история болезни, свидания с посетителями в полутьме под деревьями в отведенное для этого время, – так в одиночество Кружевницы вторглось одиночество другого рода. В ней уже появилась та застенчивость, приниженность и вежливость – главное, преувеличенная вежливость, которая отличала здешних больных. К тому же время от времени спокойную полутьму парка вдруг разрывал белый силуэт санитара, быстро и бесшумно шагавшего куда-то.
Я спросил Кружевницу, начала ли она хоть теперь есть. Она загадочно улыбнулась и достала из кармана небольшой кошелек, куда складывала таблетки, которые она ухитрилась не проглотить. Вот это и есть ее еда, сообщила она мне. Я стал убеждать ее – глупейшим образом, – что надо принимать все, что прописывают.
Мимо прошел человек, на секунду задержав на нас внимательный взгляд.
– Это доктор, – сказала Кружевница, – он как раз меня и лечит.
Глаза доктора встретились с глазами Кружевницы, потом он перевел тяжелый взгляд на меня (быть может, он, как и я, искал виновного?) и отвернулся. Но тут Кружевница поднялась.
– Я хочу познакомить тебя с доктором, – неожиданно весело сказала она.
Мы снова очутились на курорте. Вроде как в отпуске. И меня сейчас представит доктору одна из отдыхающих. А таблетки, лежавшие в ее кошельке, в конце концов не что иное, как дань светским привычкам, – все равно что пить воду из серного источника, заниматься болтовней под сенью кедров, прогуливаться по парку, играть в бридж в гостиной отеля.
Кружевница сделала было несколько шагов следом за врачом и тихонько окликнула его. Но врач даже не обернулся, – он продолжал свой путь, точно и не видел и не слышал Кружевницу. Он вновь стал психиатром, стражником. Бросать пищу животным запрещено. И Кружевница вернулась на скамейку, вернулась в свою клетку, под стекло.
Я спросил ее, не чувствует ли она себя здесь несчастной, хватает ли у нее терпения. Она заметила, что я в первый раз задаю ей такой вопрос. Наверное, она была права. Но почему она так хорошо помнит все, что касается меня, нас обоих? Она в мельчайших подробностях описывала прогулки, которые мы совершали когда-то вместе. В ее памяти поразительно точно запечатлелось все – и ex-voto, которые мы видели в часовне, и корабли на гобеленах, и история Вильгельма Завоевателя. А я-то всегда считал ее рассеянной, невнимательной! Значит, все это было ей дорого?
Меня охватило томительное чувство вины; мне показалось, что безумие Кружевницы, ее худоба, пребывание здесь, в этой темнице для душевнобольных – все это моих рук дело.
Я попытался заглушить в себе это чувство, стал расспрашивать Кружевницу о мужчинах, которых она узнала после меня. Она сказала, что их было много; она рассказала мне о других комнатах, где она жила с ними, о других прогулках и даже о далеких путешествиях.
– Я ездила в Грецию, ты там не бывал? Мы добрались до самых Салоник, представляешь себе?
И тревога, поднявшаяся было во мне при мысли, что я, возможно, был единственным в ее жизни мужчиной, стала мало-помалу стихать. Несколько секунд Кружевница смотрела на меня с выражением почти материнской нежности. Мне показалось, что она догадалась о моих мучительных сомнениях и пожалела меня.
Послесловие
На светлом холсте Яна Вермеера из Дельфта изображена юная мастерица, поглощенная своим рукоделием. На переднем плане картины – ее проворные руки, подушечка с коклюшками. Лицо Кружевницы, округлое, милое, исполненное внутренней гармонии, как бы отгорожено от зрителя опущенными веками – она вся ушла в себя, в свою работу, в свою грезу. Подобно Вермееровой Кружевнице, героиня повести Паскаля Лэне Помм выражает себя только на языке «рукоделия»: убирает, моет посуду, шьет, штопает. Ее сокровенная сущность не выявляет себя ни в слове, ни во взгляде. Ее красота подобна непрозрачному драгоценному камню, лишенному блеска, красота «безупречно непроницаемая». Красота подлинного искусства.
В «Кружевнице» нет прямой политической злободневности, как в предыдущем романе П. Лэне «Ирреволюция», написанном под свежим впечатлением майских событий 1968 г. во Франции, активным участником которых был и сам автор. Сюжет «Кружевницы» нарочито банален – заурядная, не раз описанная в литературе история короткого романа молодого буржуа (или дворянина) и девушки из народа, которую эта любовь так или иначе губит, тогда как герой о ней скоро забывает. Тривиальность того, что произошло с Помм и Эмери де Белинье, подчеркивается в повести своего рода «дублем» – рассказом о подобном же эпизоде в жизни самого повествователя.
Автору повести, однако, сама заурядность житейской ситуации, положенной в основу фабулы, интересна именно тем, что она позволяет выявить некие общие закономерности социально-психологического порядка. Здесь его (как, впрочем, и в предыдущей книге) занимает непреодолимость «языкового барьера», играющего, как ему кажется, в современном обществе роль античного рока. Перемещая конфликт своей повести из фокуса прямой политической проблематики на периферию частных отношений, Паскаль Лэне не только не мельчит, не суживает значимость поставленной им проблемы, но, напротив, сообщает ей большую глубину и объемность.
Преподаватель философии Сотанвильского техникума, от лица которого велось повествование в «Ирреволюции», тщетно пытался преодолеть «языковой барьер», проникнуть во внутренний мир своих учеников – он мог лишь догадываться, что этот мир существует. Рассказчик же «Кружевницы» видит Помм не только извне – глазами Марилен или Эмери де Белинье, но и изнутри, ему доступно то, что недоступно и самой Помм. И оттого он так свободен в развитии им традиционного сюжета, переходит с иронической интонации на лирическую, прерывает порой ровный ход повествования своими предположениями, догадками, размышлениями о нераскрытых возможностях своей скромной героини.
Трагическая «вина» Помм – ее естественность в мире, где все отношения извращены, регламентированы социальными условностями, стереотипами поведения и оценки, будь то дешевые стереотипы «массовой культуры», которым поклоняется Марилен, или стереотипы «высокой» элитарной культуры, сквозь призму которых все видит, в которые обращает все с ним происходящее Эмери. Помм же непосредственна. Она не только не знает, как выгоднее «подать» себя, но и самая мысль о показном, обдуманном, рассчитанном поведении совершенно чужда ее натуре. В ней все естественно – и ее красота, не укладывающаяся в модные стандарты, и ее округлость, и ее румянец, и ее не ведающая себя душа.
Но сама Помм – не случайно она прозвана Яблочко – не может, как и Природа, познать себя, ей не дано для этого языка. Единственный язык, которому обучена Помм, – это все тот же язык стереотипов, так удачно используемый для своих «практических» целей Марилен. Только Помм он ни к чему, ибо это язык, не пригодный для самопознания, – напротив, он для того и создан, чтобы жить на поверхности, напоказ, расплачиваясь за это душевной пустотой, никчемностью. Однако все это ведомо лишь автору – отсюда его ирония, когда он говорит о Марилен, этой законченной, совершенной модели «массовой культуры», словно сошедшей с обложки иллюстрированного еженедельника или рекламного буклета, или об Эмери де Белинье, будущем архивариусе, засушенном образчике культуры элитарной, в конечном счете столь же бесплодной, как и псевдокультура парикмахерши. Отсюда же глубокая серьезность, проникновенность повествования о Помм, о Кружевнице, для которой нет места в мире ложных ценностей, которая должна в этом мире погибнуть.
Сама Помм ничего этого, разумеется, понять не может. Она живет на стыке, на грани двух непримиримых миров – мира естественной человечности и мира мнимых, искусственных норм, навязанных человеку обществом. Ее сознание, приемлющее эти нормы (а как может быть иначе, если Помм не дано языка, чтобы проникнуть в себя и противопоставить то истинное, что есть в ней, тому ложному, что ей навязано извне?), подобно кривому зеркалу. Оно возвращает ей собственный облик искаженным, уродливым – ведь он не соответствует стереотипу общепринятого. И это, внушенное извне, ощущение своего безобразия, своей ненормальности отнимает у Помм жизненные силы, лишает ее способности бороться за свое чувство, отстаивать свою правоту, приводит ее к безумию. Парадоксальность ее судьбы в том, что именно душевная полнота оказывается ненормальностью в опустошенном обществе, именно душевное здоровье обрекает Помм на прозябание в приюте для душевнобольных, губит индивидуальность, которая не может осознать и выразить себя в естественных для нее формах.
Но какова же во всем этом роль Эмери де Белинье, этого представителя Культуры? Казалось бы, знание, опыт соприкосновения с Прекрасным должны были помочь ему понять и оценить Помм. Но этого не случилось.
Иронический взгляд автора «Кружевницы» на Эмери де Белинье, этого потомка старинного дворянского рода, студента Института архивов и будущего хранителя культурных ценностей, вовсе не означает иронического отношения к самим этим ценностям: Паскаль Лэне отрицает только культуру склерозированную, «овеществившуюся» (даже книги могут превратиться в вещи – и превращаются в них на столе Эмери); он отрицает мертвый язык культуры, которая, отгораживаясь от жизни, обрекает себя на бесплодное, музейное, архивное существование.
В противоположность Помм, Эмери де Белинье владеет Словом – он умеет все назвать, найти всему должное место, свой ящичек, свою этикетку. И этого, вероятно, вполне достаточно, чтобы пожать те академические лавры, о которых он мечтает, и даже для того, чтобы стать писателем – из тех, что скользят по поверхности вещей. Но живая душа Помм не укладывается в готовую формулу, в книжное определение – и она непостижима для эрудита, раздражает его своей неуловимостью, своей несхожестью с образчиками, хранящимися в его культурном архиве.
Эмери влечет к Помм чувство, подсказывающее ему, что в этой безыскусной, простодушной девушке есть нечто незаурядное. Но он не умеет «просто любить, без суждений и сентенций». Она же ничего не может ему подсказать, объяснить – язык Помм, язык «рукоделия», столь же непонятен для Студента, сколь чужд Кружевнице словарь архивариуса.
Эмери де Белинье отнюдь не плакатный буржуа, которого интересуют только деньги, вещи, комфорт. Паскаль Лэне не случайно выбирает своего героя из вымирающей породы дворянских интеллигентов: он уходит от вульгарной, левацкой постановки вопроса о Культуре как носительнице буржуазной идеологии, выводит эту проблему за рамки сиюминутной журнальной полемики. Дело в том, что Эмери владеет не культурой, но лишь омертвелой ее шелухой, а в сотворении живой плоти культуры извечно принимали участие люди, подобные Кружевнице, рукодельцы, безымянные строители соборов – тех самых творений, которые будущий архивариус может только назвать и классифицировать. Сама того не зная, Помм сопричастна культуре. И именно поэтому она – предмет искусства.
В этом смысле повесть Паскаля Лэне полемически заострена против того направления современного западного искусства, которое отказывается от проникновения во внутренний мир человека, как от чего-то безнадежно устаревшего, «насквозь буржуазного». Литература не может быть «игрой в бисер», – отказываясь от человека, она не только обрекает себя на иссякание, но и укрепляет «языковой барьер» между теми, кто владеет ее мертвой буквой, и теми, кто обречен на немоту, на слепоту, теми, кого принято называть «нищими духом», но кто несет в себе его подлинные сокровища.
Паскаль Лэне, один из самых талантливых французских писателей своего поколения, – убедительный пример творческого преодоления не только «нового романа» с его принципиальным отказом от «воспроизведения» реального мира, но и тенденции изображать этот мир как торжество вещей, обращающих человека в своего раба и свое подобие, в вещь среди вещей.
Автор «Кружевницы» не смягчает остроты противоречий. Трагическая судьба Помм свидетельствует о том, что человеку с его живым чувством невозможно существовать в мире мертвых номиналов культуры, как массовой, так и элитарной. Но при этом повесть не оставляет сомнений: подлинно человеческое, как бы глубоко оно ни было загнано, в конечном итоге непреоборимо. «Что бы ни произошло с Помм, Эмери в еще большей степени труп, чем она», – утверждает автор и именно поэтому, говоря о Помм-Кружевнице как о «нерасшифрованном послании», уточняет: «Пока еще нерасшифрованном», «временно нерасшифрованном».
Недаром «Кружевница» была удостоена в 1974 году Гонкуровской премии, ибо, по словам президента академии Гонкуров известного французского писателя Эрве Базена, академия ставит своей целью поощрять реалистические произведения.
Л.Зонина
■