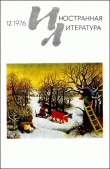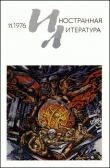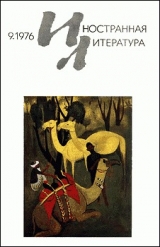
Текст книги "Кружевница"
Автор книги: Паскаль Лене
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 7 страниц)
Паскаль Лэне
Кружевница
Но если что-то не может выразить себя в слове и остается невысказанным, то, беззвучно канув в гомоне человеческом, оставляет ли оно хоть какую-нибудь зарубку по себе, хоть малую царапину на скрижалях бытия? Такой поступок, такой человек, такая средь ясного солнечного дня одиноко упавшая с неба снежинка – реальность она или воображение, хороша, безлика или плоха?
Роберт Музиль. «Тонка»[1]
I
История эта начинается в одном из департаментов северной Франции – в том, что на картах напоминает по форме свеклу.
Зимой, проезжая здесь на автомобиле, видишь лишь что-то вроде шишки. Точно опухоль на горизонте. И вечные сумерки, когда безлистые деревья у кромки полей кажутся особенно голыми и корявыми.
Дома в поселке – все кирпичные, одноэтажные. Между двумя их рядами пролегло тщедушное подобие шоссе – не шоссе, но и не улица, хотя тротуары асфальтированы и до блеска отполированы частыми дождями. Легковые машины оставляют двойную колею в месиве раздавленной свеклы. Грузовики тоже.
Из школьных дверей вываливается толпа детишек в капюшонах, но веселому беспорядку быстро наступает конец: поток машин на шоссе и летящие из-под колес расплющенные овощи вынуждают детей идти гуськом. А вообще-то зимой в поселке тихо. По вечерам лишь собаки бродят по темным закоулкам. Или вдруг раздастся шелест велосипедных шин, подчеркнув безмолвие, которое становится тем глубже, чем реже слышится знакомое позвякиванье цепи.
Когда-то здесь был рабочий городок, но завод давно уже бездействует. От него остался лишь остов из кирпича и железа.
Летом все выглядит веселее. Много солнечных дней, и дорога подсыхает. В крошечных огородиках зацветает картошка. Белье сушится во дворе. Тропинки между домами усеяны пустыми бутылками. По вечерам люди, возвращающиеся автобусом из города, с работы, задерживаются, чтобы немного поболтать. Они усаживаются погреться на предзакатном солнышке, пока оно еще не исчезло в мареве за шоссе. Спускается ночь. Небо принимает оттенок свежего цемента и кажется идеально гладкой стеной, с которой свисает огромный фонарь луны.
Около половины восьмого все расходятся по домам смотреть телевизор.
Для детей это пора больших каникул, когда они возятся на тротуарах и занимаются разными запретными делишками в темных углах за домами.
В одном месте шоссе пересекает проселочная дорога. Машины, движущиеся по этой дороге, пользуются преимущественным правом. Здесь стоит церковь. И памятник погибшим, а вокруг – скамейки для отдыха. В хорошую погоду там собираются старички и старушки. Они усаживаются на скамейки, с клубком ниток или с газетой, чтобы спокойно повязать или почитать. Еще туда прибегают две-три девчушки, обычно одни и те же. Они садятся лицом к дороге, по которой машины выезжают на шоссе, и глазеют на мчащиеся мимо автомобили и грузовики. Одну из них зовут Яблочко – Помм.
А теперь заглянем в дом, где живет Помм со своей матерью. Вначале мы входим в большую комнату, посреди которой стоит длинный стол, выкрашенный белой краской. На столе – клеёнка с пожелтевшими от частого мытья розами {на клеенке еще видны желтые закорючки, изображающие листья букета. И дырки от сигарет, не изображающие ничего).
Вокруг – стулья, под цвет стола, и другие – совсем не под цвет. Ну и еще – буфет.
Даже когда закрыты двери и окна и затоплена печка, даже когда ты надел домашние туфли и халат, – все равно кажется, что тебя трясет на гигантских колесах несущихся мимо грузовиков. Они громыхают совсем рядом – в нескольких метрах от дома. Потому и кажется, будто дом этот, стоящий на обочине, всегда раскрыт нараспашку.
С обеих сторон к комнате, давайте назовем ее главной, примыкают комнаты поменьше. В одной из них – кровать, зеркальный шкаф и пластмассовый тазик, откуда сны, как говорится, попадают прямиком в сточную яму. В ногах большой кровати – детская кроватка с решеткой. Решетка – из металлических хромированных прутьев, на которых местами выступила ржавчина.
С тех пор как Помм выросла из кроватки с решеткой, она стала спать в другой комнате, описывать которую мы не будем.
Яблочком ее прозвали потому, что у нее были круглые щечки. Они были к тому же очень гладкие, и, когда при девушке говорили, какие у нее кругленькие и гладенькие щечки, они даже начинали пылать.
Теперь у нее появились и другие округлости, при виде которых – словно это корзина с фруктами – облизывались все деревенские мальчишки; к несчастью, не было там поэта, который мог бы все это воспеть.
Но сама Помм не нуждалась в поэте – она и так была в своем роде совершенством. Хотя писаной красавицей ее, пожалуй, не назовешь. И не обладала она прельстительной хрупкостью тех свободных от условностей девиц, чья кожа, когда на них смотришь, свежа и прозрачна, как вода в хрустальной чаше для полосканья пальцев. Нет, кисть у Помм была не уродлива, но плотно пригнана к запястью, запястье – к руке и, вероятно, так далее.
Пышная – слово не очень подходящее для такой девчушки (скажем, было ей четырнадцать лет), и все же Помм казалась именно пышной. Хлопотала ли она по хозяйству, или просто сидела, или лежала, или спала, – даже когда веки ее были сомкнуты, а рот приоткрыт и душа витала где-то, убаюканная дремотой, – комнату заполняло ее присутствие, ее тело. Природа не слишком трудилась над Помм, но она, казалось, вытесала девушку из монолита, удивительно крепко сбила ее. Такой же цельной и наполненной была, наверное, у нее и душа. Помм не принадлежала к тем созданиям, присутствие которых сводится лишь к пустому взгляду и пустым словам – каждый ее жест, каждое, пусть даже самое пустяковое, занятие как бы запечатлевались в вечности данной минуты. Вот она накрывает на стол, вот стирает белье или делает уроки (с умилительным прилежанием), и любая ее поза, любой ее жест на редкость естественны, они необходимы, и все вокруг становится сразу таким безмятежным.
Стоило Помм сесть за вязание – и маленькие руки ее начинали двигаться с лихорадочной быстротой; в эти минуты они существовали как бы сами по себе, не нарушая, однако, органичности ее несколько тяжеловесного изящества. Любое дело, за какое бы Помм ни взялась, всегда спорилось и становилось для нее органичным. И всякий раз с нее можно было писать жанровую картину, где и композиция, и сам сюжет требуют от модели именно этого жеста. Взять хотя бы ее манеру держать шпильки во рту, когда она перекалывает прическу! Она могла бы быть Белошвейкой, Продавщицей воды или Кружевницей.
Возможно, Помм унаследовала все это от матери, работавшей в одном из городских баров. Когда какой-нибудь господин предлагал матери подняться в комнату над баром, она произносила про себя: «К'слугам вашим» – она ведь обслуживала клиентов и в таком смысле слова, с одинаковым старанием отрабатывая свои деньги и на антресолях, и на первом этаже, стоя или лежа, простодушная и покладистая, как ее дочь. И та и другая вкладывали всю себя во все, чем занимались, – даже когда приходилось надолго застывать в одной и той же позе в комнате над баром; они действовали под влиянием одинакового у обеих, естественного импульса, однозначного и, вопреки всему, глубоко целомудренного. Правда, туфли служанка никогда не снимала из боязни занозить ногу. Только в этом, пожалуй, она и отступала от обычных житейских правил.
Еще Помм походила на мать ровным нравом. Обе они одинаково просто принимали и радости и горести, которые отпускала им судьба, – впрочем, не слишком щедро. И обе они, словно отсохшая ветвь, влачили унылое существование в своем домишке на обочине дороги, освещенном ровным светом из окна, выходившего на шлюз, через который деловито проплывали чьи-то жизни.
Помм не выказала ни волнения, ни удивления, обнаружив, что стала совсем взрослой, хотя никто к этому событию ее не подготовил. Она поменяла белье и застирала простыни, не таясь, но и не говоря ни слова, точно кошка, которая старательно забрасывает свои нечистоты комьями земли и опилками. Мать, увидев, как спокойно и тщательно Помм убирает за собой, принялась давать запоздалые объяснения, которые девочка выслушала, казалось, даже с интересом, так что можно было подумать, будто она сама просила об этом мать. По своему душевному складу Помм была такой же округлой и гладкой, как внешне, – все скатывалось с нее, не нарушая привычного хода ее жизни.
(Тут автор мог бы чуточку задержаться на проблеме существования девочки под одной крышей с матерью, занимающейся проституцией. Он мог бы нарисовать картину этой жизни: ночи без сна, когда ребенок, охваченный непонятным, смутным стыдом, часами ждет мать; наконец, глубокой ночью та возвращается, измотанная, с трудом передвигая ноги, в застывшем взгляде ее – усталость и отвращение; едва приоткрыв дверь, она видит блестящие страдальческие глаза дочки, с вопросом устремленные на нее. Стоило бы сказать и о шуточках и намеках, о многозначительном молчании, которое разит не хуже стилета, – о тех западнях, которые подстерегали Помм на деревенских улицах и которых ей было не избежать, – они ранили ей душу, с каждым разом все глубже и больней. Читателю нетрудно представить себе горькую судьбу ребенка, – словом, можно было бы написать роман о постепенном падении изначально чистой девушки.)
У нас же все обстоит иначе. Для начала – Помм и ее мать обладали удивительным простодушием людей, которые не скрывают правду, а наоборот, настолько выставляют все напоказ, что не о чем и посплетничать. Никому даже не интересно, «подозревает» ли Помм, чем занимается ее мать. Помм вообще не способна к подозрениям. Однако для ее дальнейшей судьбы (если можно употребить громкое слово «судьба» по отношению к столь скромной доле) имеет значение то, что мать занималась проституцией в одном из городских баров, тем более что этой бесхитростной женщине случалось предаваться при дочери воспоминаниям о господах, побывавших в комнате наверху. Сам ход вещей, равно как и рассказы матери, такие удивительные, несмотря на всю их банальность (вообще-то они были вполне безобидны, любая честная женщина могла бы рассказать такое своему ребенку, причем в тех же словах), внушили Помм великое уважение к высокому слову «господин». У деревенских (когда Помм, например, шла в школу или возвращалась домой) она таких качеств не замечала. Здесь у парней всегда чувствовалось, что где-то в глубине сидит зернышко анархии, которое и порождает обычно всякие неполадки на земле; здесь от них пахнет вином, забастовками, первомайскими манифестациями и прочими нарушениями порядка, которые нам иногда показывают в телевизионных новостях. У Помм с матерью был такой сосед – напьется, бывало, и ну пугать местных детишек, да так, что они убегали от него на середину шоссе. Помм видела его как-то с расстегнутыми штанами. А вот городские господа – те совсем другие. Потому что «господами» называют людей почтенных – нотариуса, аптекаря, промышленников, коммерсантов. И даже когда они творят скотство, на руках у них поблескивают часы и золотые перстни, а в карманах лежат толстые чековые книжки. С их помощью они и дырявят девчонок в то время, как их жены дома тихонько переживают наступление климакса (Помм, естественно, не доходила до подобных умозаключений).
Летом Помм садилась на одну из скамеек у памятника, и взгляд ее рассеянно скользил по проезжавшим мимо машинам, по лицам тех, кто в них сидел, – ещё минуту назад они казались совсем близко и вот уже несутся по шоссе вдаль, к горизонту, становясь такими же недостижимо далекими, как те господа, увиденные сквозь призму материнского рассказа.
Так день проходил за днем, и жизнь их текла размеренно, как и в других домишках, стоявших у обочины дороги, хотя некоторая разница все же была. Например, мать Помм никогда не покупала платья в фургончике, что приезжал по вторникам и субботам. Она ходила в магазины. Пользовалась косметикой. Курила. Гасила окурки о ковер в примерочных. И плевала на то, что платья валялись у нее грудой в зеркальном шкафу. Безразличие к вещам порою больно ударяло бедную женщину по карману и было столь же удивительно, как и ее душевная чистота. Дом ее никак не был обставлен – в нем стояли разномастные, пропыленные, ни на что не похожие мертвые вещи, такое было впечатление, словно их при переезде вытащили из фургона и в спешке кое-как сгрузили на тротуар.
Конечно, мать Помм могла бы экономить, вложить деньги в дело и таким образом разбогатеть, – словом, получать какие-то выгоды от своего ремесла. Но тогда пришлось бы считать, обдумывать, прикидывать вместо того, чтобы просто жить теми минутами, которые она, повинуясь чужой воле, проводила в комнате над баром. Нет, жить по заранее обдуманному плану она не могла.
Помм была еще совсем крошкой, когда отец ее ушел из дома. И естественно, она его забыла. Ни она, ни мать никогда о нем не говорили.
Он не раз исчезал на время и до того, как уйти совсем. Никто не знал ни где он, ни когда вернется. Случалось, он пропадал дня три, случалось – полгода. Заранее он ничего не говорил. Просто был из тех, что пропадают, выйдя купить коробок спичек, ибо за улицей, на которой стоит табачная лавка, есть другая улица, а за ней – еще одна. Ведь если вдуматься, вокруг этого месива домов, составляющих твой квартал, можно ходить без конца.
Характер у отца Помм был на редкость мягкий. Он никогда не повышал голоса и вообще говорил очень мало. Любил подумать в тишине, помечтать о том о сем. С женой своей обращался ласково. Охотно играл с дочкой, когда не мечтал: ведь с ней не нужно было разговаривать. А потом уезжал. Иногда присылал деньги, но никогда не писал писем и ничего не объяснял. Он и не в состоянии был объяснить, почему поступает так, а не иначе. И мать Помм не пыталась с этим бороться – такой уж он был. Должно быть, она крепко любила своего мужа – от одной отлучки до другой, и если эти отлучки волновали ее, она никогда этого не показывала. Просто у нее муж «приходящий» – такая уж у нее судьба, а вот у соседки – «пьющий». Говорилось это так же просто, как мы бы, например, сказали: этот человек веселый, а тот – брюзга.
Итак, муж ее, который все куда-то уходил, в конце концов ушел окончательно и бесповоротно, ибо на этот раз он сказал: «Я ухожу»; такое необычное внимание к близким могло означать лишь то, что уходил он насовсем. И ни малейшего колебания, ни мысли о том, что может все-таки вернуться по давно проторенному пути. Жена помогла ему собрать вещи, но они не поместились в единственный имевшийся в доме чемодан. Тогда она нашла большую коробку из толстого картона и упаковала в нее все, что не вошло в чемодан. Потом разбудила малышку, чтобы та попрощалась с отцом.
О разводе или о своем праве на алименты мать Помм думала не больше, чем, скажем, о том, чтобы сесть за руль автомобиля. Ведь для того, чтобы куда-то поехать, можно нанять машину. Надо просто жить как живется – кому они нужны, все эти сложности.
Итак, она осталась одна, с дочкой на руках – даже картошку некому было выкопать, – но она не жаловалась, что судьба так круто с ней обошлась. Ей не было тогда еще и тридцати, и густые волосы, висевшие хвостом у нее вдоль спины, придавали ее фигуре что-то своеобразное, дикое, сильное, так что она без труда нашла место «служанки»; ей объяснили условия, она попросила повторить и после минутной оторопи лишь кивнула в знак согласия – ведь тогда еще не было у нее этого округлого, гладкого, ровного отношения к своим новым обязанностям, и не произнесла еще она свое первое: «К' слугам вашим».
Вот здесь, наверное, и следовало бы поставить точку: история эта вполне заурядна и стать незаурядной не может, так как ни Помм, ни ее мать не принадлежат к числу тех, в чьей жизни бывают перемены – разве что они начнут раскрывать друг другу душу, да и то едва ли.
Они не способны – ив этом их своеобразная сила – долго что-либо переживать: превратности судьбы задевают их лишь мимоходом, словно соскальзывают с них. Они – из тех растений, которым достаточно клочка земли в щели между камнями мостовой или в расселине стены, и свою необъяснимую жизнестойкость они черпают в самой природе своей.
Подобные существа безропотно принимают все взлеты и падения в длинной цепи случайностей, из которых складывается их жизнь. Они даже не пытаются уклониться от ударов судьбы. Можно подумать, что они просто их не чувствуют, но это, разумеется, не так. Они тоже страдают, только не отдают себе в этом отчета, не задерживаясь мыслью на страдании.
И даже если бы случай обрушил на Помм и ее мать весь свой арсенал невзгод, они с нечеловеческим упорством, молча продолжали бы свой бесцельный путь, который не стал бы от этого короче и оставался бы таким же одиноким, неприметным и тем не менее завораживающе увлекательным.
Но в таком случае Помм и ее матери нет места в романе с его примитивными софизмами, психологизацией, претензией на глубину, – где уж им, раз они не в состоянии постичь причины собственных радостей и горестей, а могут лишь безгранично удивляться, так как добраться до подоплеки событий им не дано. Они, точно крохотные мошки, переползают со страницы на страницу книги, повествующей об их жизни. Вот бумага, из которой сделаны эти страницы, – вещь существенная; или, например, картофель, пускающий ростки, или выщерблины в досках пола, о которые можно занозить ногу, это в городке-то! А больше ничего существенного и нет.
II
Итак, Помм идет восемнадцатый год. Они с матерью живут теперь в предместье Парижа, где-то близ Сюрена или Аньера[2]. У них квартира в большом доме, на лестнице Д, подъезд Ф. Называется это Городком Космонавтов.
Перед нами Помм и ее мать – они сидят рядом на диване, обитом черным дерматином. Сидят неподвижно. Напряженный взгляд их устремлен в одну точку, точно они смотрят в объектив фотоаппарата. Но на сей раз это экран телевизора, от сероватого света которого контуры лиц кажутся размытыми, как на старой фотографии... А вот Помм, лежа на животе, читает в кровати журнал. Голова ее и журнал слегка сдвинуты к источнику света – окну и к лампе над изголовьем кровати, которую приходится зажигать, так как прямо перед окном – высокая стена дома..
Помм скорее перелистывает, чем читает журнал. «Внезапно Джордано обнял ее. Она хочет вырваться, но ее вдруг охватывает дотоле неведомое, сладостное чувство, которое пронзает ее до самой глубины души. Они смотрят друг на друга – глаза в глаза, и в эту минуту невидимая нить протягивается между ними. Джордано чувствует, как от нее бежит к нему электрический ток... Звезды над ними разворачивают свой плащ, и они медленно бредут рука в руку».
Вот уже год, как Помм с матерью обосновались в этой двухкомнатной квартирке, где началась для них новая жизнь с цветами в вазе и мыльницей в ванной комнате.
Мать Помм сильно изменилась. Теперь она носит белую нейлоновую блузку – и когда убирает квартиру, и когда продает яйца, и когда просто ничего не делает.
Кроме яиц она продает еще молоко в пакетах, масло в бочоночках или кусками сыр. Она берет большой нож с удлиненной ручкой, делает лезвием отметку на большом бруске швейцарского сыра и спрашивает для верности: «Так или побольше?»
Какой поворот судьбы привел в молочную «служанку» из бара и комнаты наверху? Один бог знает – да и то, если это произошло по его наущению. Лучше об этом не спрашивать!
По утрам мать Помм поднимается очень рано. Она помогает хозяевам разгрузить фургончик. Складывает на тротуаре пустые ящики, чтобы потом их забрали мусорщики. И наконец, занимает свое место за прилавком – пышный бюст ее величественно возвышается между двумя колесами сыра «эмменталь».
Из лавки она уходит поздно, приседая каждый вечер до земли под железной шторой, которую патрон наполовину приспускает незадолго до закрытия магазина (клиентам тогда приходится, точно змеям, уползать в узкой полоске меркнущего света, а иные приподнимают штору, и тогда продавщица видит, как гаснет на улице день, а вместе с ним и возможность попасть на нужный автобус. И все из-за какого-нибудь бочоночка масла или пакета молока).
В городе мать Помм выглядит немножко провинциалкой, как в свое время в провинции выглядела, можно сказать, горожанкой. Одевается она всегда очень опрятно, но с кокетством теперь покончено. Туфли носит на низком каблуке, и ноги у нее больше не болят. В сорок лет она словно обрела вторую молодость, и на щеках ее в погожие дни загорается яркий крестьянский румянец. Но главная перемена произошла у нее не в облике. Во всяком случае, не самая удивительная – просто она по доброй воле решила отказаться и от внешних признаков своей не слишком добродетельной профессии, предоставив всем любоваться кожей молочницы, покрывающейся зимой легкими красными пятнами.
Подлинная же перемена произошла с жильем: теперь у них была двухкомнатная квартирка, где, как зеркало, блестит паркет, где новехонькая мебель и есть даже кухня с квадратным столом и табуретками из пластика, сверкающая первозданной чистотой.
По вечерам диван, обитый дерматином, превращался в просторную постель, застеленную белыми или небесно-голубыми простынями. Вперив взор в свежевыкрашенный, кремовый, как сливки, потолок, продавщица со своей дочкой засыпали под шерстяными розовыми одеялами.
По сравнению с их прежним домом, с садом, усеянным осколками бутылок, теперь они жили в роскоши, хотя и объяснимой существующей системой кредита: стол, стулья, буфет, диван-кровать, два кресла, тоже обитые черным дерматином, – все было в одном стиле и составляло единый гарнитур стоимостью восемнадцать раз по двести сорок франков.
Еда у них теперь тоже стала другая. Они старались разнообразить стол. С увлечением готовили. Еще бы – теперь ведь в их распоряжении была электрическая плита с грилем. Когда мясо достаточно прожаривалось, раздавался звонок, как у будильника, и плита сама выключалась. Помм очень скоро стала лакомкой. Впервые в ней обнаружилось что-то вроде страсти, но страсть эта в робких своих проявлениях не нарушала обычной сдержанности и застенчивости молоденькой девушки, еще не вышедшей из детства, с присущими ребенку круглыми щечками и румянцем, загорающимся от смущения. Помм обожала сласти, пирожные, конфеты с начинкой, шоколад. При этом ничуть не меньшее удовольствие получала она, скажем, от хорошего куска бараньей ноги с фасолью. Подавалось жаркое на красивом фарфоровом блюде. Соусник, правда, был алюминиевый.
Каждое утро Помм садилась в поезд. Выходила на вокзале Сен-Лазар и, не глядя на витрины, стуча каблучками, быстро шла к себе в парикмахерскую. Там она надевала розовую блузу. Проверяла себя в зеркале – в порядке ли глаза. И подправляла легкий грим.
В этот час молоденькие продавщицы, машинистки или такие вот ученицы из парикмахерских расцвечивают яркими красками серо-коричневый людской поток на улицах города. Но Помм была не такая, как все, – она была не просто хорошенькая. Должно быть, она отличалась подлинной красотой, которую не могли испортить ни мини-юбка, ни слишком узкий свитер.
Это-то в конечном счете и выделяло ее. В этом своеобразном мире запахов, всевозможных флакончиков, среди дешевых парикмахерских ухищрений безыскусность Помм придавала ей некую загадочность. Вся ее прелесть заключалась в том, что она не была похожа на других, хоть и одевалась как все остальные – и у нее, как и у них, между кофточкой и юбкой зазывно виднелась полоска кожи.
Надо сказать, что своеобразие Помм не позволяло с ней фамильярничать. Она притягивала к себе и одновременно удерживала на расстоянии. Главным образом притягивала, но так, что человек этого не сознавал. При этом она вовсе не хитрила – даже во взгляде ее не было и тени лукавства. Скорее можно было прочесть в нем наивное бесстыдство, если уметь читать то, что не написано. И ничего удивительного: такая девственная невинность («девственно-белая страница») лица, обнаженного, ничем не прикрытого (никакой задней мысли), как раз и граничит с бесстыдством; это – лицо Сусанны[3], или Сюзон, застигнутой врасплох во время купанья, когда бесстыдство, если можно так сказать, подчеркнуто неожиданностью и искренним нежеланием, чтобы тебя кто-то видел.
Губы Помм красила лишь их собственная безмятежная полнота; случалось, она прикрывала глаза, – но от того, что уж очень радостно жить. На всем ее облике лежала печать глубокого спокойствия, не нарушаемого даже намеком на кокетство. Да Помм и незачем было кокетничать, незачем выставлять себя напоказ. Сама природа сделала из нее легкую добычу, как и из многих девушек ее возраста, которые не успели еще познать свое тело и не приспособились к нахлынувшим на них новым, незнакомым ощущениям.
Помм, казалось, могла до бесконечности длить тот чудесный период в жизни девушки, когда даже самые некрасивые будто расцветают от подкараулившего, пронзившего их желания, которое ничто не в силах затушить.
И эта затянувшаяся незавершенность становилась чем-то вроде добродетели, хоть и неопределенной, раздражающей таким отступлением от привычного порядка вещей.
У Помм, что же, до сих пор не было возлюбленного, хотя ей скоро стукнет восемнадцать лет, или в ней просто говорила природная чувственность, когда под взглядами мужчин она вся точно начинала светиться?
Если бы Помм объяснили, чт о дарит любовь, она не сказала бы «нет». Ощутив на себе настойчивый взгляд, она бы сразу поняла, чего от нее ждут. И наверняка подчинилась бы – не мужчине (ей было бы безразлично, как он выглядит и сколько ему лет), а тому новому, неизбежному, что поднялось бы в ней и завершило бы ее формирование в минуты забытья.
Она же переходила на противоположную сторону тротуара и шагала так быстро, что ни у кого не могло возникнуть и мысли следовать за ней. По утрам она вставала с постели, пресыщенная своим безмятежным сном, как иная женщина пресыщена объятиями, – вставала с истосковавшимся телом, и тоска эта не проходила даже в дневной уличной толкотне. Замирала тоска лишь на нетронутом снегу девичьей ночи. В этой счастливой меланхолии, рожденной весенним переполнением чувств, не было и тени ущербности или зависти к другим. Однако тот, кто смотрел на Помм, понятия не имел, что именно он, его взгляд и есть звено, которого недостает в этой почти законченной, безупречной цепи. Поэтому он и выходил на предыдущей или на следующей станции; впрочем, Помм редко ездила на метро от Сен-Лазара до Оперы – разве что ее заставал дождь.
Помм не умела ни делать завивку, ни стричь, ни красить. Ей поручали лишь собирать салфетки. Она протирала инструменты. Подметала пол после стрижки. Укладывала в аккуратные стопки разбросанные номера «Жур де Франс». И вытирала кончик носа клетчатым платочком.
Кроме того, Помм мыла клиенткам голову, массируя кожу со свойственной ей деликатностью и старанием. Она могла бы делать это еще старательнее. Стоило только попросить.
Клиентки были все уже в возрасте, богатые и невероятно болтливые. Право же, как на подбор. Они квохтали без умолку, точно старые куры!
Но ни усыпанные бриллиантами очки, ни губы цвета лаванды на лице, обрамленном жидкими подсиненными волосами, ни руки, усеянные драгоценными камнями и темными пятнами, ни сумки из крокодиловой кожи, казалось, не привлекали внимания Помм, – она была всецело поглощена тем, чтобы вода, которую она пробовала, подставив под струю тыльную сторону руки, не была слишком горячей или слишком холодной, когда она направит струю на волосы клиентки, – ведь мокрые волосы у всех выглядят одинаково.
Помм осторожно запрокидывала голову дамы на подставку, вмонтированную в спинку большого кресла, которому можно придать нужный наклон. Грудь клиентки накрывалась белой салфеткой, а волосы, мокрые, слипшиеся от мыла, волнистыми водорослями плавали в широкой белой эмалированной раковине.
Взгляд умирал под накрашенными веками, увеличивавшими глазницы, губы казались кровавой чертой под заострившимся носом, и эти запрокинутые лица, обрамленные волосами, становились похожи на диковинное растение – казалось, огромные выцветшие листья какого-то дерева, с чуть намеченными прожилками, плывут по реке.
Зрелище было странное, но не устрашающее – все эти лица, точно распластанные на поверхности воды, эти дряхлые Офелии, вдруг утратившие на минуту свое превосходство, способные даже вызвать презрение у человека, менее доброжелательного, чем Помм. И Помм говорила себе, что если в старости она и будет уродлива, то не так, как они. И уж во всяком случае, не станет такой сразу. Если бы у Помм могли возникнуть шальные мысли, если бы она не чувствовала, как смутно, еле уловимо шевелилась в ней ненависть в тот момент, когда старые хищницы с потрясающей бесцеремонностью совали ей чаевые (чего стоит одна их манера щелкать замком, открывая и закрывая сумку), она могла бы получить еще большее удовольствие, глядя на то, как они, совершенно покорные, совершенно лишенные всякой индивидуальности, сидят под колпаком сушки, точно неживые, держа неподвижно голову, по-прежнему высоко, по-прежнему горделиво поднятую – только на сей раз как на острие пики. Впрочем, Помм, которая иногда подолгу их разглядывала, вовсе не сознавала, что получает от этого удовольствие.
Ее звали Марилен. (Предположим, что так.)
Она могла бы, держа в руках перламутровый бинокль и прикрывшись веером, тихонько злословить, сидя в своей ложе в Опере. У нее могли бы быть темные волосы, разделенные прямым пробором и приспущенные на уши, как на старинных гравюрах. Она могла бы, исполненная внимания и нежности, склонить свои обнаженные, цвета слоновой кости плечи к господину в белом кружевном жабо, пенящемся в вырезе черного фрака, и, приложив в порыве элегантной стыдливости веер к губам, прикрыть видневшуюся в декольте грудь.
Так бывало в фильмах, которые она видела. А в жизни она то и дело разражалась таким громовым хохотом, что сразу вылезали на передний план и вульгарно-рыжие волосы, и слишком большой рот.
И все же Марилен была хороша собой. Высокая, длинноногая, гибкая и подвижная. Она ловко скользила по салону от одной клиентки к другой, а это было все равно что идти по лесу или пробираться сквозь джунгли, окружающие развалины Ангкора.
Однако истинный художник непременно отметил бы, что в красоте такого рода – дикой, грубой, агрессивной, напористой – в конечном счете есть что-то жалкое. И Марилен в конечном счете, наверно, понимала, сколь мало значит, когда тебя зовут красавицей, – возможно, лишь потому, что к этому нечего прибавить. Вот Марилен и швыряло всю жизнь от романтики, изысканных манер, даже, если хотите, возвышенности к откровенной вульгарности и раскатистому смеху, звучащему так, точно стопка тарелок рассыпается в мойке. Дело в том, что в последнюю минуту Марилен приходила в голову мысль, а не проиграет ли она в итоге, если попробует смягчить голос и манеры, – как-то глупо все-таки проигрывать. И она принималась дурачиться, строить из себя этакого шумного сорванца. Этот образ был не намного удачнее, но, возможно, больше соответствовал глубине натуры Марилен. Если, конечно, сразу не решить, что «глубины натуры» у Марилен и в помине не было.