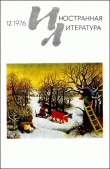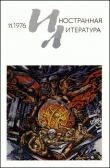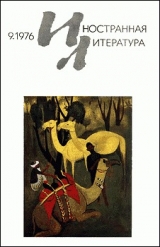
Текст книги "Кружевница"
Автор книги: Паскаль Лене
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Он стал винить Помм: почему она ничего не требует, а значит, и не ценит того, что он хочет ей дать. Правда, казалось, она и не собиралась ничего брать. Иногда, он мог надуться и целый вечер с ней не разговаривать, но потом сам первый сдавался, коря себя за черствость, хотя Помм не жаловалась и не просила его ни о чем, – вот и выходит, что надо винить в черствости Помм. Он закурил «Житан» с фильтром.
Теперь Эмери старался занять все свое время, чтобы не оставаться наедине с ней: его пугало это молчание – ее, его и снова ее. Вечером, наскоро поужинав, он снова погружался в книги, взятые в библиотеке. А Помм долго-долго мыла посуду, словно боялась при нем сидеть без дела. Когда же с мытьем посуды или со стиркой было покончено, она садилась и внимательно перелистывала книги, выпущенные издательством «Галлимар», которые Эмери советовал ей прочесть. От рук ее приятно пахло «Лимонным лосьоном».
А ведь были и воскресенья. Иногда Эмери уезжал к родителям; но вообще он не любил оставлять Помм одну (точно ушел, оставив в квартире раскрытое окно). Поэтому чаще всего он никуда не ездил. Тогда его хотя бы не мучили мысли о несчастной, одинокой девушке, не способной даже скучать и придумывающей себе из любви к нему десятки никому не нужных дел. Всякий раз, вернувшись из Нормандии, он обнаруживал очередную подушечку, обвязанную нехитрым плетением, или ему преподносили какое-нибудь заштопанное старье, которое он забыл выбросить прошлой зимой. И Эмери становилось стыдно за нее и за себя – было что-то чудовищное в этом отсутствии взаимопонимания. Но он молчал. Он не мог ей этого объяснить, ей вообще ничего нельзя было объяснить. И он решил проводить воскресенья с Помм – тогда он сможет хотя бы последить за ней, избавить ее от унизительных, дурацких актов самопожертвования, а вернее, избавить от угрызения совести самого себя.
Но ему не о чем было с ней говорить, а она – она считала, что все отлично. Не мог же он целыми днями читать или заставлять читать ее. Она делала какие-то дела по хозяйству – если б он и хотел, то все равно не мог бы ей помешать. Но в то же время, жалея ее, он с горечью думал, что в этой комнате, где проходит их жизнь, нет ничего, заслуживающего столь бережного отношения, – ничего такого, что стоило бы тщательно вытирать, убирать, переставлять.
Друзей ни у Эмери, ни у Помм не было – во всяком случае, таких, с кем хотелось бы познакомить «другого», а потому не было возможности убить время даже на то, чтобы пойти в гости или пригласить кого-то к себе. Помм ни разу больше не зашла к Марилен. Да и Марилен уже не интересовалась Помм.
Итак, наши возлюбленные ходили в кино или просто гуляли. Студент по-прежнему громогласно восхищался отражением Нового моста в Сене или ноябрьскими туманами, обволакивающими сады Тюильри. Его склонность к романтике и неуемные восторги при виде «прекрасного», казалось, даже усугубились с тех пор, как он стал жить с Помм. Эмери не умел просто чем-то любоваться – он непременно должен был высказать суждение, произнести сентенцию. Он всегда стремился докопаться до истины – выяснить, что есть ценность, а что поделка. Так уж он был устроен: вечно что-то исследовал, подсчитывал, препарировал, точно работал в судебно-медицинской экспертизе. В этом заключалось для него все удовольствие – а, впрочем, может быть, в том, чтобы переломить себя и не поддаться душевному влечению (вот только был ли он способен на «душевное влечение»?). Вернее, ему необходимо было все время себя пересиливать, решать новые и новые головоломки.
Ну, а Помм? Научилась ли она хоть немного смотреть на вещи его глазами? Этот вопрос также входил в сферу его аналитических изысканий, несмотря на крепнущее подозрение, что Помм на поверку оказалась пустышкой. Она покорно восхищалась всем, чем восхищался Эмери. А он все мучился сомнениями, выражает ли ее «да» лишь покорность (быть может, смутный страх перед ним, который и заставляет ее так много и бессмысленно «заниматься хозяйством») или же Помм действительно искренна. Но разве могла она быть неискренней? Ведь именно отсюда проистекала ее покорность. И мало-помалу Эмери убедил себя в том, что сомневаться в искренности Помм просто смешно. Видимо, в ней есть что-то такое, что позволяет ей испытывать одновременно с ним подъем чувств. А вот сами чувства – иные.
Однажды Помм все-таки удивила его. Они осматривали церковь Сент-Этьен-дю-Мон (это была обычная для них прогулка с осмотром достопримечательностей, где наш архивариус выступал в качестве гида). Помм захотела на минутку присесть (это было так на нее не похоже – вдруг чего-то «захотеть»); Эмери осведомился, не устала ли она. Она ответила, что все в порядке и она вовсе не устала, – просто ей хочется на минутку задержаться здесь: «В таком месте тянет помолиться». Когда они выходили из церкви, он спросил ее (до сих пор ему и в голову не приходило задать ей этот вопрос), верит ли она в бога. В глазах ее засветилась бесконечная нежность, но – лишь на миг, и она ответила: «Конечно!» И впервые Эмери показалось, что она отвечает не ему, не на его вопрос, а словно бы кому-то, кто стоял позади него и кого Эмери не видел. Они пересекли улицу Суффло у комиссариата полиции V округа. Полицейские, стоявшие у двери на часах, дружно проводили Помм взглядом, в котором сквозила откровенная солдатская похоть.
Молодой человек и девушка сидят у окна друг против друга. В купе они одни. Девушка сидит очень прямо, сжав колени. Такое впечатление, точно она предстала перед судом или вот-вот предстанет. Неподвижная, как терракотовая статуэтка. Молодой человек на нее не смотрит. Лицо его повернуто к окну, где деревья – почти все с облетевшей листвой – раскачиваются под порывами ветра.
В тот день Помм, наконец, увидела владения молодого человека: его замок, его родителей, мир его детства, который он открывал для себя, бродя по узким тропинкам между плотными рядами кустарника и ежевики.
Большую часть замка занимала гигантская кухня, где был очаг величиной с подворотню и витал запах дичи. В кухне было очень холодно, но все же теплее, чем в гостиных и спальнях, по которым Эмери быстро провел Помм. Помимо основного здания существовала еще ферма, куда они не заглянули, и голубятня, которую Помм приняла за одну из башен замка.
Отец молодого человека держался как кавалерийский офицер, а одевался как конюх. Мать молодого человека была исполнена этакой колючей любезности. Помм совсем оробела. Утром она целый час выбирала, какой бы свитер и какую юбку лучше надеть.
Пообедали. Отец Эмери невероятно много пил и каждый раз причмокивал, опрокидывая бокал. Помм нашла, что он не слишком вежлив, но весьма решителен. В конце трапезы он отпустил два-три отеческих наставления и, не слишком твердо держась на ногах, отправился по своим делам.
Эмери развел в очаге огонь (словно крошечный огарок загорелся в гроте). Его мать приготовила кофе. Помм хотела было помочь убрать посуду с длинного дубового стола, на котором они ели без скатерти. Но дама не позволила. Она нажала на кнопку звонка, и в комнату ввалилась невероятно грязная крестьянка, сбросила посуду в раковину и, со злости отвернув до отказа кран, залила все водой.
Кофе пили без кофеина, сидя у очага. Дама растянулась на диванчике в стиле мадам Рекамье, единственном предмете, напоминавшем о комфорте в этой каменной пустыне. Помм сидела навытяжку на соломенном стуле. Беседовали. Мать Эмери задала девушке несколько вопросов, на которые ответил юноша. Однако даму не интересовали ответы – ей важно было спросить.
Помм молча, скромно слушала, как о ней говорят: она понимала, что не должна вмешиваться в беседу. У нее было такое ощущение, точно она выставлена на аукцион: с одной стороны продавец – Эмери, с другой стороны клиент – его мать. Но конечно же, между матерью и сыном ни о какой купле-продаже и речи не было, как не было речи о том, принять ее в свой круг или не принимать. Весь разговор шел просто так, смеха ради. («Она очень миленькая, но совсем дурочка», – сказали сыну глаза дамы и тем же взглядом спросили: «Разве ты не слышал, что она сказала?» – «Но... она ничего не сказала», – так же молча ответил ей сын. И, однако, суровый приговор, недвусмысленно вынесенный матерью, произвел на него не меньше впечатления, чем если бы он был высказан вслух.)
После кофе молодые люди отправились прогуляться по голым осенним лугам, окружавшим замок. Свет дня уже разрезали, раздробили черные ветви наиболее высоких деревьев, и он медленно оседал, исчезал за темной стеной окружавшего луг леса. Помм взяла было Эмери за руку, но тот быстро высвободился и зашагал впереди крупным, тяжелым шагом мелкопоместного дворянина, предоставив ей самой заботиться о том, чтобы не сломать ногу на высоченных каблуках, какие носят парикмахерши.
Возвращались они по каменистой тропинке – Эмери по-прежнему шагал впереди, а Помм ковыляла за ним, проваливаясь в рытвины, спотыкаясь о камни. Эмери – в который уже раз – воспевал при Помм несравненную красоту осени, когда небо точно вымощено белыми и серыми валунами и застывшие деревья тоже постепенно становятся как бы изваяниями. При каждом новом приливе вдохновения вся эта поэзия облачком тумана слетала с губ Эмери. И Помм, глядя на эти облачка, чувствовала, как ее затопляет волна любви. Ведь это была частица его души, с которой она молчаливо, но старательно пыталась слить свою душу.
– Ты хоть слушаешь, что я тебе говорю? – внезапно взорвался Эмери. И решив, что хватит изливаться, быстро зашагал к замку, предоставив далеко отставшей парикмахерше самой заботиться о целости своих щиколоток. Войдя в кухню, он захлопнул за собой дверь. Когда же через минуту-другую появилась Помм, он произнес лишь: – Едем домой!
А его мамаша еще подлила масла в огонь:
– Я бы с удовольствием оставила вас ночевать, но, по-моему, это не совсем удобно.
Помм не промолвила ни слова: два дня отгула, что дала ей хозяйка, можно ведь использовать и в другой раз.
Что-то словно мешало Помм проявлять свой ум – будто ставило перед ней барьер. Она никогда не задавала вопросов. Казалось, ее ничто не удивляло, ничто не поражало.
И вот однажды Эмери понял, что не в силах больше слышать, как она чистит зубы.
Раздражение все росло и росло с неотвратимой быстротой, тем более что у Эмери не было опыта жизни вдвоем, – теперь он уже не мог выносить прикосновения ее ног в постели. Потом не мог слышать по ночам ее дыхание.
Вероятно, Помм смутно догадывалась, что ее присутствие стало раздражать Эмери. И она постаралась сделаться еще незаметнее – еще прилежнее занималась домашними делами, еще больше хлопотала по хозяйству. А на Эмери все сильнее и сильнее давило это безграничное, поистине непристойное уничижение, которое мешало ему восстать, мешало даже мысленно сформулировать хоть малейший упрек. И это незаметно его ожесточало. Невыносимая безгрешность Помм точно связывала его, лишая естественного права взбунтоваться. Это вечное стремление девушки стушеваться изрядно давило на него.
А потом появился стыд, который охватывал Эмери всякий раз, как он видел обращенный к нему смиренный взгляд, оценивавший и его, студента, меркой своего смирения. Но человек, которого видели эти глаза, был, право, не Эмери. И его грызло подозрение, что на самом деле Помм живет не с ним, а с кем-то другим, кто очень на него похож, но все же не он.
Так или иначе, в один прекрасный день Эмери все равно должен был прийти к выводу, что его нежность, даже, как ему казалось, любовь, – всего лишь сделка. Но откровенно признаться в этом нельзя – таковы условия контракта.
С первых же минут его увлечение Помм, хоть и было вполне искренним, уже содержало в себе зародыши будущего ожесточения. Он поддался чувству больше, чем сам того хотел, но в ту минуту, когда это произошло, уже понимал, что все кончится крахом. Так почему бы честно не признать, что он предвидел крах и это входило в его расчеты?
Когда Эмери осознал, что тоска, охватывающая его всякий раз, как Помм оказывается рядом (а эти участившиеся вспышки злости – против кого они? против нее или против самого себя?), рождена (и уже давно) тем, что подруга стала раздражать его, он понял и другое: раздражение это уже укоренилось в нем и оно неразрывно связано с «любовью», которую он до сих пор питал к Помм. Переход от одного чувства к другому – от любви к раздражению – произошел незаметно, ибо по сути дела был следствием «перерождения» любви.
Вот почему Эмери какое-то время пытался бороться с этим раздражением. В нем оставалось еще слишком много нежности к Помм. Не мог он взять и вдруг возненавидеть ее молчание, ее смирение, чистоту ее души, которая покорила его когда-то и покоряла до сих пор, как только он над этим задумывался.
Помм все еще была нужна ему – он это чувствовал, когда ее не было рядом. Ему тогда словно чего-то не хватало – не хватало ее. Но когда Помм возвращалась с работы и входила в комнату, он не ощущал ни удовлетворения, ни радости. Наоборот, у него тут же пропадало желание ее видеть. И всякий раз он испытывал легкое, едва ощутимое, однако самое настоящее разочарование, и всякий раз его охватывала злость: он целый день ждет встречи с Помм, а вместо нее приходит другая. Но на что же он рассчитывал?
Ирония этой банальной истории заключается в том, что Помм, которая готовила ужин и садилась есть только после Эмери, была как раз наиболее подходящим персонажем для личной драмы молодого человека, только она не сумела выдержать свою роль до конца, чего, по правде говоря, не сумел бы выдержать никто.
Настанет день, и хранитель музея вспомнит, что давным-давно, когда ему было всего двадцать лет и он был еще совсем сосунком, он знал одну бедную девушку, чью тайну так и не смог раскрыть. И он устремит умиленный взор на уже слегка стершийся в памяти, подправленный временем образ, – пред ним предстанет пара, призрачная, нереальная. Он с удовольствием вспомнит тот странный эпизод из своей юности, наслаждаясь главным образом тем, что будет сам не узнавать себя. И он никогда не поймет, что та комнатка, то скромное прошлое, оставившее в нем неизгладимый след (он никому, даже жене, об этом не расскажет), в конечном счете – не что иное, как ловкая спекуляция, небольшое мошенничество в его почтенной, добропорядочной жизни. Ведь эта ностальгия, даже угрызения совести составляют его тайный капитал, кладезь тонких, бесценных чувств, и процентами с этого капитала он будет пользоваться понемногу каждый день.
Он не спит. Он не может заснуть после того, как увидел ее спящую. Сейчас лицо ее открыто. Оно озарено внутренней улыбкой. Ей ничего не снится. Да и не может ничего сниться. Улыбка ее обращена в никуда, и она отдается небытию как любовнику. Много раз у Эмери возникало желание разбудить ее, вырвать из этого одиночества, из покоя, который она вкушает без него и к которому он, не осмеливаясь в этом себе признаться, ее ревнует.
Вот-вот начнутся рождественские каникулы. Эмери поедет в Нормандию. И до отъезда нужно все решить.
Много раз Эмери мысленно вызывал Помм на разговор. Он говорил с ней то мягко, то твердо – будто уговаривал маленького ребенка лечь пораньше спать, растроганно думал он. Ну разве возможен иной выход? Это же в их общих интересах, объяснял он ей. Они пошли по ложному пути. Помм не может быть с ним счастлива. Что ни говори, они – люди разного круга. То, что подходит одному, никак не удовлетворяет другого, и наоборот. Разные вещи доставляют им удовольствие. Слишком далеки они друг от друга по рождению. Кстати, он даже не знает, чего она от него ждет. Он так и не сумел это узнать. Он извиняется. Он сожалеет. Конечно, не следовало ему заходить так далеко. Это его вина. Пусть она возненавидит его за это, пусть обвинит в том, что он надсмеялся над ней. Это, конечно, не так, но он понимает, что у нее есть основания для такого вывода. Она даже вправе презирать его.
На самом же деле разрыв их произошел куда проще. Эмери сообщил Помм, что собирается расстаться с ней, – мягко, но не считая нужным особенно щадить ее чувства, ибо ему казалось, что она вообще не способна чувствовать. Он столько раз пытался представить себе, как она будет реагировать, когда он сообщит ей о разрыве, и в конечном счете решил, что реакции не будет вовсе. Девушка спокойно, не поднимая шума, простится с ним.
Шума Помм действительно не подняла. Она сумела лишь вымолвить: «Что ж! Хорошо!» И потом: «Я знала, что так будет». Она закрыла коробку с «Кюремайлем», отжала губку и вытерла руки. Она не протестовала. Не плакала. Она казалась настолько спокойной, что Эмери, вместо того чтобы обрадоваться, как он надеялся, столь легкому концу, ощутил, что в нем закипает уже изведанная злоба на это бесчувственное животное – Помм.
Конечно, Эмери не мог не понимать, что причинил Помм непоправимое зло. Она ведь ничего у него не просила – кроме, быть может, согласия принять ее в дар; теперь же ему стало казаться, что она заставила его пойти на неслыханную жертву. Тогда как на самом деле у него не хватило мужества удержать девушку, не допустить, чтобы она принесла себя в дар, – он ведь позволил ей это сделать. Он позволил Помм сжечь перед ним тоненькую свечку своей безграничной преданности – позволил, не задумываясь о последствиях, как не задумываются о последствиях, забыв выключить лампочку перед сном.
Все было так же, как в день их встречи, их первого разговора, их первой прогулки – как в тот день, когда Помм впервые узнала, что такое любовь. И на каждом этапе (тогда он еще не знал, что это были «этапы») он думал лишь, что уже «слишком поздно» поступать иначе. И очередной этап проходил, сопровождаемый легкими угрызениями совести, о которых Эмери тут же забывал. Однако всякий раз он думал о том, что зло, которое он может причинить Помм в дальнейшем, будет неизмеримо больше.
Зато Эмери знал, что Помм не станет защищаться, не станет бунтовать и даже не покажет, как она страдает. И жалость, возникавшая в его сердце, тут же заглушалась вспышкой гнева или презрения.
Если бы Помм попыталась защищаться, если бы у нее вырвалось хоть слово упрека, хотя бы сдавленное рыдание, быть может, Эмери расстался бы с ней иначе. Он почувствовал бы к ней больше уважения (она была бы ему понятней). Он мог бы придать большую значимость их разрыву, и Помм в качестве предсмертного причастия получила бы, по крайней мере, зрелище великого горя. Пока она укладывала вещи в чемодан, он все еще надеялся услышать от нее хоть жалобу, хоть какой-то упрек. Но она молчала. Она только попросила у него коробку из-под книг, освободила ее и сложила туда вещи, не поместившиеся в чемодан. Потом перевязала коробку и ушла.
Он мог бы пройти мимо, совсем рядом с ней и не заметить ее. Ибо Помм была из тех, что сами не проявляются, – нужно терпеливо и внимательно ее расспрашивать, суметь ее разглядеть.
Конечно, Помм была девушкой вполне заурядной. Для Эмери, для автора этих строк, для большинства мужчин девушки такого типа – лишь случайные вехи, мимолетные увлечения, которые занимают вас на миг, потому что красота и покой, даруемые ими, не отвечают вашим представлениям о красоте и покое и о женщине, которая может их дать. Это – бедные девушки. И они сами знают, что они – бедные девушки. Но бедны они лишь тем, чего не сумели в них разглядеть. А кто из мужчин положа руку на сердце не совершал в своей жизни два-три таких проступка?
Помм вернулась к матери, куда-то в район Сюрена или Аньера. В красный кирпичный дом, стоявший между двумя желтыми кирпичными домами. Как и раньше, мать и дочь подолгу сидели на диване, обитом черным дерматином, и ни разу ни та, ни другая словом не обмолвились о молодом человеке. Просто Помм вернулась – и все. Разложила вещи у себя в комнате. И по вечерам смотрела телевизор.
Теперь Помм точно знала, что она некрасивая. Некрасивая и толстая. И достойна презрения, ибо это – лишь внешнее выражение ее внутренней гнусности: на сей счет Помм не сомневалась после того, как Эмери ее прогнал.
Страшнее всего было для нее выходить из дома – оказаться среди других людей, на улице, в поезде, в парикмахерской. Помм видела, как смотрят на нее люди. И явственно слышала смешки за спиной. Она никого не осуждала. Ей просто было стыдно.
А ведь Марилен еще давно сказала ей как-то: «Ой-ой-ой! Ну и разнесло же тебя!» И больно ущипнула за грудь, за бока, за бедра. Теперь-то Помм и припомнила эту фразу Марилен. Слова звучали у нее в ушах, точно Марилен была рядом или чуть позади и снова и снова повторяла, какая она толстая.
Вспоминала Помм и то, как Эмери порой касался ее, будто преодолевая что-то, будто переступая через себя. Наверное, в конце концов она опротивела ему. При одной мысли об этом ее бросало в жар и становилось стыдно. Она вся покрывалась потом. Особенно под мышками. И начинала задыхаться от собственного зловония.
Воскресенья мать и дочь проводили вместе, и это пребывание вдвоем было мучительно для обеих. Днем мать отправлялась с дочерью подышать воздухом – пусть отвлечется, а то совсем зачахнет. Дочь вела мать своим, раз навсегда установленным маршрутом, по самым пустынным улочкам предместья. В воздухе уже ощущалось дыхание холода. Помм ежилась в легоньком пальто. И старалась поскорее вернуться к себе, в свою комнатку. Здесь она была ограждена от посторонних глаз. Наверное, рассеянно слушала фильм, который передавали по телевизору, стоявшему за стенкой. И пыталась заснуть, чтобы проспать до вечера.
Помм чувствовала, что мать сердится на нее. Она никогда и ни в чем не упрекнула бы дочь, – просто ей, должно быть, тоже стыдно. Сначала была Марилен. Но Марилен отвернулась от Помм. Потом был молодой человек; и он тоже от нее отвернулся.
Мать Помм ничего не говорила. Вот если бы она могла сказать дочери, что во всем случившемся нет ни капли ее вины. Но она, как и дочь, не умела высказать то, что было у нее на душе. Она прекрасно понимала, эта продавщица из молочной, что дочери плохо, и изо всех сил старалась не причинить своей девочке еще большую боль. Потому и молчала. И боялась произнести лишнее слово.
Боялась сказать, например, что Помм, конечно же, встретит парня, который составит ей подходящую пару. И они поженятся. Парень будет из скромной семьи, никакой не студент: ведь и сама Помм – человечек скромный. И нечего забивать себе голову мечтами о чем-то другом.
А вот как выглядела бы свадьба Помм.
Произошло бы это событие там, на севере, в ее родном поселке, откуда ей вообще не следовало уезжать. Сначала они пошли бы в мэрию: свидетели – аккуратно подстриженные, с красными от волнения липами, жених – слегка напыщенный. Потом отправились бы в церковь – на Помм было бы белое платье. И белые, очень длинные, очень тонкие перчатки. В церкви Помм пришлось бы помучиться: не так-то легко их стащить. Снова надевать их она бы уже не стала – чтобы все видели обручальное кольцо. Потом она положила бы их в коробку из-под туфель, вместе со свадебным букетом, чтобы сохранить на всю жизнь.
Затем они пошли бы обедать. И просидели бы за столом до темноты на террасе кафе, что напротив памятника погибшим. На закуску ели бы морских тварей, запеченных в раковине.
Отец жениха пил бы бочками. А жена знай подзадоривает. «Только делаешь вид, что пьешь», – говорит она. И подливает. Чтоб был не трезвей других! Да только он мужик бывалый. И держится молодцом.
Ну вот, теперь все пьяны. И мужья ушли куда-то далеко в свой собственный мир, где все расплывается и ускользает. А женщины, наконец, овдовели – хотя ненадолго. Они предоставлены сами себе. И веселятся «всухую». Дети, тоже предоставленные сами себе, берут штурмом памятник погибшим.
Жених сидит трезвый. Он не любит вино. Ему скучно. До чего затянулось застолье! Он молчит, потому что сказать ему нечего.
К вечеру все общество перемещается к маме Помм. На столе стоит игристое вино, пиво, пирожные. Мужья обрели наконец своих жен. Они трезвеют. Но ненадолго, ибо уж очень мерзко себя чувствуешь, когда начинаешь трезветь, а предстоит еще выпивка. Жены ведут их – каждая тянет за руку своего слепца или паралитика по тротуару вдоль шоссе; дети вдалеке следуют за ними: слишком хорошо они знают, что сейчас можно и подзатыльник получить.
Все рассаживаются парами, детишки – вокруг. Каждая семья – на двух плотно сдвинутых стульях. Пары глазеют друг на друга и, вероятно, думают: неужели вот так все и будет до скончания веков. Впрочем, нет! Ни о чем они не думают. Начинаются танцы. Время оплеух прошло. Теперь все довольны, все.
Прабабка Помм сидит в углу и бормочет себе под нос непристойности. Не слишком-то доброжелательная старушка! Смотрит на молодежь всех возрастов из своего далека, которое тихонько бурчит в ней.
Ночь окончательно вступает в свои права. Теперь уже никто не пьет и не танцует. Все осоловели, точно под наркозом. Однако каждый все еще чувствует себя участником празднества, – так колесо велосипеда продолжает вращаться, хотя сбитый велосипедист уже лежит на земле. Женщины начинают поглядывать на часы. Дети, пытаясь завязать игру, яростно пинают друг друга. Взрослые мужчины вдруг разом поднимаются и выходят на улицу помочиться у стены. Женщины пользуются моментом и, забрав детей, тоже выходят.
Вот такой, наверное, была бы свадьба Помм. Но самое печальное во всей этой истории – идет ли речь о свадьбе или о несчастной любви – то, что жалеть, пожалуй, ни о чем не надо. И, должно быть, именно эта мысль постепенно проникала в сознание Помм из глубины того, что мы – мы назовем ее горем.
Представим себе, что мать и дочь вдруг решили бы поговорить – по-настоящему, серьезно. Обеих душили бы слезы, и они охотно тихонько поплакали бы вместе, – только они не умели плакать, как не умели говорить. И вот вместо того, чтобы искать поддержки у матери, которую та ждала лишь случая оказать, Помм изо всех сил старалась держаться с достоинством и не выказывать, что сломлена своим позором. Так она и превратила единственного близкого ей человека – наперсницу, которую дала ей судьба, – в свидетеля, в судью, чье молчание она страшилась разгадать, ибо видела в нем лишь упрек.
В конце зимы Помм начала худеть – сначала незаметно, потом с удивительной быстротой; она сильно побледнела, и кожа на скулах у нее сделалась почти прозрачной. Продавщица из молочной шла на любые ухищрения, чтобы заставить дочь хоть что-нибудь съесть; вначале она надеялась, что Помм вновь обретет былую любовь к вкусным блюдам, но когда она увидела, что у дочери при первом же глотке к горлу подкатывает тошнота, у нее опустились руки. А Помм за весь день выпивала лишь каких-нибудь два-три стакана молока, съедала несколько фруктов и немного сахара. И не потому, что соблюдала диету, – просто она не могла ничего есть.
Тогда, невзирая на снедавшую ее тревогу, продавщице из молочной пришлось смириться с отвращением дочери к еде: она поняла, что Помм не притворяется. По вечерам она варила ей компоты и добавляла ложку свежих сливок в стакан молока перед тем, как подать его Помм. А помимо своих ухищрений горячо молилась, чтобы «это прошло». Она, правда, уже поняла, что для Помм теперь единственная радость – похудеть.
Конечно же, конечно, твердила про себя славная женщина, дочка заболеет. Но надо ли ее еще мучить? И продавщица из молочной виду не подавала, что здоровье дочери беспокоит ее. Даже если бы Помм пожелала умереть (а разве не этого она в глубине души хотела?), мать не воспротивилась бы ее желанию. Слишком хорошо она знала, что такое горе, чтобы не уважать горя дочери. Она была из тех, кому потом говорят: «Как! И вы ничего не сделали? Вы видели, что она умирает, и ничего не сделали?» Какая беда!
И вот месяца через четыре после начала этого поста наступил день, когда Помм почувствовала дурноту по дороге на работу, куда она упорно продолжала ходить. (А ведь хозяйка как уговаривала ее показаться врачу и немного отдохнуть! Но Помм твердила, что чувствует себя «преотлично»; она суетилась даже больше обычного и последнее время была как-то истерически весела.)
Помм упала навзничь посреди перехода через улицу. Тут же на несколько минут образовалась пробка, так как первая машина – та, что затормозила возле Помм, – естественно, не могла сразу тронуться с места. Пришлось ждать, пока освободится проезд. Водители сзади (машины Б, В и т.д.) начинали терять терпение. И неистово гудели. Тип, сидевший за рулем машины А, широко разводил руками, показывая, что ничего не может сделать.
Две женщины подбежали к Помм и попытались помочь ей встать. Но Помм безвольно повисла у них на руках. Заставить ее идти было невозможно.
Тогда владелец машины А вышел, чтобы помочь женщинам оттащить Помм. Ее отнесли на тротуар. Владелец же вернулся в свою машину, оснащенную противотуманными йодистыми фарами и автоматически поднимающимися стеклами. Нажав на газ, он включил радио и взглядом проследил за тем, как на кузове бесшумно выросла антенна; на секунду у него мелькнула мысль о несчастной девушке, распростертой на мостовой, но он тут же вспомнил об овечьих шкурах, покрывавших сиденья его машины. Каждая из этих шкур была размером 50 на 120 сантиметров. И прикреплены они были к спинкам коричневыми резиновыми ремешками. Мех, покрывавший переднее сиденье, то, что рядом с шофером, был слегка вытерт в двух местах – там, где должны покоиться плечи и ягодицы пассажира (или пассажирки).
Водитель бросил взгляд на тахометр, где белая стрелка двигалась по полукругу, слева направо, по зеленым цифрам, указывающим скорость, начиная с 20 км/ч и дальше – через каждые 20 единиц.
Щиток с приборами был, кроме всего прочего, оснащен спидометром и электрическими часами. Они опаздывали почти на десять минут. Спидометр, заграничного образца, как, впрочем, и вся машина, представлял собой полукруг вроде тахометра, только на нем было меньше цифр – от 10 до 80. Расстояние между цифрами 60 и 80 было ярко-красного цвета, резко контрастировавшего с ровным серым фоном счетчика. В центре круга таинственные буквы гласили: «об/мин-100», а прямо под ними что-то вроде подписи: «Велья Борлетти».
Сквозь ветровое стекло, расположенное под углом в 130° к капоту (где разместились шесть цилиндров мотора), тип увидел, что путь свободен – ни одной машины далеко впереди.
Ну, а Помм отвезли в больницу. Нам ведь не обязательно знать, будет она жить или умрет, не так ли? В любом случае под судьбой ее можно провести черту. Она сама так решила в тот день, когда перестала есть, когда перестала что-либо требовать от этого мира, который столь мало ей дал.
Уезжая из Парижа – а ее переводили в другую больницу, находившуюся далеко в провинции, – Помм попросила мать оказать ей услугу и сходить к молодому человеку, сказать ему, что она чувствует себя виноватой. Она ведь прекрасно понимала, как ему было скучно с ней, она часто его раздражала. Так уж сложилось, она и сама теперь не знает почему. Но ей бы очень не хотелось, чтобы молодой человек вспоминал о ней плохо.