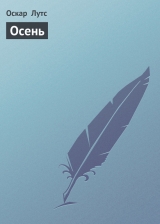
Текст книги "Осень"
Автор книги: Оскар Лутс
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
Школьники сбиваются в стайки, сдвигают головы, шепчутся друг с другом и поглядывают на незнакомцев.
– Им не нравится наше присутствие, – Тали качает головой. – Уйдемте! Зачем мешать их свободе на переменке.
– Верно, верно! – соглашается с этим доводом Леста. – К тому же, мы можем сюда вернуться в какое-нибудь воскресенье, когда эти мальчуганы разойдутся по домам. Тогда я пойду на берег реки и постараюсь найти то кострище, где Тоотс…
– А что, если вам с господином Тали все же к ним подойти, – капитан Паавель поднимает руку, – и сказать, что вы такие-то и такие-то персонажи из повести «Весна»? Любопытно, какие у них будут физиономии.
Школьные друзья вопросительно смотрят друг на друга и улыбаются. Наконец Арно Тали произносит:
– Нет, так не пойдет. Это выглядело бы бахвальством, мол, видали, с какими важными людьми вы имеете дело, мол, мы даже в литературу попали, и так далее. Будь здесь сам Лутс, тогда бы и впрямь можно было бы так поступить. Но сейчас… Нет, пошли отсюда, это самое правильное.
Они проходят на церковный двор и останавливаются возле грубо выделанного каменного креста в каменном же круге. И когда Тали оглядывается на школу, то видит, что на ее обращенном в сад крыльце стоит какой-то молодой человек с курчавыми волосами и рыжеватыми бакенбардами, с которым он вроде бы где-то когда-то уже встречался.
– Новый учитель… – Арно толкает Лесту в бок.
– Похоже, что так, – соглашается Леста, тоже оглянувшись. – Наш друг Лаур уже давно из школы уволился. Бог знает, где он теперь. Надо бы разведать его местонахождение и посетить этого славного человека.
– Да, это был бы правильный шаг. Не забыть бы его сделать.
Путники со всех сторон осматривают перестроенный дом господний: паунвереская церковь – как новая! Новая, и еще красивее прежнего, но та, старая, была милее сердцу. Жаль, что нельзя зайти в церковь и обозреть ее изнутри. Но ведь и сюда тоже можно вернуться в воскресенье, тогда получится: одна дорога – два дела.
Киппелю и Паавелю от вида церкви ни жарко ни холодно, первый даже начинает проявлять беспокойство, поправляет свой заплечный мешок, скребет бороду и смотрит куда-то в сторону.
– А не пора ли нам двигаться? – обращается он к капитану. – Вы говорили, что дотуда, до Тыниссона, еще порядочное расстояние.
– Да, да, сейчас отправимся, – Паавель энергично кивает. И, обращаясь к школьным друзьям, спрашивает: – Может быть, господа и к Тыниссону пойдут вместе с нами?
Нет-нет, Леста и Тали отправляются теперь проведывать своих родителей. А с Тыниссоном повидаются и в Паунвере, у этого парня – хе-хе! – теперь, как видно, частенько возникает повод бывать в этой стороне. – Да и они тоже побудут здесь отнюдь не день или два, а гораздо дольше.
– Ну что ж, тогда с Богом! – отставной капитан жмет руку паунвересцам.
– Если мы не увидимся в Паунвере, то в Тарту – непременно.
Киппель тоже прощается, щелкнув каблуками своих шикарных бахил, и каждое его движение говорит о том, что теперь, наконец, они с Паавелем действительно отправляются в путь.
– Что ж, сегодняшним днем мы можем быть совершенно довольны, – говорит Тали Лесте, когда они выходят со двора церкви на улицу Кистера.
– И впрямь можем, – соглашается Леста. – Повидали и тех, и этих, и… Если бы только не омерзительная брань Кийра! Но забудем о нем, пусть его, как говорится. Побеседуем о чем-нибудь другом или… как бы это сказать… Все время вертелось у меня на языке… Хотел у тебя кое-что спросить.
– Отчего же не спрашиваешь?
– Хотел у тебя спросить… гм… какие чувства возбудила в тебе сегодняшняя встреча с раяской… нет, с госпожой Тоотс?
– Совершенно дружеские. Я мог бы с нею еще и еще разговаривать… все равно сколько времени… и вполне спокойно. Нет, я бы не только мог, я желал бы побеседовать с нею подольше. Сегодняшний разговор был… ну, так… весьма поверхностным. Немножко о том, немножко о сем. Но я же прекрасно понимаю, ты хотел спросить, покрылась ли уже ржавчиной моя старая любовь. Не так ли?
– Да, да.
– На эту старую любовь, на эту детскую мечту, детское увлечение теперь можно смотреть лишь с доброжелательной улыбкой. От нее сохранился только интерес к теперешней жизни раяской Тээле. Госпожа Тоотс тоже интересуется моей судьбой. Вот и все. И если к этому, на манер какой-нибудь старой тетушки, добавить еще, что я всем сердцем желаю Тээле всего доброго, то будет сказано даже чуточку более того, что ты хотел знать. Ох, если бы моя новая любовь разрешилась так же просто, как та, старая, о которой сейчас шла речь!
Возникает пауза. Друзья шагают по улице Кистера к дороге, ведущей на кладбище.
– Теперь ты придал моим мыслям совершенно иное направление, – произносит наконец Леста тихо, осторожно нащупывая почву для продолжения разговора.
– Да, я сделал это… даже и для себя неожиданно, – Тали улыбается. – Улавливаю направление твоих мыслей. Но, дорогой мой, мне уже и не припомнить, на какой именно ноте я прервал свою песню печали. И если я теперь продолжу разматывать клубок своих воспоминаний, то могу иной раз и назад вернуться, к известным тебе событиям и состояниям, стану повторяться. Однако, если ты не боишься умереть со скуки…
– Д-да, свадьба, свадьба… – Арно смотрит куда-то вдаль, словно бы в свое прошлое, – и Вирве захотела остаться в Тарту, у своей матери. Своеобразное начало семейной жизни, не правда ли?
Переживания переживаниями, но я не упрашивал и не умолял ее поехать со мной. Тем более, что отныне она была в известной степени за мною закреплена… если можно так выразиться. Я молча упаковал свои нехитрые пожитки и приготовился к отъезду – ведь меня ждала моя должность в Таллинне.
Но Вирве, по всей вероятности, получив откуда-то извне толчок – скорее всего от матери! – пришла и сказала:
«Я все-таки поеду с тобой».
«Как знаешь», – ответил я.
«Да, я должна поехать, представь, как бы это выглядело, если бы…»
Ты только вникни как следует, мой друг, в ее слова: «Я должна поехать, представь, как бы это выглядело, если бы…» Это означало, что она едет вовсе не ради меня, а только для того, чтобы люди не стали обсуждать ее странности. А теперь позволь мне закурить папиросу, я немного нервничаю. Хотя – когда было иначе? Я нервничал всю мою жизнь, то меньше, то больше, нервы мои были напряжены всегда… кроме разве некоторых редких моментов, которые можно чуть ли не по пальцам перечесть. Среди людей бывают такие, кто всю свою жизнь словно в горячей воде живут. Некоторым из них, правда, удается скрывать свою истинную суть, но тем тяжелее им приходится.
Хорошо же, переехали мы в Таллинн, где нас ожидала сравнительно удобно обставленная квартира и увядшие цветы. Вирве познакомилась со всеми помещениями, но не произнесла ни слова. А ведь я чуть ли не затаив дыхание ждал, когда же моя молодая жена заговорит о более целесообразном использовании комнат, о перестановке мебели и так далее. Но она вошла в квартиру как посторонняя, не испытывая ни малейшего интереса к внутреннему убранству своего временного пристанища.
«Ничего. – Она пожала плечами. – Довольно мило». Но нет ли у нее каких-нибудь особых пожеланий? «Особых пожеланий… – Она рассмеялась мне в лицо! – Какие же особые пожелания могут быть у меня, если это твоя квартира?» «Она вроде бы предназначается для нас обоих…» «Ну что ж, будет видно. Время терпит. Сейчас я желаю только одного: немного привести себя в порядок, а затем осмотреть город».
Хорошо же! Пошли осматривать город и осматривали его чуть ли не до полуночи.
Время от времени, разумеется, заходили в рестораны, ели и даже пили. Потом – кино, потом – снова какой-то ресторан, где играла музыка. Я не был ограничен во времени: занятия в школе начинались лишь через неделю-другую.
Так, стало быть, и прошли эти дни… в сплошном осмотре города, у себя дома мы находились лишь по ночам. Я мужественно разделял такой образ жизни, однако какая-то частица меня была начеку и начинала беспокоиться. Конечно, эта «частица» не требовала, чтобы Вирве немедленно взялась за поварешку и сковородку, но моя милая вообще ничего не делала: даже ее дорожные чемоданы стояли нераспакованными. Она жила, как истинная гостья, которая сегодня тут, а завтра там. У нас была приходящая прислуга, – что могла подумать эта женщина, прибирая нашу спальню?!
Настал день, когда я начал ходить на работу. Думал, теперь-то и Вирве будет немного шевелиться, но… с течением времени мне пришлось убедиться в том, что моя жена гнушается какой бы то ни было работы. Дома я ее заставал чрезвычайно редко. В таких случаях она лежала на диване, курила сигарету и читала книгу – по большей части какой-нибудь совершенно пустой любовный роман, который Бог знает где раздобыла. Она, как я заметил, любила читать, но не любила книги. Листы новых изданий она разрезала все равно каким предметом, лишь бы он мало-мальски мог для этого подойти. Карандашом, гребенкой… или же просто пальцем. Больно было смотреть на те книги, которые она, прочитав, бросала куда попало – то на диван, а то и на пол. А ведь разрезной нож всегда лежал тут же, на столе, в пределах ее протянутой руки!
Видишь, Микк, о каких великих событиях я тебе рассказываю. А ты, дурашка, верно, ожидал иного, чего-нибудь значительного, потрясающего, не так ли? Почему ты не смеешься?
– С чего это я должен смеяться? – спрашивает Леста тихо.
– Тогда хотя бы усмехнись, я ведь знаю, что ты сейчас обо мне думаешь. Ты уверен, что старик Арно Тали по известной причине впал в детство и рассказывает тебе всякую белиберду, которая к делу никак не относится.
– Гм! Если ты даже и ко мне проявляешь такое недоверие, – произносит Леста, – чего уж в таком случае говорить о других. Что же касается мелочей – разве не из них именно и состоит жизнь человека, так же, как и семейная жизнь?
– Хорошо же, – Тали закуривает новую папиросу, – я продолжу свой рассказ с той мерой добра и зла, какая мне доступна. Но общую картину моей супружеской жизни ты должен получить, пусть даже эта картина будет столь неясной и запутанной, сколь это вообще свойственно делам такого рода.
Так вот, я начал замечать, что у Вирве – два лица: одно – для меня, второе – для всех прочих.
Однажды я довольно случайно оказался в одном из кафе – у меня был свободный урок – и увидел там Вирве, сидящую в совершенно незнакомой мне компании… две дамы и два господина. Я занял столик в полутемном углу, заказал себе чашечку кофе и стал оттуда наблюдать… в первую очередь, конечно, за Вирве. О-о, она была достойна любви, была разговорчива и смеялась так зажигательно, что не было бы ничего удивительного, если бы и я заодно с нею засмеялся, сидя в своем углу. Это была далеко не та Вирве, которую я знал в моем обществе. Здесь – жизнерадостная, искрящаяся энергией, а для меня у нее находилась лишь какая-нибудь невыразительная фраза да изредка слабая и бледная улыбка – словно подачка.
Возникал вопрос: почему так? Откуда такая разница? Если я не нравился ей или даже возбуждал в ней чувство отвращения, зачем она вышла за меня замуж? Правда она видела, что я любил ее, мучился из-за нее, но мне еще не доводилось слышать, чтобы кто-нибудь из мужчин или женщин вступил в брак только лишь под воздействием сочувствия.
Уже вечером того же дня я собирался спросить у нее о причине такого двоедушия, но, к счастью, она меня опередила,
«Видела тебя сегодня в кафе…» – сказала она как бы мимоходом.
«Да, я сегодня в кафе заходил. У меня было немного свободного времени».
«А меня ты разве не видел?»
И по выражению ее лица, и по всему ее поведению было ясно, что этот вопрос чрезвычайно ее интересовал, нет, даже более того: этот вопрос был для нее жгучим. Я мгновенно понял, что еще не время выкладывать сноп карты и о чем-нибудь спрашивать, поэтому соврал довольно непринужденно: «Не видел».
«Да, там ведь было столько посетителей… Я заметила тебя, лишь когда ты уходил». А одна ли она была?
«Нет, я сидела со знакомой дамой», – ответила Вирве просто, с видом полнейшего прямодушия.
Итак, мы с нею вполне сквитались; соврал я, и она тоже соврала. Разница была лишь в том, что от меня, как от начинающего, этот трюк потребовал все же известного напряжения, от нее – насколько я смог заметить – ни малейшего.
Затем я видел, как постепенно исчезало эфирное существо, которое я нарисовал в своем воображении и страстно желал в своих мечтах, видел, как взамен появлялся человек – из плоти и крови.
Вирве все же стала кое-что делать: поливала цветы, приводила в порядок свое платье и белье, ходила к портнихе и сделала некоторые покупки. Я наблюдал за этими действиями с удивлением и про себя шутил. «Милая Вирве собирается замуж, – объяснял я себе, – к чему же иначе эти хлопоты?»
Однако милая Вирве вовсе не собиралась выходить замуж, она просто-напросто готовилась к рождественской поездке в Тарту. Разговор об этом у нас уже заходил загодя, но время еще терпело. Тем более врасплох застигла меня новость, когда в один из вечеров жена, вернувшись из кино, села на диван, скрестила руки и сообщила, что завтра уедет.
«Уедешь? – Я оторопел. – Куда же это, смею спросить? «
«Да, спросить об этом ты вполне смеешь, дорогой Арно, – ответила она тоном издевки, покачивая носками своих лаковых туфель. – Я уеду, уеду, уеду…»
Произнеся это, она замолчала, конечно же, чтобы меня позлить.
Я долго ждал ее ответа, наконец ушел в свой кабинет, хотя какой из меня был работник после подобного сообщения! Выбить меня из колеи ничего ей не стоило.
«Я уеду, уеду, уеду…» – нараспев повторяла она в соседней комнате. Затем уже серьезно, с некоторой долей металла в голосе: «А разве ты сказал мне, куда уедешь, в тот раз, когда исчез из Тарту?»
«Тогда мы еще не 6ыли мужем и женой, – ответил я. – Тогда каждый из нас мог делать все, что ему заблагорассудится».
«Аг-га-а! Верно, верно! Тогда мы оба могли делать все, что заблагорассудится. Да, да – именно то, что могло когда-либо заблагорассудиться. И никто из нас не мог тогда, да и сейчас не может ни в чем упрекнуть другого, не так ли?»
Думаю, она выпила ликера, так как была в тот вечер необычайно разговорчива. К тому же с се приходом в квартире повеяло приторно-сладким запашком.
«Подойди поближе! – позвала она. – Зачем нам кричать из комнаты в комнату, когда мы в одной можем в одной поместиться?!»
Я вернулся к ней назад.
«Какой же ты странный, – сказала она со смехом. – Куда это я по-твоему могу поехать? Я ведь не такая, как ты, чтобы взять да и умчаться куда-нибудь туда… на край света. Что это вообще за вопрос: куда я поеду? Само собой разумеется, в Тарту».
Но мы же должны были ехать вместе, как договаривались?
«Верно, но разве это так важно? К тому же, в поездах накануне праздников страшная давка, чего я не люблю, кроме того, в Тарту я смогу помочь маме в праздничных приготовлениях».
Пусть поступает, как считает нужным.
«Но я вижу, это не нравится тебе».
Мало ли, что мне не нравится…
«Hy не будь таким обидчивым, милый Арно!» – Она сделалась нежной и внимательной, взяла меня за руку и притянула сесть с нею рядом. Успокоился и я и уже поверил было, что она без меня никак не уедет, что ее желание уехать было всего лишь мимолетным капризом…
Однако на следующий день, уже трезвая и холодная, она взяла свои чемоданы и отбыла. И отбыла…
Друзья поднимаются на горку, к воротам кладбища – Зайдем-ка, право, сюда, в царство мертвых, – Тали останавливается, – и посидим где-нибудь на скамейке, Я устал, не пойму отчего.
Они проходят по главной кладбищенской дорожка, словно бы отороченной лишь недавно бледно зазеленевшими деревьями и кустами. В воздухе разлит чуть слышный звон бесконечной жизнерадостности, им переполнено все поднебесье, нет ни границ, ни передышки. Здесь, наверху, вновь роится новая жизнь, тогда как там, внизу, парит тишина.
Тали опускается на ближайшую придорожную скамейку возле небольшого захоронения. «Якоб Лейватегия» [46]46
Лейватегия – в переводе с эстонского «хлебопек».
[Закрыть]
– читает он на прикрепленной к кресту табличке. «Кем был тот Лейватегия? – спрашивает Арно сам себя. – Может, тоже из тех, кто обрел покой, лишь обратившись в прах?» Затем спрашивает уже у Лесты:
– Что же ты не присаживаешься, браток? Или желаешь слушать меня стоя? Не многовато ли чести для моего незначительного рассказа! Садись, я поведаю тебе еще кое-что, и сброшу со своей души эту историю, очень возможно, мне тогда полегчает.
Вирве уехала в Тарту, и я был уверен, что она там и останется: с чего бы иначе ей брать с собою чуть ли не все ее тряпки и вещи. Мне вспомнились ее ласки накануне вечером, и они показались мне притворными. Кто знает, с какой целью была задумана эта сцена, но не исключено, что жена хотела оставить о себе хотя бы одно приятное воспоминание. Но вот сердце мне кольнули ее вчерашние, странно подчеркнутые слова: «Тогда мы оба могли делать все, что заблагорассудится». И в особенности дополнение к этим словам; «Да, да, – именно то, что могло когда-либо заблагорассудиться». Что хотела она этим сказать? Имела ли в виду какой-нибудь свой поступок, воспоминание о котором, возможно, угнетало ее до этого вечера?
Но тут и я тоже захотел показать свою стойкость и на Рождество поехал вовсе не в Тарту, а сюда, на хутор Сааре, хотя решение это и стоило мне нескольких дней мучений и нескольких бессонных ночей.
Когда я вернулся в Таллинн, меня ждало дома письмо, в котором спрашивали, куда я подевался. И я вновь немного себя потешил и в ответ прокричал довольно громко, словно они могли меня оттуда, из Тарту, услышать: «Ах, куда и подевался? Исчез по дороге. В поездах накануне праздников страшная давка!»
Это и было моим ответом. Я не написал. Нашу прислугу Марту прямо распирало от любопытства, она спросила: «Когда госпожа приедет?» «Не знаю»,
– ответил я.
Но наша Марта была далеко не такого сорта, как твоя тихая монашка Анна, там, в Тарту. Женщина проницательная и бесцеремонная, Марта, вероятно, уже заметила некоторый диссонанс между мною и Вирве. Примерно неделю спустя она снова спросила: «А госпожа не написала, когда приедет?»
«Нет».
«Но она все же приедет?»
«Не имею понятия».
«Но как же тогда?..» – Вдруг оказалось, что Марат не знает, куда деть свои руки, и они жестикулируют сами но себе. – «Как это?»
Тогда я спросил, что у нее за нужда в госпоже. Ведь она, Марта, вела тут хозяйство и прежде, когда госпожи еще и в помине не было.
«Я но ней соскучилась, – соврала она, наклонив свою узкую селедочную голову. – Госпожа всегда была такой милой и доброй».
Я бы с удовольствием и вовсе отлучил эту женщину от моего жилья, если бы не видел, что она очень чистоплотна.
В феврале из Тарту пришло письмо. «Жив ли ты еще? – спрашивала Вирве. – Если жив и находишься по-прежнему в Таллинне, напиши, могу ли я тебя навестить».
Гм… Ну а если бы я ответил, что уже не жив – интересно, как бы она тогда поступила? Но на такой ответ у меня не хватило ни юмора, ни силы духа, и моя молодая жена получила от меня письмо, полностью соответствующее действительности. Спустя несколько дней Вирве была уже в Таллинне вместе со своими чемоданами. «Почему ты не писал? – спросила она с упреком. – Заставляешь меня сидеть там и высиживать всякие мысли».
«Какие, к примеру?»
«Ну, может, ты болен или стряслось Бог знает что». В таком случае я на ее месте сразу бы поехал в Таллинн… без всякого дальнейшего высиживания.
«Я бы тоже так поступила, но мама была больна».
Она, разумеется, либо врала, либо преувеличивала – обстоятельства того требовали. Да и много ли ей это стоило, если она врала и без всякой необходимости. На сей раз она была расторопнее, словно бы оставила в Тарту свою флегматичность: быстренько распаковала веши, одежду и белье разместила в шкафу и в комоде. «Знаешь, Арно, что мне мама посоветовала?» – сказала она, когда справилась с этим занятием.
Откуда же мне было знать.
«Она посоветовала мне готовить обеды дома. Это должно выйти гораздо дешевле, чем ресторанные».
«Еще бы! – впал я в радостное состояние, – Будем хотя бы знать, что мы едим: домашний обед гораздо сытнее. Но у тебя нет кухонной посуды».
«Ее можно купить. А мама дала мне поваренную книгу».
«О-о, в таком случае начало уже положено!» – воскликнул я, стремясь доставить Вирве удовольствие. А про себя подумал: «Дала бы в таком случае в придачу к поваренной книге две-три кастрюльки, хотя бы в качестве приданого». Но у охваченной жаждой деятельности молодой жены не было времени разводить со мной долгие разговоры. «Дай мне денег, – торопила она, – я прихвачу с собой Марту и куплю все необходимое».
Зачем же такая спешка? Пусть сначала отдохнет с дороги.
«Нет, я хочу уже сегодня скомбинировать что-нибудь вкусненькое. Это так интересно».
Мог ли я иметь что-нибудь против этого. Пусть действует, пусть действует! Удачи!
И этот обед, хотя и припозднившийся, был действительно великолепен. Я не успел толком и рот обтереть, как уже полез в знак благодарности целовать свою жену, эту повариху-искусницу. Я не мог нахвалиться ее умением.
Так и пошло. Мы с Вирве словно бы начали новую жизнь, и я, как шпротина, купался в масле, потолстел, даже стыдно было в зеркало взглянуть. «Кто тебя научил гак вкусно готовить?» – спросил я.
«Работа научила. – Польщенная, она улыбалась. – Не боги горшки обжигают, как ты сам иной раз говоришь. И не забывай, у меня есть поваренная книга, мамин подарок».
Но затем случилось так, что наша прислуга Марта упала, вывихнула себе ногу и должна была лежать в постели. Она не могла больше помогать нам, более того, сама нуждалась в помощи; и Вирве приняла в ее судьбе участие с таким воодушевлением и усердием, что не имела больше времени даже и обеды готовить. Опять мы обедали в кабаке… то бишь в ресторане.
Мне это не понравилось, и я завел об этом разговор. «Почему ты должна,
– сказал я Вирве, – просиживать всю утреннюю половину дня у Марты? Она ведь не при смерти. К тому же, за ней есть кому поухаживать и кроме тебя. Не пора ли тебе снова начать готовить для нас домашние обеды? Теперь, когда я к ним привык, ресторанная еда мне поперек горла встает».
«Но, Арно, – Вирве серьезно взглянула мне в лицо, – как ты можешь быть таким эгоистичным?!»
«Речь идет вовсе не об эгоизме, – объяснял я. – Я разговаривал с врачом, и он сказал мне, что здоровью Марты не угрожает никакая опасность, она уже вполне свободно может передвигаться по комнате без посторонней помощи».
«Ах так? Это меняет дело. Завтра же станем обедать дома».
Так мы и поступили, и я опять был счастлив, пока не подхватил легкий грипп – я слег в постель – наполовину лишь потому, что так принято – и сказал своей молодой жене, что теперь у нее есть больной и дома, незачем ей искать их по всему городу.
Уже не помню, что она на это ответила, да и так ли важно каждое слово, каким мы в том или ином случае обменивались, тем паче, что мое повествование все равно с пробелами; остаются незатронутыми даже и немалые промежутки времени, которые либо позабылись, либо не имеют особого значений. Но только я заметил уже во время первого дня своей болезни, что моя Вирве забеспокоилась.
«Ну а все же, – она остановилась возле моей кровати, может быть, ты соберешься с силами и мы пойдем пообедаем?» «Куда?» «Все туда же, куда всегда ходим. У меня сегодня нет ни малейшего желания торчать на кухне».
Тогда пусть она приготовит просто так… что-нибудь полегче, без особой возни. На улицу выходить, пожалуй, все же немного опасно: болезнь может принять более серьезный оборот. К тому же, как бы меня не увидел там кто-нибудь из коллег… Что это за больной, если он сидит в кабаке?
«Хорошо», – согласилась с этим доводом моя молодая хозяйка и направилась на кухню. Довольно долго она воевала с плитой, а вернувшись в комнату, сообщила, что сегодняшние дрова не загораются, она сготовит что-нибудь на примусе.
Будто не все равно, на чем и как. В конце концов Вирве появилась с чайником, от которого шел пар, и мы поели сухую и холодную пищу, запивая ее горячей водой.
На следующий день у Вирве получилась осечка: жаркое не удалось до такой степени, что она не рискнула подать его на стол.
Пусть по меньшей мере покажет, попросил я. Нет, и показать не захотела.
На третий день, когда я случайно оказался на кухне, я увидел, как Вирве со слезами на глазах вырывала страницы из до небес расхваленной маминой поваренной книги и швыряла их под плиту, в огонь.
Теперь мне стало ясно, каково поварское искусство моей жены.
Как только на горизонте появилась Марта, мы снова стали вкусно обедать.
Так мы и жили – в атмосфере большого и маленького вранья и всяческих странностей. Ты, мой дружочек, конечно, удивляешься, что несмотря на все это я все-таки был к ней привязан и даже не собирался делать какой-нибудь более или менее серьезный шаг. Да, я любил ее со всеми ее недостатками, и если время от времени противился, то есть играл в молчанку, за этим следовали мольбы и просьбы о прощении. Что я мог поделать, если каждые пять минут у меня шесть раз менялось настроение. Конечно же, и у Вирве тоже случались перепады настроения и «душевные порывы» – она была неизменно холодной и сдержанной лишь по отношению ко мне. Незначительные же и редкие исключения обусловливались скорее всего ничем иным, как чувством долга, и не могли изменить наших взаимоотношений.
Вновь и вновь передо мной вставал все тот же вопрос: почему она вышла за меня замуж, если терпела меня рядом с собой лишь как неизбежное зло? С точки зрения Вирве, – рассуждал я иной раз, – я оказался для нее все же приемлемой партией; известные материальные блага были теперь за нею закреплены… так же, как сама она, по моему мнению, была закреплена за мною таинством перед святым алтарем.
На Пасху Вирве снова поехала в Тарту, однако надолго там не задержалась: город, по ее словам, был пустой и жуткий, и еще скучнее, чем Таллинн. Вскоре разговор у нас зашел о моем летнем отпуске, о том, куда на это время отправиться. Большого значения это для меня не имело, но все же я предпочитал побывать тут, в Паунвере и, главное, на хуторе Сааре. Однако уже в первый же день нашего приезда сюда мне стало ясно, что жизнь в деревне Вирве не по нутру. Да и могло ли быть иначе! Что говорить о здешнем захолустье, если и город Тарту казался ей пустым и жутким. Даже мои старые тропинки и тихие уголки, с которыми были связаны дорогие мне воспоминания, оставили ее совершенно равнодушной. Примерно неделю она все же выдержала, затем ее терпению пришел конец. Между прочим, не понравились Вирве и мои старики, равно как и она сама не понравилась им. А ведь было лишь начало моего отпуска – основная его часть простиралась впереди, словно широкая равнина. Куда же теперь? В Тарту Вирве ехать не хотела, она только недавно прибыла оттуда, да и жизнь там в такое время года, конечно, еще бесцветнее, чем была в пасхальные дни. И мы решили познакомиться с городами своей родины, съездить в Хаапсалу, Пярну, Курессааре и так далее. Но прежде чем мы собрались в путь, у меня вышел разговор с матерью.
«Ну, Арно, опять ты уезжаешь, – начала старушка. – Едва появишься – и уже след простыл, будто у тебя в руках огонь».
«Так снова наведаюсь, – я постарался по возможности облегчить расставание. – Может быть, этим же летом».
«Наведайся, наведайся! – старушка сразу повеселела. – Но… не серчай, ежели я тебе кое-что скажу».
Не рассержусь. Пусть говорит смело.
«Видишь ли, дорогой Арно, – прошептала мать, – ежели ты снова приедешь, так приезжай один… как было на прошлое Рождество. Может, это и грешно – так говорить, но что тут поделаешь, золотце мое… Ежели ты приедешь один, так мне это будет двойная радость. Да и отцу тоже. Эта твоя жена для нас больно уж велика госпожа, не знаем, как под нее и подладиться. Как же сам ты умудряешься с нею ладить? По-доброму ли вы живете-то?»
«Довольно хорошо», – попробовал я повернуть все к лучшему.
«Благодарение Господу! Это самое что ни на есть главное».
Вот, примерно, и все, о чем мы с матерью успели в тот раз поговорить, затем меня позвала Вирве: пора было спешить на поезд. Но я все же потом исполнил просьбу матери и сегодня тоже исполняю: иду в Сааре один, без жены.
Вот так. Интересно, что сказал бы этот самый Якоб Лейватегия по поводу моего рассказа, будь он еще в состоянии слышать?
Арно поднимается со скамейки и не спеша оглядывает округу.
– Хо-хо, – произносит он наконец, – солнце заходит, вечер приходит, пора и о ночлеге подумать. Но до этого есть еще немного времени. Если ты не против, расскажу тебе еще немножечко, потом навещу могилку бабушки, а потом – на хутор Сааре.
Арно Тали садится опять на то же место, закуривает папиросу, два-три раза затягивается и продолжает свое повествование. Но на этот раз делает это словно бы против воли, во всяком случае, так кажется поначалу.
– Итак, поехали мы прежде всего опять в Таллинн, оттуда, как и было задумано, в Хаапсалу, затем в Пярну, далее в Курессааре.
Да, Вирве осталась довольна осмотром этих городов, они даже понравились ей, но – как ни странно – она ими быстро пресытилась. Она словно бы уже побывала как тут, так и там. Мне было ясно, что мою дорогую Вирве томит какая-то невысказанная мысль, надо было только дождаться, когда жен выскажет ее. И смотри-ка – это в конце концов произошло.
«Ну вот, – произнесла она однажды вечером, когда мы были в парке Курессаареского дворца, – мы увидели почти все города Эстонии, из тех, что побольше, у нас осталось достаточно времени, чтобы побывать еще и за границей».
«За границей??! – Я испугался. – Сейчас, еще этим же летом? «
«А почему бы и нет? « – спросила она простодушно, словно бы речь шла о Вильянди или Абрука. [47]47
Абрука – небольшой островок, Вильянди – город на юге Эстонии.
[Закрыть]
Нет, это не выйдет. Во-первых, поездку за границу мы даже и не планировали, во-вторых, времени для этого все же оставалось чересчур мало, в-третьих, для более длительного путешествия отсутствовал такой наиважнейший элемент, как деньги.
Вирве сделала большие глаза, отвела взгляд в сторону, и на ее красивом свежем лице появилась слабая, несколько насмешливая улыбка. «У тебя нет денег? – спросила жена тихо. – Тогда, конечно, дело другое. Но ведь ты жил за границей еще студентом, а теперь, когда у тебя уже служба…»
Тогда были отцовские деньги, я в тот раз использовал их не по назначению. Не могу же я, в самом деле, теперь снова пойти и… Это был бы неверный, даже постыдный шаг.
Жену никогда не интересовали ни мои доходы, ни мое материальное положение, и вплоть до этого вечера она, вероятно, считала меня достаточно обеспеченным человеком, для которого не имеет значения – одной поездкой за границу меньше или больше. И теперь Вирве словно бы очнулась от этой иллюзии… конечно, если она вообще поверила моим словам.








