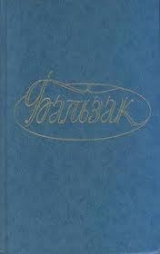
Текст книги "Сельский священник"
Автор книги: Оноре де Бальзак
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 16 страниц)
Сделав несколько шагов по крутой тропинке, усыпанной красными осенними листьями и черными ягодами терна и ежевики, аббат Габриэль обернулся, повинуясь невольному желанию осмотреть местность, куда попал впервые, или своего рода физическому любопытству, присущему также собакам и лошадям. Ему стало ясно положение Монтеньяка при виде нескольких скудных источников на склоне холма и узкой речушки, вдоль которой проходила департаментская дорога, соединявшая центр округа с префектурой. Как во всех деревнях этого плато, дома Монтеньяка были сложены из необожженного кирпича. Настоящий кирпич можно было увидеть только в домах, очевидно, отстроенных после пожара. Крыши всюду соломенные. Все здесь говорило о нищете. Перед деревней простирались поля ржи, репы и картофеля, отвоеванные у равнины. На склонах холма Габриэль увидел небольшие, искусственно орошаемые луга; на таких лугах выращивают знаменитых лимузенских лошадей, которые, говорят, остались нам в наследство от арабов, пришедших через Пиренеи во Францию, чтобы пасть между Пуатье и Туром от секиры франков, сражавшихся под началом Шарля Мартеля. Вершина холма была словно поражена засухой. Выжженные, красно-бурые пространства указывали на бесплодную почву, на которой могут расти только каштаны. Вода, заботливо собранная для орошения, оживляла лишь окаймленные каштановыми деревьями, окруженные изгородями луга, где росла тонкая, редкая и низкая, будто подслащенная травка, которой и выкармливают породу гордых и нежных коней; они не очень выносливы, но в своих родных местах отличаются превосходными качествами – на чужбине они приживаются с трудом. Несколько молодых тутовых деревьев свидетельствовали о намерении заняться производством шелка. Как в большинстве деревень мира, в Монтеньяке была одна только улица, по которой шла проселочная дорога. Деревня делилась на верхний и нижний Монтеньяк и вся была изрезана переулочками, соединявшимися с улицей под прямым углом. Над рядом домов, примостившихся у подножия холма, поднимались вверх веселые садики. Чтобы выйти из дома на дорогу, требовался какой-нибудь спуск; тут были и земляные лесенки и каменные, а на них то здесь, то там сидели старухи – кто с вязаньем в руках, кто укачивая ребенка – и вели беседу между верхним и нижним Монтеньяком, переговариваясь через обычно пустынную дорогу; таким образом, новости довольно быстро доходили с одного конца деревни на другой. Все сады были полны фруктовых деревьев, капусты, лука, овощей; вдоль задних оград стояли ульи. Ниже дороги шел параллельно другой ряд хижин, с садами, сбегавшими к реке, вдоль которой тянулись заросли великолепной конопли и росли любящие влагу фруктовые деревья; некоторые дома находились, так же как почта, в низине, что благоприятствовало ткацкому промыслу. Повсюду поднимались раскидистые ореховые деревья – признак плодородной почвы. В этой стороне, в отдаленном от равнины конце деревни, стоял дом побольше и попригляднее других, окруженный еще несколькими домиками, тоже содержавшимися в чистоте и порядке. Этот хуторок, отделенный садами от остальной деревни, уже тогда носил название «Ташроны» и сохранил его по сей день. Сама по себе община Монтеньяка была невелика, но в нее входило еще примерно мыз тридцать, стоявших особняком. По долине тянулись к реке полосы кустарников, какие встречаются также в долинах Марша и Берри; отмечая путь весенних вод, они окружали как бы зеленой бахромой деревню, затерянную в равнине, словно корабль в открытом море.
Когда какая-нибудь семья, усадьба, деревня, страна переходит от плачевного состояния к удовлетворительному, хотя бы не достигнув еще ни роскоши, ни даже достатка, эта новая жизнь кажется настолько естественной для живых существ, что сторонний наблюдатель не может догадаться о тех гигантских усилиях, бесконечно мелких, но великих своим упорством, о труде, заложенном в самом основании дела, о позабытой уже тяжкой работе, на которой покоятся первые заметные глазу перемены. Вот почему молодой аббат не заметил ничего примечательного, когда окинул взглядом приветливый ландшафт. Ему неизвестно было состояние края до приезда кюре Бонне.
Аббат Габриэль двинулся дальше по тропинке и вскоре вновь увидел над садами верхнего Монтеньяка церковь и дом священника, которые заметил еще издали, и неясно проступающие позади них величественные, увитые ползучими растениями развалины старого Монтеньякского замка, бывшего в двенадцатом веке одной из резиденций герцогов Наваррских. Перед домом священника, очевидно, построенным некогда для главного лесничего или управляющего, тянулась длинная, усаженная липами терраса, с которой открывался вид на всю округу. О древности лестницы и поддерживающих террасу стен говорили причиненные безжалостным временем разрушения. Между каменными плитами ступеней, сдвинутых с места незаметным, но упорным, натиском растительности, пробивались высокие травы и грубые листья. Низкий, стелющийся по камням мох покрывал каждую ступеньку ярким зеленым ковром. Разнообразные вьюнки, ромашки, венерины волосы пышными охапками выглядывали из всех трещин, избороздивших старые стены, несмотря на их толщину. Природа набросила на серые камни многоцветное покрывало из резных папоротников, фиолетовых львиных зевов с золотистыми пестиками, голубой змеиной травки бурых хвощей, и теперь камень, редко-редко проглядывая сквозь свежий ковер, казался второстепенной деталью. На террасе перед самым домом был разбит садик с прямыми дорожками, окаймленными буксом, а позади дома белела скала, украшенная слабенькими, склоненными, словно плюмажи, деревьями. Развалины замка возвышались и над жилищем священника и над церковью. Прочно выстроенный из скрепленных известкой валунов двухэтажный дом был увенчан огромной покатой крышей с двумя коньками, прикрывавшей обширные и, судя по ветхости слуховых окон, пустые чердаки. Первый этаж состоял из двух комнат, разделенных коридором, в глубине которого деревянная лесенка вела на второй этаж; здесь также было две комнаты. Маленькая кухонька прилепилась к зданию со стороны двора, в котором находились конюшня и хлев, совершенно пустые, бесполезные и заброшенные. Между церковью и домом священника раскинулся огород. Полуразрушенная галерея вела из дома в ризницу.
Когда молодой аббат увидел эти четыре окна со свинцовыми переплетами, бурые замшелые стены, грубо вытесанную и растрескавшуюся, словно спичечный коробок, дверь, он – отнюдь не умилившись наивной прелестью этого уголка, свежестью буйных растений, обвивших крышу и потемневшие наличники, или виноградными лозами, заглядывавшими в окна всеми своими листочками и кистями, – почувствовал себя несказанно счастливым оттого, что ему предстояло быть епископом, а не деревенским кюре.
Этот всегда открытый дом, казалось, принадлежал всем. Аббат Габриэль вошел в примыкавшую к кухне столовую и нашел ее меблировку весьма скудной: старинный дубовый стол на четырех витых ножках, обитое ковровой тканью кресло, деревянные стулья и ветхий ларь, заменявший буфет. В кухне ни души, кроме кошки, указывавшей на присутствие женщины. Вторая комната служила гостиной. Заглянув туда, молодой священник увидел некрашеные деревянные кресла с мягкими сиденьями. Панели и потолочные балки были из каштана, принявшего оттенок черного дерева. Обстановку дополняли стенные часы в зеленом, расписанном цветами футляре, стол, покрытый вытертой зеленой скатертью, несколько стульев и два подсвечника на каминной доске, между которыми стоял восковой младенец Иисус под стеклянным колпаком. Перед камином, обрамленным грубой деревянной резьбой, красовался бумажный экран с изображением доброго пастыря, несущего на плече овечку, – несомненно, подарок дочери мэра или мирового судьи в знак признательности за пастырскую заботу о ее воспитании.
Дом находился в жалком состоянии; некогда побеленные стены местами потеряли всякий цвет, и в высоту человеческого роста были затерты до блеска; лестница с широкими перилами и деревянными ступеньками содержалась в чистоте, но так и дрожала под ногами. В глубине, против входной двери, была другая, тоже открытая дверь, через которую аббат де Растиньяк увидел крошечный огородик, упиравшийся, словно в крепостную стену, в белую выветренную скалу, вдоль которой тянулись пышные, но плохо ухоженные виноградные шпалеры с листьями, будто изъеденными проказой. Аббат повернул назад и стал прогуливаться по аллеям сада, откуда открывался его взору великолепный вид на расположенную ниже деревни долину реки – подлинный оазис на краю беспредельных плоских равнин, напоминавших спокойное море, подернутое дымкой утреннего тумана. А позади, с одной стороны – яркие пятна тронутого бронзой леса, с другой – церковь и развалины замка на вершине горы, как бы врезанные в синеву небес.
Прислушиваясь к поскрипыванию песка под ногами, аббат Габриэль бродил по дорожкам, образующим звезды, круги и ромбы, и поглядывал то на деревню, где заприметившие его жители уже стали собираться на улице кучками, то на зеленую долину, пересеченную каменистыми дорогами и бегущей среди ив речкой, – на долину, так резко отличавшуюся от беспредельной степи. И тут молодого аббата охватили чувства, изменившие весь ход его мыслей; он восхитился покоем этих мест, вдохнул всей грудью этот чистый воздух и почувствовал, как снизошел на него мир этой жизни, столь близкой к библейской простоте. Он начал смутно постигать красоту дома священника и вернулся, чтобы получше рассмотреть его, движимый серьезной пытливостью. Девчушка, которая, очевидно, лакомилась в саду, вместо того чтобы стеречь дом, услышала, как по выложенному плитками полу первого этажа ходит какой-то человек в скрипучих башмаках. Она прибежала. Смущенная тем, что ее застали с одним яблоком в руке, а с другим в зубах, она не могла произнести ни слова в ответ на расспросы этого красивого молоденького аббатика. Малышка и не подозревала, что бывают такие аббаты – разряженные, в белоснежном батистовом белье, в сутане из тонкого черного сукна без единого пятнышка или морщинки.
– Господин Бонне, – пробормотала она, наконец, – господин Бонне служит мессу, а мадмуазель Урсула в церкви.
Аббат Габриэль не заметил галереи, соединявшей жилище священника с церковью; выйдя вновь на тропинку, он направился к главному входу. Крытый портал был обращен к деревне; в церковь вели стертые неровные каменные ступени, поднимавшиеся над площадью, изрытой вешними водами и обсаженной по указу протестанта Сюлли раскидистыми вязами. Церковь, одна из самых бедных церквей Франции – где они бывают достаточно бедны, – походила на огромный амбар с пристроенным над дверью навесом, опирающимся на деревянные или кирпичные столбы. Сложенная так же, как дом священника, из валунов, схваченных известкой, с пристроенной четырехугольной колокольней без шпиля, крытая кровлей из крупной круглой черепицы, церковь эта блистала снаружи не роскошными произведениями скульптуры, а игрой света и тени на украшениях, созданных, отделанных и расписанных самой природой, которая знает в этом толк не меньше, чем Микеланджело. Вокруг входа разметались по стенам гибкие стебли плюща, проступающие сквозь листву, как сеть жилок на анатомическом рисунке. Это покрывало, наброшенное временем, чтобы прикрыть им же самим нанесенные раны, пестрело осенними цветами, проросшими из трещин, и давало приют множеству щебечущих пташек. Окно в виде розетки над навесом портала было сплошь увито голубыми колокольчиками, напоминая первую страницу богато разрисованного требника. Боковой фасад, обращенный к дому священника, не так изобиловал цветами: он смотрел на север, и по стене стлались серые и красные мхи. Но зато задний и противоположный боковой фасады, которые выходили на кладбище, радовали глаз пышным и ярким цветением. В расселинах между камнями росли маленькие деревца и среди них миндаль – эмблема надежды. Две гигантские сосны позади церкви заменяли громоотвод. Главным украшением кладбища, обнесенного полуразрушенной низкой оградой, доходившей теперь лишь до половины человеческого роста, служил чугунный крест на каменном цоколе, убранный освященным на пасху буксом во исполнение трогательного христианского обычая, в городах позабытого. Из всех пастырей только деревенские священники могут сказать своим мертвецам в день светлого воскресения: «В ином мире вы будете счастливы!» Кое-где над поросшими травой бугорками высились полусгнившие кресты.
Внутреннее убранство храма совершенно отвечало его поэтически смиренной внешности, украшенной только рукой времени, на сей раз милосердного. В помещении церкви глаз прежде всего обращался к сводам, обшитым досками каштанового дерева, которому время придало богатые тона благородных древесных пород Европы. Свод поддерживали прочные подпоры, расположенные на равном расстоянии и покоящиеся на поперечных балках. Ни единого украшения на четырех выбеленных мелом стенах. В силу своей бедности прихожане, сами того не зная, оказались иконоборцами. На вымощенном плитками полу стояли деревянные скамьи, свет проникал в церковь через боковые стрельчатые окна со свинцовыми переплетами. Алтарь, имевший форму гроба, украшали распятие, дарохранительница орехового дерева с простой изящной резьбой, восемь подсвечников с экономичными свечами из выкрашенного в белый цвет дерева и две наполненные искусственными цветами фарфоровые вазы, которыми пренебрег бы привратник биржевого маклера, однако скромно удовольствовался бог. Люстрой в храме служил ночник, вставленный в старинную кропильницу посеребренной меди, подвешенную на шелковых шнурах, попавших сюда из какого-нибудь разоренного замка. Купель деревянная, так же как кафедра и некое подобие ложи для церковных старост, этой сельской аристократии. Алтарь святой девы являл взору восхищенной паствы две цветные литографии в позолоченных рамках. Он был выкрашен в белый цвет, убран искусственными цветами в позолоченных деревянных вазах и покрыт скатертью, обшитой старыми, порыжевшими кружевами.
Высокое узкое окно в глубине церкви, затянутое красной миткалевой занавесью, создавало неожиданный волшебный эффект. Роскошная алая завеса отбрасывала розовый отсвет на побеленные стены, и казалось, будто божественная мысль озарила алтарь и объяла убогий неф, стремясь согреть его. У стены галереи, которая вела в ризницу, стояла деревянная, чудовищно раскрашенная статуя патрона деревни, святого Жана-Батиста с барашком.
И все же, несмотря на свою бедность, церковь не лишена была мягкой гармонии, которая особенно проявляется в красках и всегда трогает прекрасные души. Теплые коричневые тона дерева чудесно оттеняли чистую белизну стен и согласно сочетались с торжествующим пурпуром, озаряющим алтарь. Это суровое триединство цветов напоминало о великой католической идее. Если при взгляде на этот убогий дом божий первым чувством было недоумение, то тут же оно сменялось восторгом, смешанным с жалостью: разве не отразилась в храме нищета всего края? Не подобен ли он в своей бесхитростной простоте дому священника? К тому же церковь содержалась в чистоте и порядке. Здесь все дышало ароматом сельских добродетелей, ничто не говорило о заброшенности. Дом божий был прост и груб, но в нем обитала молитва, в нем трепетала душа, и каждый невольно это чувствовал.
Аббат Габриэль тихонько проскользнул в церковь, стараясь не нарушить глубокой сосредоточенности молящихся, стоявших двумя группами у главного алтаря. В том месте, где спускалась с потолка люстра, алтарь отделялся от нефа довольно топорной балюстрадой каштанового дерева с наброшенной на нее пеленой, которая употреблялась во время причастия. По обе стороны нефа стояло человек двадцать крестьян и крестьянок. Погруженные в горячую молитву, они не обратили никакого внимания на чужака, шагавшего по узкому проходу между двумя рядами скамей. Остановившись под люстрой, откуда видны были два образующие крест придела, один из которых вел в ризницу, а другой – на кладбище, аббат Габриэль заметил в приделе, обращенном к кладбищу, одетое в траур семейство, преклонившее колени на каменных плитах, – скамей там не было. Молодой аббат простерся на ступенях балюстрады, отделявшей амвон от нефа, и начал молиться, искоса наблюдая за еще непонятным ему зрелищем. Евангелие было прочитано. Кюре снял с себя ризы и, спустившись со ступеней алтаря, направился к балюстраде. Молодой аббат, ожидавший этого, прижался к стене раньше, чем г-н Бонне мог его заметить. Пробило десять часов.
– Братья, – дрожащим голосом произнес кюре, – в этот самый час сын нашего прихода готовится заплатить свой долг земному правосудию; он идет на смертную муку, и мы служим святую мессу за упокой души его. Соединим свои молитвы, будем молить господа не покидать дитя свое в последнюю минуту, дабы раскаянием заслужил он на небе милость, в которой отказано ему было на земле. Гибель этого несчастного, от которого мы особенно ждали доброго примера, можно объяснить лишь забвением религиозных правил...
Тут кюре прервали рыдания одетых в траур людей; по этому взрыву горя молодой аббат признал в них семью Ташрона, хотя никогда их раньше не видел. У самой стены стояли двое стариков лет по семидесяти; два неподвижных, изборожденных морщинами лица, темных, как флорентийская бронза. Эти двое, застывшие как статуи в своих заплатанных, ветхих одеждах, очевидно, были дед и бабка осужденного. Их остекленевшие красные глаза, казалось, плакали кровавыми слезами, их руки так дрожали, что палки, на которые они опирались, выстукивали дробь на каменных плитах. Рядом с ними, закрыв лица, рыдали отец и мать. У ног четырех старших в семье стояли на коленях две замужние сестры со своими мужьями. За ними – трое юношей, окаменевшие от горя. Пятеро ребятишек, из которых старшему было не больше семи, преклонив колени и, разумеется, ничего не понимая во всем происходящем, осматривались вокруг и прислушивались с тем характерным для крестьян тупым любопытством, которое в действительности является самой острой способностью наблюдать физические стороны жизни. И, наконец, пришедшая позже других бедняжка Дениза, которая была арестована по воле правосудия, эта мученица сестринской любви, слушала священника, глядя на него не то безумным, не то недоверчивым взглядом. Для нее брат не мог умереть. Она разительно напоминала ту из трех Марий, которая не верила в смерть Христа, хотя и видела, что он умирает. Дениза стояла бледная, с глазами сухими, как у всех, кто проводит многие ночи без сна; не тяжкий крестьянский труд, а горе иссушило ее свежесть. Однако Дениза сохранила еще прелесть, свойственную сельским девушкам: полные формы, красивые грубоватые руки, круглое личико, чистые глаза, горевшие сейчас отчаянием. В вырезе платья под косынкой виднелась не тронутая солнцем кожа, которая говорила о прекрасном теле и скрытой под одеждой белизне. Обе замужние сестры плакали; их мужья, степенные земледельцы, были серьезны. Трое юношей, охваченные глубокой печалью, упорно смотрели в землю. Только Дениза и ее мать вносили оттенок возмущения в ужасную картину покорности и безнадежного горя.
Жители деревни с искренним благочестием и состраданием разделяли скорбь всеми уважаемой семьи; ужас отразился на лицах, когда из слов кюре стало ясно, что в этот миг должна была упасть голова юноши, которого все они знали с рождения и никогда не сочли бы способным совершить преступление. Рыдания, заглушившие простую короткую проповедь, начатую священником, так потрясли его, что он внезапно оборвал свою речь и призвал паству к горячей молитве. Хотя подобное зрелище и не должно бы удивлять священника, Габриэль де Растиньяк был слишком молод, чтобы не испытать глубокого волнения. Ему не приходилось отправлять обязанности простого священника, – он знал, что ему предназначена другая судьба; ему не случалось спускаться на дно общества, где сердце обливается кровью при виде человеческих горестей, – его ждала миссия высшего духовенства, которое поддерживает дух жертвенности, представляет возвышенную мысль церкви, а иногда с блеском проявляет свои достоинства на более обширной сцене, как знаменитые епископы Марселя и Мо, как архиепископы Арля и Камбрэ [17]17
...знаменитые епископы Марселя и Мо ...архиепископы Арля и Камбрэ.– Епископ Мо– Жак Бенинь Боссюэ (1627—1704) был известен своими проповедями. Архиепископ Камбрэ– Фенелон Франсуа де Салиньяк де Ламот (1651—1715), писатель-моралист, автор книги «Приключения Телемака, сына Улисса», содержащей критику абсолютизма. Епископ Марселя– Бельзене – принимал активное участие в борьбе с чумой в 1720—1721 годах. Архиепископ Арля– Дюло – казнен по приговору революционного трибунала в 1792 году.
[Закрыть].
Кучка сельских жителей со слезами молилась за того, кто должен был сейчас принять казнь на городской площади, перед тысячами чужих людей, сбежавшихся со всех сторон, чтобы усугубить его муки позором; этот слабый противовес сочувствия и молитвы, пытавшийся преодолеть тяжкий груз кровожадного любопытства и справедливых проклятий, не мог не тронуть человеческое сердце, особенно здесь, в этой скромной церкви. Аббата Габриэля искушало желание подойти к семье Ташрона и сказать: «Ваш сын, ваш брат еще жив, казнь отложена». Но он побоялся нарушить службу и к тому же знал, что отсрочка не означала помилования. Невольно вместо того, чтобы следить за службой, аббат стал присматриваться к пастырю, от которого ждали чуда – обращения преступника на путь истинный.
По своим впечатлениям от церковного дома Габриэль де Растиньяк создал себе воображаемый портрет г-на Бонне: тучный низенький человек, с грубым красным лицом, опаленный солнцем неутомимый труженик, похожий на крестьянина. Ничуть не бывало, – аббат увидел равного себе. Г-н Бонне был тщедушен и невелик ростом; в его внешности прежде всего поражало лицо, вдохновенное лицо апостола: оно было почти треугольной формы, – от висков широкого, прочерченного морщинами лба две тонкие прямые линии шли вдоль впалых щек к кончику подбородка. На этом болезненно желтом, словно воск, лице сияли ярко-голубые глаза, горевшие верой и живой надеждой. У кюре был прямой, тонкий и длинный нос с красиво вырезанными ноздрями, четко очерченный крупный и выразительный рот и голос, проникающий в самое сердце. Редкие тонкие и блестящие каштановые волосы говорили о недостаточном темпераменте, находящем опору только в воздержанной жизни. Вся сила этого человека заключалась в воле. Таковы были его отличительные черты. Короткопалые руки, принадлежи они другому человеку, могли бы навести на мысль о склонности к грубым развлечениям, но возможно, что, подобно Сократу, он победил свои дурные задатки. Худоба его не красила. Острые плечи, вогнутые колени и слишком развитая по сравнению с конечностями грудная клетка придавали ему вид горбуна без горба. Одним словом, он не должен был нравиться. Только в людях, знающих, какие чудеса способны сотворить мысль, вера или искусство, аббат Бонне мог вызвать восхищение своим горящим взглядом мученика, бледностью, всегда сопровождающей постоянство, и голосом, полным любви.
Этот человек, достойный быть священником первобытной церкви, существующей ныне лишь на картинах шестнадцатого века и на страницах мартиролога, был отмечен печатью человеческого величия, которое приближает к величию божественному, был исполнен убеждения, которое придает невыразимую красоту самому заурядному облику, озаряет теплым светом лица людей, преданных своему служению: так светится лицо женщины, которая гордится своей великой любовью. Убежденность есть человеческая воля, достигшая высшего могущества. Являясь одновременно причиной и следствием, она зажигает даже самые холодные души и своим немым красноречием увлекает массы.
Спускаясь со ступеней алтаря, кюре встретился глазами с аббатом Габриэлем; он узнал его, но когда секретарь епископа появился в ризнице, он застал там одну Урсулу, которой г-н Бонне отдал все распоряжения. Она пригласила молодого аббата следовать за ней.
– Сударь, – сказала Урсула, женщина канонического возраста, ведя аббата Растиньяка по галерее в сад, – господин кюре велел спросить у вас, завтракали ли вы. Должно быть, вы выехали из Лиможа спозаранку, если добрались сюда к десяти часам. Я сейчас же все приготовлю к завтраку. Господин аббат, конечно, не найдет здесь таких яств, как у епископа, но уж и мы постараемся угостить его получше. Господин Бонне вот-вот вернется, он пошел утешить эту несчастную семью... Ташронов... Подумать только, какие ужасы происходят сейчас с их сыном!..
– Но где находится дом этих славных людей? – вставил, наконец, аббат Габриэль. – По распоряжению монсеньера я должен немедленно увезти господина Бонне в Лимож. Этого несчастного не казнят сегодня, монсеньер добился отсрочки...
– Ах! – воскликнула Урсула, у которой просто язык зачесался от желания поскорей разгласить такую новость. – Вы, сударь, успеете принести им это утешение, пока я готовлю завтрак. Дом Ташронов в конце деревни. Видите дорожку здесь внизу, под террасой, – она приведет прямо туда.
Как только аббат Габриэль скрылся из виду, Урсула поспешила спуститься вниз, чтобы разнести новость по всей деревне, а заодно поискать провизию к завтраку.
В церкви кюре неожиданно узнал о решении, которое в отчаянии приняла семья Ташронов после того, как была отклонена кассационная жалоба. Добрые люди покидали родной край и сегодня утром должны были получить деньги за свое имущество, которое продали заранее. Продажа имущества потребовала непредвиденных задержек и формальностей. Вот почему Ташронам пришлось остаться в деревне после вынесения приговора Жану-Франсуа и испить до дна свою горькую чашу. Их тайное намерение обнаружилось лишь перед самым днем казни. Ташроны надеялись уехать до этого рокового дня, но человек, купивший их добро, был в кантоне чужим, и ему были безразличны их мотивы, к тому же он получил нужные деньги с запозданием. Таким образом, семья должна была нести свое горе до конца. Чувство, заставлявшее их покинуть родину, так властно захватило эти простые души, непривычные к сделкам с совестью, что уехать решили все: дед, бабка, дочери со своими мужьями, отец, мать – все, кто носил фамилию Ташронов или был с ними связан родством. Отъезд семьи огорчил всю общину. Мэр просил кюре, чтобы тот попытался удержать этих честных людей.
По новому закону отец не отвечал за сына, а преступление отца не накладывало пятна на его семью. Вместе с другими послаблениями, умалившими власть отцов, этот закон способствовал торжеству индивидуализма, подтачивающего современное общество. Вот почему подлинный мыслитель, обдумывающий вопросы нашего будущего, увидит разрушение духа семьи там, где составителям нового кодекса мнится свобода воли и равноправие. Семья всегда будет основой общества. Но теперь, неизбежно являясь чем-то временным, непрестанно разделяясь и соединяясь, чтобы распасться вновь, не будучи связью между прошлым и будущим, семья былых времен во Франции не существует. Разрушители старого здания поступили логично, разделив поровну имущество семьи, ослабив авторитет отца, сделав каждого сына главой новой семьи и уничтожив великую взаимную ответственность. Но будет ли перестроенное общественное здание с его новыми законами, не узнавшее еще длительных испытаний, столь же прочным, каким было здание старой монархии, несмотря на все ее злоупотребления? Утратив единство семьи, общество утратило свою основную силу, которую Монтескье открыл и назвал честью. Чтобы легче господствовать, общество всех разъединило; чтобы ослабить врага, оно всех разделило. Оно царит над цифрами, сваленными в кучу, как зерна. Могут ли общие интересы заменить семью? Только время даст ответ на этот великий вопрос.
И все же старый закон существует, он пустил настолько глубокие корни, что в народной среде вы найдете его живые отростки. Есть еще уголки в провинции, где живет то, что называют предрассудком, где верят в то, что семья страдает из-за преступления, совершенного одним из ее детей или ее отцом. Это убеждение вынудило Ташронов покинуть родные края. Они были слишком набожны, чтобы не прийти утром в церковь: разве можно было не присутствовать на мессе, обращенной к богу с мольбой внушить раскаяние их сыну, дабы вошел он в царствие небесное; разве могли они не проститься с алтарем родной деревни? Но свое намерение уехать они не оставили. Когда последовавший за ними кюре вошел в их главный дом, он увидел, что вещи уже уложены в дорогу. Покупатель поджидал продавцов, чтобы вручить им деньги. Нотариус заканчивал составление акта продажи. Во дворе, за домом, стояла запряженная лошадьми повозка, в которой должны были выехать старики с деньгами и мать Жана-Франсуа. Остальные собирались с наступлением ночи отправиться пешком.
К тому времени, когда молодой аббат вошел в низкую комнату, где собралась вся семья, монтеньякский священник исчерпал уже все запасы своего красноречия. Двое стариков, словно пришибленные горем, сидели, сгорбившись, в углу на мешках и смотрели на свой старый родовой дом, на свою мебель, на нового владельца и то и дело поглядывали друг на друга, будто спрашивая: могли ли мы ждать такой напасти? Эти старики, которые давно уже уступили распоряжение всеми делами своему сыну, отцу преступника, были подобны старой королевской чете после отречения, низведенной к пассивной роли подданных или детей. Ташрон-отец стоя слушал пастыря и отвечал ему тихо и односложно. Это был человек лет сорока восьми с прекрасным суровым лицом, напоминающим лица апостолов на полотнах Тициана: лицо, освещенное верой и глубокой, непоколебимой честностью, строгий профиль, прямой нос, голубые глаза, благородный лоб, правильные черты, вьющиеся жесткие черные волосы, лежавшие с той симметрией, что придает особое очарование этим лицам, потемневшим от солнца и ветра. Легко было заметить, что все доводы кюре разбиваются о его твердую волю. Дениза, опершись на хлебный ларь, смотрела на нотариуса, который воспользовался ларем вместо письменного стола и писал, устроившись в бабушкином кресле. Новый владелец сидел рядом, в другом кресле. Замужние сестры накрывали на стол к последнему угощению, которое старики хотели приготовить и подать людям в своем доме, в своей деревне, перед тем как уехать в чужие края. Мужчины присели на большой кровати с зеленым саржевым пологом. Мать хлопотала у очага, разбивая яйца для яичницы. Внуки сбились у порога, за которым стояла семья нового хозяина. В окошко заглядывал заботливо возделанный сад, где каждое дерево было посажено руками этих семидесятилетних стариков. Закопченная комната с почерневшими балками была овеяна той же сдержанной скорбью, что читалась на всех, столь несхожих между собой лицах. Угощение готовилось для нотариуса, для нового владельца, для детей и молодых мужчин. У отца с матерью, у Денизы и ее сестер было слишком тяжело на сердце, чтобы они могли думать о еде. В исполнении последнего долга сельского гостеприимства чувствовалась возвышенная и мучительная покорность судьбе. Ташроны, подобные людям античных времен, кончали свою жизнь в деревне так, как обычно начинают, – радушно встречая гостей. Эта лишенная всякой напыщенности, но глубоко торжественная картина поразила секретаря епархии, когда он вошел, чтобы сообщить монтеньякскому кюре о намерениях прелата.








