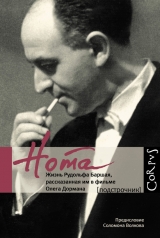
Текст книги "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"
Автор книги: Олег Дорман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
25
Была у меня любимая подруга, Ирочка Воеводская, врач. Красавица неописуемая. Когда она входила в комнату, казалось, солнце взошло. Замечательный человек. Она диссидентов спасала от беды: клала к себе в больницу и укрывала от КГБ. Несколько человек из них потом уехали в Израиль, и там в честь Ирины каждый посадил по дереву. Я видел эти деревья.
У Ирины был феноменальный дедушка: профессор Скворцов, крупнейший врач, главный патологоанатом Советского Союза. Однажды к ним в дверь раздался звонок. Открывают – стоит человек в военной форме. Без телефонного звонка, без предупреждения. И дедушке говорит: «Прошу вас следовать за нами». Ира с мамой решили, что деда арестовали. Мама в слезах собрала ему котомочку с провизией, и увели старика, увели деда.
А по радио в это время передают бесконечные траурные марши и сводки состояния товарища Сталина: такое-то давление, такой пульс, в крови то-то и то-то. Это звучало день и ночь: траурная музыка – анализы товарища Сталина – снова траурная музыка.
На другой день Ира с мамой сидят дома, пьют чай, звонок в дверь – входит дед. Отпустили. Слава богу, ничем не виноват… А он вошел, пританцовывает и присвистывает. Ну, мы с мамой, Ира говорит, решили, что его там пытали и дед спятил. Господи, что делать? Кому звонить, как сказать родным? Любимый, всеми обожаемый дед спятил…
А оказывается, он его уже вскрыл. Его для этого возили – вскрывать товарища Сталина.
Утром шестого мне звонит Холодилин, начальник управления музыкальных учреждений: «Вашему квартету доверена честь играть на панихиде по товарищу Сталину в Колонном зале Дома союзов. За тобой сейчас придет машина, объедешь всех музыкантов, и давайте сюда, я буду встречать».
Во дворе стояла «скорая помощь». Я не сразу понял, что это за мной. Оказывается, проехать по Москве уже можно было только на «скорой» – на улицах сгущались толпы. Мы забрали ребят, все уселись в фургон и так прибыли в Колонный зал. Нас тщательно обыскали, велели снять фраки – не концерт – и повязали траурные ленточки на руки. Повели в комнату, как бы артистическую: тут находиться, ждать распоряжений, будет вывешено расписание, когда кто выступает.
Сталин уже лежал в гробу. На сцене играл оркестр Большого театра – не помню, кто дирижировал вместо Голованова. Когда оркестр отдыхал, выводили нас. Мы играли всякую безобидную музыку, вроде Анданте кантабиле Чайковского. Народ шел мимо гроба и кричал. Это произвело на меня самое сильное впечатление. «Сталин, родной, дорогой! На кого ты нас оставляешь?» И рыдают женщины, рыдают.
В почетном карауле сменялись члены правительства. Вдруг один из них, военный, подошел к нам: «Что-то вы очень, – говорит, – заупокойную музыку всё играете. Немножко оживите. Потому что, слышите, в зале рыдают все время – это от вашей музыки». – «Хорошо, оживим». И мы ударили начало фа-минорного квартета Бетховена. Очень драматичное – Бетховен. Тогда эти, в почетном карауле, как встрепенулись! А я показываю на военного:
«Ребята, спокойно. Нас просили так».
Я не плакал. Я с удовольствием смотрел на Давида Ойстраха, который в перерывах между выступлениями своего трио спокойно играл в шахматы, и думал: какой умница. Но главная мысль была о Шостаковиче, это была вообще первая мысль, когда я узнал, что Сталин умер: теперь он сможет свободно писать. Кончилась для него эпоха страха. Ведь он сочинял всегда под страхом. Первый раз его уничтожали в тридцать шестом за «Леди Макбет» и балет «Светлый ручей». Товарищ Сталин счел, что это сумбур вместо музыки. После убийственных статей в «Правде» на Шостаковича набросились завистники, бездари, люди, желавшие выслужиться, мерзавцы, которых так любовно пестовала советская власть. Его жизнь висела на волоске, он каждый день и ночь ждал ареста. В Ленинградской филармонии репетировали его Четвертую симфонию. Шостакович отменил премьеру, сказал, что не удовлетворен качеством своей музыки. На самом деле ему посоветовал так сделать директор филармонии, который иначе бы запретил премьеру по совсем другим мотивам. Мы услышали Четвертую только в шестидесятые годы благодаря Кириллу Кондрашину. Я считаю эту музыку одним из величайших созданий двадцатого века. Это Кёльнский собор, построенный одним человеком. Это музыка, в которой Шостакович гениально выразил, что случилось с нашей страной, с человеком, это совершенно пророческое произведение. Однажды он сам мне сказал: Четвертая – лучшее, что я сочинил. В этой симфонии он впервые решился ступить на путь, которым шел Малер. И с тех пор это уже другой Шостакович. Один журналист как-то раз спросил его – знаете, такой классический дурацкий вопрос: «Какую одну партитуру вы взяли бы на необитаемый остров?» Д. Д. без колебаний ответил: «Малера».
Но играть эту симфонию в тридцать шестом году значило добровольно пойти на плаху. Шостакович понимал, что ему остается либо погибнуть – потому что не писать музыку означало для него смерть, он говорил Гликману, что, если ему отрубят руки, он возьмет карандаш в зубы и будет так писать, – так вот, либо погибнуть, либо найти такой музыкальный язык, который власть понять не сможет, но не сможет не принять. Потому что прямая насмешка в музыке его чуть не погубила. И он нашел решение. Шостакович написал Пятую, которую газеты назвали «ответом советского художника на справедливую критику». Никто не смел предположить в этой музыке подвох. Такой анекдот был – позже, правда, после войны, когда люди голодали: стоит дядька в очереди за продуктами, три часа стоит и наконец говорит: «До чего страну довел, черт усатый». Тут же подходят двое в форме, берут его под белы руки: «Вы, гражданин, кого имеете в виду?» Дядька отвечает: «Гитлера, конечно». А потом грозно их спрашивает: «А вы, граждане, кого имели в виду?» Пятой симфонией власть была абсолютно довольна. А публика прекрасно понимала настоящий смысл музыки. Успех был величайший. Старики говорили, что видели такой успех лишь однажды – когда Чайковский дирижировал своей Шестой симфонией незадолго до смерти. Шостаковичу после концертов посылали телеграммы благодарности от всего зала. Люди, когда слушали Largoтретьей части, плакали. Должен сказать, к слову, что этот настоящий смысл не так легко открывается иностранной публике. В изданной партитуре симфонии долгое время была опечатка: указано, что последнюю часть надо играть при четверти в 188. Это указание для метронома, оно определяет темп исполнения. Если играть так, финал выйдет очень быстрым, радостным. На самом деле должно было стоять не четверть, а шестнадцатая. Опечатка. И вот в конце пятидесятых Пятую играл на гастролях в Москве Леонард Бернстайн. Он исполнял часть, как написано в партитуре. А рядом со мной сидел Д. Д., бледный от ярости, и тихо говорил: «Ничего не понял, ничего не понял, дурак». Темп последней части должен быть медленный, преувеличенно торжественный: потому что это фальшивое празднество, это ликование фальшивое! Бернстайн не заподозрил опечатки, не почувствовал смысла финала.
Однажды, спустя годы, я дирижировал в Ленинграде на концерте, посвященном шестидесятилетию Пятой. Поскольку Мравинского, который был главным исполнителем шостаковичевских симфоний, уже не было в живых, дирижировать его оркестром позвали меня. В финальной части есть место, где у Шостаковича проходит диссонанс. Вдруг на репетиции слышу – музыканты играют вместо него что-то красивое. Просто Сен-Санс какой-то. Оказывается, в их нотах так написано. Мне объясняют: «Исправил переписчик. У нас был такой талантливый переписчик, библиотекарь оркестра филармонии, который исправлял ошибки авторов». Я говорю: возьмите ручки и верните бемоль. Там должен стоять си-бемоль. Шепот, ропот, потом встает старый пердун из первых скрипок: «Мы, – говорит, – так играли в присутствии Шостаковича, и он ничего не сказал». Я говорю: «Конечно, он ничего не сказал. Вы хотели, чтобы он сказал? Может, вы не знаете, как он жил, не понимаете, что ему грозило за каждый диссонанс?»
Принес им на репетицию старый том: вот, показываю, смотрите, переложение симфонии для фортепиано, изданное перед первым исполнением, здесь рукой Шостаковича си исправлен на си-бемоль. Прошу вас внести исправление в свои партии.
Они с раздражением вписывают бемоль – но играют по-прежнему. Остановил оркестр: «Если во время концерта я услышу, что кто-то сыграл си вместо си-бемоль – на этом концерт закончится». Такой разговор они поняли.
Потом я рассказал эту историю Гликману. Он говорит: «Знаете, Рудольфино (он так называл меня с ташкентских времен), перед премьерой Пятой ко мне подходили музыканты и просили: поговори с Д. Д., пусть уберет еще пару диссонансов. А то как бы чего не вышло». И вот, значит, Шостакович не убрал – библиотекарь поправил.
Когда-нибудь в будущем историки будут в исторических словарях писать, кто такой Сталин: крупный политический деятель эпохи Шостаковича. Музыканты в моем кругу прекрасно это понимали. Для учеников Д. Д. смерть Сталина тоже означала какую-то надежду – ведь они все так или иначе пострадали вместе с учителем. Про Германа Галынина я уже рассказал. Волик Бунин, мой друг, замечательный композитор, был любимым учеником Шостаковича. Когда он закончил консерваторию, Д. Д. позвал его своим ассистентом на кафедру в Ленинград и рекомендовал Мравинскому симфонию Бунина. Начались репетиции. Мравинский мне потом рассказывал, что оркестр был под огромным впечатлением от музыки. И тут «Постановление». Премьеру запретили. Из Ленинградской консерватории вышвырнули, само собой, не только Д. Д., но и его ассистента Бунина. Шостакович, который вообще всю жизнь заботился об учениках, счел себя в ответе и пытался, как мог, устроить жизнь Волика. Но что он тогда мог?
А Метека Вайнберга, которого Д. Д. очень любил и потом посвятил ему Десятый квартет, вообще посадили: Метек был польский еврей. Он приехал в СССР, когда немцы вошли в Польшу.
Антисемитизм на государственном уровне возник, как ни странно, во время войны. Помню, замдиректора консерватории вернулся из Москвы в Ташкент и сказал: «Для евреев наступают черные дни». Вспыхнула эта чума в армии, а потом разошлась повсеместно. Правда, поначалу Сталин рассчитывал, что Израиль станет его форпостом, как Польша или Чехословакия, и приветствовал создание еврейского государства на Ближнем Востоке. Советские евреи понадеялись, что пронесет. Но израильские коммунисты оказались в большей степени сионистами, чем коммунистами. Сталин предал их анафеме, и в последние годы его жизни антисемитизм захлестнул страну. Это была страшная эпоха. Помню, как Цейтлин, многое к тому времени понявший, сказал при всех в консерватории: «Если они теперь настолько против евреев, то должны всем евреям выдать выездные визы в Израиль». Сам он, конечно, никуда в жизни бы не уехал. Он не покинул Россию и в более страшные времена. Но ему оставалось недолго. В первые дни пятьдесят второго года Льва Моисеевича не стало.
Николай Семенович Голованов пришел на его похороны с высоченной температурой, совершенно больной. Его отговаривали, а он сказал: «Я должен проститься с великим музыкантом». Такого нельзя забыть.
Вайнберг – очень талантливый композитор. Широкая публика знала его по музыке к фильму «Летят журавли» и мультяшкам про Винни Пуха. Но он автор более двадцати симфоний. Лучшие его сочинения, на мой взгляд, те, где он обращается к еврейско-польской поэзии. Родные Метека были уничтожены в концлагере. У него есть симфония, посвященная павшим героям восстания в Варшавском гетто. Там в какой-то момент внезапно возникает реминисценция: баллада Шопена. И невозможно удержаться от слез, ну невозможно. Когда он написал свою последнюю симфонию, я уже был за границей и умолял его: «Дай я сыграю ее. Здесь сыграю!» – «Ты знаешь, Рудик, нет. Я не могу. Я еще боюсь». Он боялся до конца своих дней. Его пытали крысами в тюрьме. Раздевали догола и запускали в камеру голодных крыс. Он рассказывал мне, как они его кусали, повсюду кусали. «Нет, Рудик, лучше не надо». Шостакович делал все, что мог, пытаясь вызволить Вайнберга из тюрьмы: писал письма, ходил к кому-то на приемы… Когда Сталин умер, следователь вызвал Метека и сказал, что вот, знаете, дело ваше, гражданин Вайнберг, пересмотрено, открылись новые обстоятельства, обвинение было ошибочным, вы, оказывается, невиновны. Собирайте вещи и идите домой. Метек отказался. Он решил, что это провокация. «Нет, – говорит, – никуда я не пойду. Я – еврейский буржуазный националист, я, как вы знаете, рыл подкоп к Кремлю, и не надо меня провоцировать». Следователь бился неделю, но Вайнберг отказывался признать, что не виноват. Тогда тот позвал жену Вайнберга, Талочку Михоэлс: «Не знаю, – говорит, – что мне делать, как мне заставить вашего мужа подписать бумагу, что он невиновен». Он, понимаете, не знал, как заставить. Жена попросила, чтобы следователь соединил ее с мужем по телефону, когда снова вызовет его в свой кабинет. Тот так и сделал. И жена сказала: «Метек, Сталин умер». Через полчаса он признался, что не виноват.
Какой ужас, какой ад. Куда там Кафке. Как пережить такое?
Шостакович никогда не мог простить Сталину антисемитизма. Это был для Д. Д. особый пункт. Он не был никаким евреем: просто презирал антисемитов, как все настоящие русские аристократы и интеллигенты. Он говорил, что для него в евреях сосредоточена беззащитность человечества. Хотел бы сказать, что и по моему убеждению, антисемитизм – величайшее историческое заблуждение. Интеллигентный, цивилизованный человек не может не знать, что Иисус был евреем. Настоящим, рожденным от еврейской женщины евреем и, более того, раввином. Он служил в синагоге, службы вел. Он упрекал евреев в своих проповедях в том, что они забыли заветы великих предков, забыли, по существу, настоящую религию. И он ее восстановил, Иисус. И он именно из еврейской религии создал христианскую – для неевреев, для других народов. Это известно, это не может образованный человек не знать. Другое дело, воскрес – не воскрес, это вопрос вкуса. Но что такой человек был, что он стал переживать за человечество и пострадал за человечество – какие тут могут быть сомнения? Так что антисемит, я считаю, не может считаться настоящим человеком, а тем более христианином. Он принадлежит к антихристовой армии. Это самые ненавистные для меня люди. И так же было для Д. Д… Помню, как он возмущался, когда Ведерников отказался петь партию в «Бабьем Яре» – это часть Тринадцатой симфонии, о ней разговор впереди. «Какой позор, – он говорил, – как ничтожно отказаться от этого!» Еврейская тема в Четвертом квартете – это же был прямой вызов Сталину. Или цикл «Еврейские песни». Однажды я был с Шостаковичем на исполнении этой вещи, мы часто ходили на концерты вместе. Поднялись потом в артистическую, и слышу, Василий Ширинский, музыкант, говорит: «Какая прелесть – сегодня среди исполнителей ни одного еврея, хотя тема вот такая еврейская». Шостакович как стоял на пороге – громко сказал, чтобы все слышали: «Терпеть не могу охотнорядцев. Пойдемте-ка отсюда, Рудольф Борисович».
…Играли мы, играли над гробом товарища Сталина, потом подходит Холодилин: «Ребята, одевайтесь, поедем сейчас в Союз композиторов, там другие похороны».
Нас посадили в «скорую» и привезли в Дом Союза композиторов. А там у входа – портрет Прокофьева в траурной рамке. Прокофьев. Я последний раз виделся с ним в пятьдесят втором году, на концерте, где мы с квартетом сыграли его «Увертюру на еврейские темы» и «Мимолетности». Сергей Сергеевич умер дома, в Камергерском переулке. Автобус, чтобы забрать гроб, подъехать туда не мог из-за того, что творилось в Москве, и несколько студентов на руках пронесли Прокофьева в гробу через толпы и пробки до здания Союза композиторов на Третьей Миусской. Мы надели фраки, сели у гроба и сыграли часть из его квартета.
Так я в один день хоронил товарища Сталина и Прокофьева, играл панихиду. В Колонном зале, правда, мы потом еще играли три дня и, кажется, две ночи.
26
Наверное, вам будет трудно поверить: из огромного наследия Вивальди до середины двадцатого века в России знали три или четыре концерта. Старинную музыку, в частности Генделя, Баха и дальше до Моцарта включительно, играли большими составами, обыкновенным оркестрами – камерных оркестров в России не было. А ведь Бах, Вивальди, Моцарт, все композиторы эпохи барокко писали именно для камерного. Вернее, в их времена это был обычный состав: десять – пятнадцать музыкантов. Потом оркестры делались все больше и больше – в симфонических бывает более ста человек, – и эту музыку стали адаптировать под их возможности. А вернее, потребности: чтобы занять побольше оркестрантов. В книге о Бахе Альберт Швейцер пишет, что когда ми-мажорный концерт Баха, это гениальнейшее творение, играют большим составом и вторую часть, адажио, начинают развозить двенадцать виолончелей и полдюжины контрабасов, ему хочется в ужасе бежать из зала. Совершенно точно. Но публика привыкла.
И вот после войны в мире появилось несколько замечательных камерных оркестров. В частности, скрипач Вильгельм Штросс собрал в Германии небольшую группу музыкантов: ровно столько, сколько нужно, чтобы исполнить, например, ми-мажорный концерт Баха. Чтобы сыграла скрипка соло, а потом вступили остальные – для достижения эффекта «тутти», то есть «все вместе», достаточно, чтобы играло еще четыре скрипки максимум. Вполне достаточно! А не то что целая группа начинает завывать.
Со своим оркестром Штросс приехал на гастроли в СССР, и я пришел послушать. Шесть скрипок, включая его самого, два альта, две виолончели, один контрабас. Впечатление от того концерта определило мою жизнь. Это всех тогда потрясло. Был даже устроен специальный дополнительный концерт в Союзе композиторов. Я понял, что нужно создать камерный оркестр и вернуть настоящее звучание великой музыке. Такой оркестр сможет также исполнить сотни произведений, которых никогда не слышала наша публика, а потом наверняка вызовет интерес и у современных, действующих композиторов.
Но как создать, из кого? Камерный оркестр – совсем особенное дело. Многие музыканты думают, что это просто уменьшенный симфонический. Просто меньшего состава. Но играют те же самые оркестранты, с теми же самыми оркестровыми, лабушскими навыками. Ничего подобного. Это не те музыканты, которые могут составить настоящий камерный оркестр. А настоящий камерный оркестр может составиться скорее из музыкантов камерных, из солистов, из квартетных исполнителей, например.
У меня был консерваторский товарищ Миша Богуславский. Сейчас его уже нет на свете, последние годы он жил в Солт-Лейк-Сити. Мы вместе бывали на концертах Штросса, «Загребских солистов», «Виртуозов Рима», и у него тоже горели глаза. Я ему рассказал свою идею. «Рудик, – он говорит, – давай. Я помогу». Миша был хорошим альтистом, а кроме того, обладал административным талантом. «Будешь директором этого дела?» – «С удовольствием. Попробуем».
Составили список музыкантов, которых хотели бы пригласить, и решили, что с каждым я должен встретиться и поговорить лично. Это была Мишина идея, совершенно правильная.
Звонили по телефону, договаривались, встречались. Я рассказывал, что вот так и так, речь о создании камерного оркестра, сколько продлится репетиционный период – неизвестно, потому что никто не знает, как быстро сумеем достичь нужного качества. Зарплаты, само собой, никакой, все на чистом энтузиазме. Кто-то сразу говорил: «Нет, меня не устраивает». Ясно, спасибо, извини. Следующий кандидат. Встречаемся на углу Герцена и Грановского. «Какую музыку будем играть, Рудик?» – «Главным образом старинную, барокко». – «Нет, понимаешь, мне все подходит, но я хочу играть большие полотна – Бетховена, Брамса, Чайковского». Понятно.
Конечно, я сразу же позвал Володю Рабея. Он говорит: «Я так бы хотел участвовать, ребята, но у меня ученики в Гнесинке, да в несколько смен, – никак не смогу». Что поделаешь. А в три часа ночи звонит: «Знаешь, заснуть не могу. Запиши меня».
Собралось пятнадцать человек, все музыканты-струнники. Танечка Николаева взялась играть клавесин, и еще мы звали духовиков для отдельных произведений.
Надо где-то репетировать. Пошли наугад в Центральный дом работников искусств, на Пушечной. Пожалуйста, говорят, занимайтесь, когда хотите.
Первые репетиции были по ночам. Большинство музыкантов работали в оркестрах, в театрах. Они могли приходить только после концерта или спектакля. Другие, помоложе, студенты, подстроились под этот режим.
Иногда ЦДРИ оказывался занят – готовили какие-нибудь свои утренники или концерты. Мы договорились с одной школой. В одиннадцать вечера сторож впускал нас в спортзал, закрывал там и уходил спать, а в четыре утра выпускал. Некоторые музыканты, бывало, освобождались раньше – не всегда нужен полный состав. Тогда они открывали окно, прощались и выпрыгивали на улицу.
Наша цель была создать безотказный механизм исполнения полифонической музыки. Прежде всего, Баха и Вивальди, а потом – Гайдна, Моцарта и так далее.
Полифоническую музыку можно сравнить с картиной, которую пишут не масляной краской, а тонким-тонким пером. Полифония должна, прежде всего, звучать очень ясно, очень отчетливо. В ней нет ничего неважного, ничего проходного, не бывает «сопровождающих» нот. Даже если целая длится долго, то каждая ее шестнадцатая доля имеет значение, потому что вступает во взаимодействие с другими движущимися голосами.
Первым делом оркестру надо было поставить голос. Как ставят голос певцу или певице – тогда он звучит иначе, чем непоставленный, пусть даже прекрасный от природы. В симфоническом оркестре струнные используются как пушечное мясо: это просто звуковая масса среди других звуковых масс. Струнные в камерном должны играть с полнейшей отчетливостью. Чтобы звук шел без сипения, без одышки, ясно, как солнечный луч. Но как это сделать? Каждому музыканту надо самостоятельно найти такое место на струне, где инструмент звучит идеально. У каждой скрипки и альта, у каждого смычка это место разное. Недели ушли на то, чтобы найти его. Когда наконец оркестр зазвучал, это было так красиво, что ребята засмеялись от удовольствия и поаплодировали друг другу смычками: они сами услышали.
Дальше – работа над штрихом. Начали мы с Третьего Бранденбургского концерта Баха. Баховская полифония – чудо природы. Эту музыку надо играть так, чтобы она своей гармонией доставляла наслаждение. Либо лучше не играть. Гармония у Баха никогда не стоит на месте: постоянно в движении, постоянно меняется. Чтобы эта игра света и тени стала видимой, правильный штрих исключительно важен. Полифония нигде не должна мешать гармонии.
Я пересказывал музыкантам уроки Цейтлина: нельзя, чтобы звук возникал толчком. Он должен иметь форму вилочки, вот как Цейтлин рисовал мне в тетрадке. Чтобы взять ноту, прижимаешь смычок сначала слегка и только потом покрепче: тогда звук стремительно, почти мгновенно вырастает из тишины. И потом так же затихает. Если правильно это делать, то есть очень быстро и незаметно усиливать давление на смычок, чтобы никто не понял, в чем дело, то звук будет возникать не толчком, не грубо, а как будто наполненный мышцами, знаете, как будто тело какое-то… Эту технику мы в оркестре назвали «баховским штрихом». Штрих Баха – лежачий, там все происходит на струне. У Моцарта он другой, более легкий, там осьмушки и шестнадцатые играются spiccato, то есть прыгающим смычком – смычок прыгает. В Моцарте нельзя пережимать – звук должен веять, парить над землей. А Баха играть прыгающим смычком нельзя. Кто так играет Баха, играет стилистически неверно. Хотя таких и немало.
С каждым музыкантом я работал в отдельности. Практически приходилось вести индивидуальные занятия, прямо как будто консерваторию открыл. Я брал скрипку, на скрипке показывал штрих, который нужно воспроизвести, подсказывал, как это делать.
Общие репетиции начинались с гамм. Играем все вместе медленно, быстрее, громко, тихо, пианиссимо, вместе тянем долгие аккорды. Потом открываем ноты.







