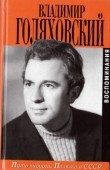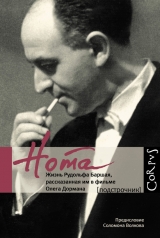
Текст книги "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"
Автор книги: Олег Дорман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
19
Когда Цейтлин увидел, как пошли дела с квартетом, он сам привел меня в класс к Вадиму Васильевичу Борисовскому, тогда крупнейшему нашему альтисту, и я стал у него заниматься. Со стороны Цейтлина это был рыцарский поступок – так отдать студента, и для меня его поддержка была исключительно важна. Хотя он и сказал через три года, после защиты диплома, на которой я играл Чакону Баха в своем переложении для альта: «Какой я все-таки осел, что отпустил тебя к альту». Обнял меня при всех. (И рассказал, как у Ауэра занимался мальчик из Тифлиса, который с гордостью сказал: «На летних каникулах я самостоятельно разучил Сиасопу». Ауэр никак не мог понять, что это. Оказалось, мальчик прочитал латинские буквы Ciaconaкак русские.)
Такой у меня был учитель. Такие у меня были педагоги в консерватории – замечательные педагоги, я должен их всех помянуть как святых людей. Они не просто научили меня музыке, а дали мне жизнь в руки. Благодаря этим людям я продолжал жить, и мне хотелось дальше работать.
Помню, как Евгений Михайлович Гузиков, который вел класс квартета, часами рассказывал мне о Люсьене Капе, у которого он учился в Париже. Это было небезопасно, между прочим, вот так рассказывать, потому что человеку, который пожил за границей, всегда грозил ГУЛАГ, срока давности не существовало. Мало того: Гузиков в свое время дружил с маршалом Тухачевским. Тот коллекционировал скрипки, а Евгений Михайлович прекрасно разбирался в инструментах. У него от Тухачевского была скрипка работы Гваданини, на которой Гузиков давал Ростику Дубинскому играть. Тухачевского в тридцать седьмом расстреляли, и хотя Гузикова не тронули, тень эта всегда висела над ним. Но во мне он чувствовал благодарного слушателя, видел, что я так же истово люблю квартеты, как он сам. Да и вообще уже ничего не боялся, потому что был стариком. За его светлые волосы мы его звали «дедушка с волосами цвета льна». [3]3
«Девушка с волосами цвета льна» – пьеса Клода Дебюсси.
[Закрыть]Был он глуховат. Страшное несчастье для музыканта. Почему Бетховен потерял слух? Никто не знает, до сих пор это не выяснено. Я видел медицинскую бумагу с описанием прогресса бетховенской глухоты: за этот год потерял столько-то процентов, за этот столько-то. В тридцать один год он слышал только низкие звуки и играл себе все свои сочинения в басу. А в конце написано: «Полнейшая глухота». Но тогда он сочинял свои самые великие произведения. Именно тогда он сочинил Торжественную мессу, Пятнадцатый квартет, когда уже ничего не слышал. Одна из величайших тайн природы – это бетховенский феномен с его глухотой и его фантастической музыкой. Однажды на уроке Гузиков говорит студенту: «Возьмите-ка этот ля-бемоль пониже». А студент попался злой шутник. «Хорошо, говорит, пожалуйста», – а сам играет то же самое. Гузиков снова: «Еще пониже». Студент кивает и снова играет, как прежде. Нам стало ужасно неловко. А Гузиков помолчал и говорит: «Но глаза-то у меня есть». И действительно: хороший скрипач может определить звук по тому, как стоит палец, где стоит, сколько миллиметров от порожка, и главное, как повернут. Гузиков понимал в квартетах, как никто, и, разъясняя тонкости мастерства, учил нас главному: чувствовать целое. Вы, говорит, играете и наслаждаетесь собственной партией, а ведь здесь, например, этот голос надо придержать в пользу остальных… Вы свое forteделайте, как написано, но только чтобы не заглушить партнеров. После одного концерта сказал мне: «Сегодня вы хорошо играли плохую музыку, но хорошую, увы, играли хуже». Ему не нравилось, как мы играли Шостаковича. Надо сказать, мне тоже. Товарищи мои подчеркивали юмористическую сторону этой музыки, сатирическую сторону, ее остроумие, но пренебрегали глубокой теплотой и драматичностью. Как, впрочем, и многие исполнители Шостаковича в СССР. Я спорил, но поначалу казалось, что в таких вопросах можно со временем найти общий язык.
Альтом, кроме Борисовского, со мной занимался Михаил Никитович Тэриан, он когда-то учился у Гузикова. Мой первый альт достался мне от него. Был такой знаменитый скрипичный мастер Подгорный. Тэриан заказал ему копию альта Гварнери. Подгорный долго работал, сделал, принес инструмент. Тэриан посмотрел-посмотрел и говорит: у вас эф прорезан с бóльшим наклоном. А Подгорный ему: «Ну не стану же я повторять ошибку Гварнери». Вот на этой копии альта Гварнери я и начал играть, чудесный был инструмент.
У легендарного Абрама Ильича Ямпольского я тоже занимался – совсем немного, но совершенно незабываемый получил от него совет. В жизни музыканта один такой совет может многое решить. Он мне сказал: «А вот знаешь, у тебя смычок идет немножко косо, не вдоль подставки, а как-то съезжает на нее. Звук у тебя, конечно, будет громче, но гораздо грубее, не будет гибким. А ты немножко локоть отведи назад, чуть-чуть, вот столько». Отвел мне на два сантиметра – и все, этого достаточно, и стал нормально смычок идти. Познакомили нас Ростик, который учился у Ямпольского, и Леня Коган, мой друг. Леня был из бедной семьи, папа его – фотограф из Днепропетровска, родителям разрешили жить вместе с Леней в комнате общежития, поскольку он был такой особо одаренный мальчик. Когда Ямпольский про это узнал, то взял Леню жить к себе. Как-то раз позвонил: «Рудик, знаешь, Леня должен заканчивать консерваторию. На выпускных экзаменах надо сдавать дисциплину „квартет“. Я тебя прошу ему помочь. Если партнеры по твоему квартету согласятся, пусть сядет на место первой скрипки и сыграет что-нибудь. Он выучит любой квартет, что хочешь. А если нет, ты сам с ним сыграй на альте, а скрипача и виолончелиста найди». Помню, я нашел скрипача, а на виолончели Слава Ростропович согласился сыграть. Взяли мы, ни больше ни меньше, Второй квартет Чайковского, замечательный, но очень трудный. На репетицию позвали Гузикова, поскольку дело серьезное. Он делал замечания, а потом заслушался и говорит: «Какой, ребята, у вас квартет – вам бы его сохранить». Такой был добрый, занятный и незабываемый старик.
Студентом Нейгауза я не был, но вспоминаю и его в числе моих дорогих учителей. Думаю, он был самый красивый человек, которого я встретил в жизни. Не просто лицо красивое, а весь человек. Маленький, элегантный, седой, изящные усики, желтоватые от папирос. Говорил с легким-легким немецким акцентом. Впервые я побывал на его концерте до войны. Первый раз в России исполнялось трио Брамса для фортепиано, скрипки и валторны. Вообще, это теперь смешно обсуждать, великий композитор Брамс или нет. А в начале века еще Ауэр, как рассказывал мне Цейтлин, мог сказать ученику, который решил разучить концерт Брамса: «Брамса? Ты что, дурак набитый?» В Европе Брамса тоже знали, главным образом, по «Венгерским танцам» и вальсам. Танеев жаловался: «Бьешься-бьешься, надрываешься изо дня в день, а потом тебя еще русским Брамсом обзывают».
Успех у трио был огромный. Аплодисменты не прекращались четверть часа. Генрих Густавович вышел на авансцену и говорит: «Уважаемые товарищи слушатели! Это такая прекрасная музыка – позвольте нам исполнить ее еще раз». И конечно, сыграли снова.
Он так любил музыку, как будто дышал ею. Он потом в своей книжке написал, что прежде чем заниматься музыкой, надо иметь ее в себе, носить в душе и слышать ее. Никто из консерваторских профессоров так часто не ходил на концерты. Один раз я сидел с ним рядом в зале, был какой-то квартетный вечер. Музыканты играли слишком быстро. Смотрю – Нейгауз принялся тихонько отбивать рукой по колену верный такт. Но те мчались и мчались, как взмыленные кони. Им его страдания не передавались. В конце концов он вздохнул и опустил голову.
И вот что такое любовь к музыке, а не к своему успеху. Однажды он играл в Малом зале Дебюсси – которого до него в Москве никто, кажется, и не исполнял. С электричеством были перебои. Пришлось зажечь свечи. Нейгауз играл наизусть. Вдруг он запнулся. Ну, бывает. Забыл. Начал снова, сначала. Дошел до того же такта – и снова замолчал. Мы похолодели. Ужас, катастрофа. А он что сделал? Тихонько засмеялся, взял ноты, открыл, пододвинул канделябр и спокойно стал играть по нотам дальше. Никакой паники, досады, гнева – и он в один миг успокоил слушателей и вернул нас к музыке. А как играл – этого я не забуду никогда. Мастер Генрих, его Мандельштам назвал, MeisterГенрих…
Позже нам посчастливилось работать вместе. И в концертах, и на радио в прямом эфире, тогда ведь не давали в записи, только прямой эфир. Он вел себя с нами, четырьмя совсем молодыми ребятами, как с равными. Никакого менторства, высокомерия, совершенно исключительное дружелюбие и всегда полная отдача. Репетиции были праздником: мы не упражнялись, а наслаждались музыкой. Не будем, говорит, останавливаться по мелочам: лучше сыграем еще раз всю часть целиком.
Довольно быстро он прознал, в каких условиях мы репетируем без него. «Знаете что, – говорит, – приходите ко мне в класс, когда я заканчиваю занятия, и там работайте».
Мы, конечно, приглашением воспользовались. Очень часто он не уходил, а садился тихонько в углу и смотрел, как мы репетируем. После целого дня занятий ему доставляло удовольствие слушать музыку. Особенно Бетховена. Как-то раз мы сыграли финал ми-минорного квартета, и вдруг Нейгауз встал, подошел к нам взволнованный, со сжатой в кулак рукой, и говорит: «Это же sforzandoБетховена! Это знаете что такое? Это когда скалы рушатся!» Запел тему, дирижируя кулаком, и на этом sforzandoкак подпрыгнет и каблуками по полу! Мы, не сговариваясь, подняли инструменты и сыграли финал снова. Он был доволен.
Потом приглашал репетировать у него дома на Земляном Валу. Трехкомнатная квартира, по тем временам прекрасная, все-таки крупных профессоров обеспечивали. Но мы попадали не просто в квартиру, а в совершенно другой мир, чем был за ее окнами. Нейгауз, конечно, как мог, старался держаться в стороне от советской жизни, хотя это было почти невозможно, особенно немцу во время и сразу после войны, можете себе представить. В начале войны его просто посадили в тюрьму. Он отказался эвакуироваться с консерваторией, потому что не мог оставить тяжело больную тещу. Обвинили его в антисоветчине, припомнили, что он в свое время осуждал пакт Молотова – Риббентропа (это при том, что, когда он сидел на Лубянке, фашисты были на окраинах Москвы!), сослали. Потом, спасибо, выпустили. Но он был полон любви к жизни, умел выпить, любил пошутить и посмеяться и многомного чего нам рассказывал. Он до революции подолгу жил в Италии, в Австрии, прекрасно знал чуть не пять языков, был человеком очень образованным. В юности дружил с Горовицем и Рубинштейном. Разговоры эти были бесценны, но еще дороже для меня сам этот незабываемый человек. Его присутствие делало тебя лучше. Он умел так ценить другого, что и тот начинал иначе ценить себя, людей, жизнь. Однажды говорю: «Знаете, Генрих Густавович, нас приглашают на радио сыграть квинтет Шумана… если вы будете». – «Квинтет Шумана? Конечно. Вы его уже играли?» – «Да, – говорю, – играли». – «Ну и отлично. Я тоже играл, значит, репетировать не надо». Мы встретились на радио и сыграли так, как будто всю жизнь играли эту вещь с ним вместе. Нейгауз играл бесподобно, а мы старались соответствовать.
20
Мне удалось поселиться в коммуналке в Лебяжьем переулке – знаете, он начинается у Каменного моста и упирается в Пушкинский музей. Сейчас уже не помню как, но смог получить там комнату, и мы стали жить с родителями отдельно.
Однажды рано-рано утром мне позвонил папа: «Рудик, у нас нет больше мамы».
Прямо перед ее похоронами я заболел тифом. Попал в больницу. Оттуда поехал на похороны. У меня была высокая температура, я был в какой-то дремоте, почти без сознания, когда хоронил маму. И когда потом вернулся в палату, там уже понял весь этот ужас, что мамы нету. Помню, как горько плакал на железной больничной кровати. Не понимал, как это – мамы нет. Вся жизнь моя вертелась вокруг маминой заботы и маминой теплоты. Это до сих пор у меня боль в сердце, когда я про маму думаю. Я с ней советуюсь, бывает. Такой второй мамы, как мне казалось, нет, не существует. Но так, может быть, каждому кажется.
21
В сорок шестом году я участвовал в конкурсе на вакантное место альтиста и начал играть в оркестре Большого театра. Это был в то время лучший советский симфонический оркестр. Руководил им Николай Семенович Голованов. Он пришел в Большой еще до революции, а прежде был регентом церковного хора, преподавал в Синодальном училище. При советской власти его несколько раз увольняли из театра, потом возвращали снова. Кто слышал, как он дирижирует оперы Мусоргского, не сможет их слушать больше ни в чьем исполнении. Он вообще был крупнейшим дирижером русской музыки.
В консерваторию я ходил только на занятия с педагогами, на другие уроки времени не оставалось. А экзамены сдавать надо. В частности, по марксизму-ленинизму. Но тут Славка придумал гениальную вещь, которая нас обоих спасала. Называлось «Ростроповичев глаз». Это был чистый лист бумаги с аккуратно прорезанным сверху окошком шириной в строчку. Под него клалась заранее заготовленная шпаргалка, и ты делал вид, что пишешь ответ, а на самом деле, глядя в окошко, строка за строкой все списывал. Потом шпаргалку прятал, верхнюю часть листа с прорезью аккуратно по линеечке отрывал и шел к экзаменаторам читать ответ.
День мой был такой: с утра репетиция в Большом, потом где-нибудь на ходу перекусить – и на репетицию квартета, вечером спектакль в Большом. Конечно, я здорово уставал. В оркестре бывало интересно, только если дирижировал Голованов, с другими дирижерами я скучал.
Теперь, когда прошло столько лет, я понимаю, как многому научился у Голованова, хотя мальчишкой над какими-то вещами посмеивался. Скажем, он требовал от всех полнейшей отдачи – и мы с другими альтистами развлекались так: играли fortissimoс высоко поднятыми инструментами – только совсем тихо. В грохоте медных и ударных это ничего не меняло, но Николай Семенович видел, как мы вдохновенно задираем инструменты, и одобрительно нам кивал. А вообще я играл без халтуры, он умел воспламенить оркестр с первой ноты и требовал ни на секунду на протяжении целого спектакля не терять этого накала. Каждое вибрато должно было играться с полной выкладкой. «Что вы спите, – кричал он, – почему не играете?!»
Кричал он много и людей обижал запросто. Когда приходил на репетицию, стояла такая тишина – муха не пролетит. Боялись его. Если особенно свирепел, то Виктор Львович Кубацкий, виолончелист, его старинный друг, ему тихонько говорил (я слышал): «Не бушуй, Коля». И надо сказать, Голованов мгновенно успокаивался.
Видит, кого-то нет на репетиции. А у него, объясняют, сегодня студенты в консерватории. Голованов говорит: «Понабрали профессоров – играть некому». Хотя и сам был действующим профессором, а кроме того, еще руководил оркестром Радиокомитета.
Тут две вещи сошлось. Почтенная, увы, традиция дирижера-тирана, которой ломает палочку о голову оркестрантов, – и сталинская система управления, основанная исключительно на страхе. Она вытаскивала из людей худшее.
Но была и еще одна сторона. Все понимали, что Голованов служит исключительно музыке и в первую очередь не щадит самого себя. Оркестр в его руках превращался в единый организм, отзывался на каждый жест и ни у кого другого не звучал так полно. А дирижерская палочка у Голованова была строгая и ясная, никаких разночтений. Затакт сильнее, чем такт, этим все сказано. Сильные музыканты были рады подчиняться ему, слабые сопротивлялись и ныли.
Говорили, он антисемит. Не могу свидетельствовать. Помню, как он орал на репетиции: «А где евреи? Оркестр вообще не звучит!» Знаю, что многим музыкантам помогал. Когда позже уничтожали Прокофьева – я расскажу, – Голованов устроил в Большом театре оркестровую премьеру фрагментов его нового балета, и после нее оркестр и он сам обрушили на Прокофьева такие аплодисменты, что, в общем, можно было Николая Семеновича в очередной раз увольнять. Что не сразу, но вскоре, и было сделано.
А когда я только поступил в Большой, ставили «Ромео и Джульетту». Дирижировал Юрий Федорович Файер, главный балетный дирижер театра. Прокофьев приходил на все репетиции. Если Файер просил, он с готовностью вносил изменения, и на следующий день приносил новый вариант на огромных подклеенных, переклеенных партитурных листах. Музыка мне так нравилась, что я переложил несколько номеров для альта с фортепиано. Однажды в антракте подошел к Прокофьеву, сказал, что вот сделал такие обработки и хотел бы ему показать. «Ну конечно.
Приходите ко мне домой». Жил он в проезде Художественного театра. Я пришел. Он сел смотреть ноты, потом говорит: «Вот это место мне не совсем ясно. Разве можно так на альте сыграть?» – «У меня инструмент с собой, Сергей Сергеевич. Послушаете?» Сыграл. «Видите, – говорю, – даже очень просто». Почему-то это его очень обрадовало и расположило ко мне. «Надо же! Я не знал, что так можно. Слушайте, как здорово!» И с тех пор началось наше общение. Он был милый человек и огромный композитор, но все же я бы не произносил их с Шостаковичем имена через запятую. Как Антон Веберн однажды написал Бергу: «Получил твое письмо, в котором ты обожествляешь Баха и Генделя, но, знаешь ли, два этих имени нельзя произносить на одном дыхании». Прокофьев занимался, что называется, «искусством для искусства», недаром он был так силен в балетной музыке. Когда начались гонения, преследовали его действительно за диссонансы, а не за содержание музыки. Даже в официозных вещах, вроде «Семена Котко» или оратории «На страже мира», Прокофьев совершенно не изменял себе. Послушав же Четвертую симфонию Шостаковича, невозможно не задуматься, о чем он рассказывает, и не оглянуться вокруг. Сам Шостакович терпеть не мог литературщину в музыке, но и я говорю не о программе, а именно о музыке. Он стеснялся своей «Песни о лесах», хотя, в общем, это была честная попытка написать «популярную музыку». Когда я дирижировал его симфонии с хорошим оркестром, у меня всегда оставалось чувство, что я за один вечер прожил целую жизнь. Прокофьева я играл с охотой, но такого чувства не было.
22
Я всегда был очень влюбчив. Особенно если женщина талантлива… страшное дело. Нина Маркова была очень хорошая скрипачка. Познакомил нас, думаю, Гриня Кемлин: они оба учились у профессора Мостраса. Такой был педагог, который не только вел класс, но еще и преподавал методику обучения игре на скрипке. Преподавал, между прочим, замечательно. Я навсегда запомнил один его постулат: необходимо совершенствовать исполнение пассажа и даже целой части до тех пор, пока оно не станет автоматическим, когда вы уже об этом можете не думать, а как бы само собой играется. Только тогда можно считать, что фрагмент выучен, и двигаться дальше.
Нина играла в студенческом ансамбле, который назывался «Эмиритон», в честь электронного инструмента того времени. На нем имелся рисунок вроде клавиш, и, в общем, можно было играть не только примитивные вещи. Я взял и сделал для их ансамбля обработку нескольких пьес из «Мимолетностей» Прокофьева. Ребятам понравилось, они выучили и исполняли на концертах. Потом наш квартет тоже стал это играть. С тех пор я и сделался известен как обработчик. Прокофьеву «Мимолетности» в таком виде очень пришлись по душе, он предлагал, чтобы я их все инструментовал.
Нине тоже понравилось. Она, по-моему, и влюбилась в меня как в обработчика. Она, надо сказать, была хорошенькая очень, очень-очень, и скрипачка замечательная. Так что мы влюбились друг в друга и взяли поженились, долго не думая, чего там.
Родился Лева. Как совмещать обязанности молодых родителей с нашей работой, мы совершенно не понимали. Это невероятно трудно. Поэтому в нашей комнате на Лебяжьем появилась еще домработница. Крестьянская девушка, старая дева, звали ее Капа. Простая-простая. Она была совершенно преданный, совершенно свой человек в семье. И, в сущности, она воспитывала нашего Леву. Даже если мы ездили куда-нибудь летом на каникулы, на Азовское море например, – всегда Капа с нами. Вчетвером отдыхали.
Володя Рабей ушел из квартета. Это была серьезная драма. У них не сложились отношения с Дубинским, тот был недоволен Рабеем как вторым скрипачом, мы защищали Володю, но кончилось дело расставанием.
Объявили конкурс на пульт второй скрипки. Лучше всех кандидатов, по общему мнению, оказалась Нина. Она стала играть с нами. Поначалу все этому радовались. Выступления квартета пользовались у публики успехом, работали мы с огромным энтузиазмом. С приходом Нины захотелось начать как бы заново, сбросить все, что накопилось дурного. Мы все вместе написали устав квартета и подписали кровью. Каждый проколол себе палец булавкой и поставил отпечаток под текстом. Главное в уставе было просто: один за всех, все за одного, квартет – главное дело в жизни каждого.
Нина ушла из школы, где она преподавала, а я подал заявление на уход из Большого театра.
На другой день позвонил директор оркестра Большого театра: с вами хочет поговорить Голованов. Я пришел в артистическую, дождался антракта, появился Николай Семенович, усталый. Извинился передо мной, сказал, что должен прилечь. Он был уже не очень здоров. Вытянулся на диване и предложил мне стать концертмейстером группы альтов. Я растерялся, но ненадолго. Это высокая честь, говорю, но, понимаете, Николай Семенович, у меня квартет и консерватория. Я просто не могу посвятить себя театру. Голованов даже приподнялся на подушках. «Сколько вам лет, Рудольф Борисович?» – «Двадцать два». – «Рудольф Борисович, сосунок двадцати двух лет получает предложение стать концертмейстером в Большом театре и воротит нос?» Я вежливо засмеялся. Он говорит: «Ладно. Тогда играйте не на полную ставку, а когда время будет». Я поблагодарил. Недолго, пока мне не нашли замену, – играл, а потом ушел из Большого.
Затем позвонил Мравинский. Мы были знакомы: он приходил на наши концерты в Ленинграде, когда мы исполняли квинтет Шостаковича и Дмитрий Дмитриевич сам был за роялем. Мравинский предложил мне место концертмейстера в своем оркестре. Я, конечно, был глубоко тронут, польщен… Но и ему ответил, что состою в квартете. Поскольку мы все живем в Москве, я мог бы принять предложение, если мои товарищи тоже получат место у Мравинского в Ленинграде. Поразительно, но он попытался это устроить. Но у первых пультов не было свободных мест, и ничего не вышло.
В сорок восьмом году я защитил диплом. На следующее утро стучат соседи, зовут к телефону в коридор. Звонит Свет Кнушевицкий, Святослав Николаевич Кнушевицкий, лучший тогда в стране виолончелист. «Мне, – говорит, – вчера после твоего дипломного концерта звонил Ойстрах и сказал: „Есть альтист для нашего квартета!“» Трудно описать мою радость и гордость. Давид Федорович Ойстрах – лучший русский скрипач, за всю историю мировой музыки таких единицы. Я к тому времени был с ним знаком. Наш квартет участвовал в отборе на международный конкурс в Праге. Прошли первый тур, сыграли второй. Ойстрах был в жюри. После заседания он подошел к нам и сказал, что в третий тур мы не допущены. «Но, – говорит, – я хочу вам сказать: вы играли лучше всех». Потом мы узнали, что после этого заседания Ойстрах и Тэриан вышли из жюри в знак протеста. Подоплеку истории тогда никто особо не скрывал: у нас были неподходящие фамилии. Берлинский, Дубинский, Баршай – даже двое Баршаев.
Ойстрах с Кнушевицким и Львом Обориным играли в трио и хотели расширить его до квартета. Но у нас был свой квартет – как я мог уйти? Так и ответил. И все же начал время от времени сотрудничать с их трио. Мы иногда играли программы вчетвером в Москве и в Ленинграде. Что это были за чудесные поездки на «Красной стреле»! Не спали, конечно, всю ночь: садились у столика, что-то жевали, и я слушал их рассказы до самого утра. Помню такую историю, например. Кнушевицкий возвращался после премьеры из Большого. Он играл соло виолончели, потом был банкет, на котором хорошо выпили. И вот он идет по ночной улице Горького, несет виолончель и думает: а зачем я ее несу? Я же разумный человек, зачем я несу такую тяжесть? Надо ее кому-нибудь подарить. Решено. Тут, возле Центрального телеграфа, навстречу прохожий. Какой-то, показалось Кнушевицкому, интеллигентный человек. Кнушевицкий к нему. «Добрый вечер, – говорит. – Не хотите ли виолончель в подарок?» – «Конечно, – отвечает человек. – Хочу. Хорошая?» – «Страдивари», – говорит Кнушевицкий. Виолончель действительно была Страдивари. Человек забирает виолончель, пожимает руку Свету и удаляется. Кнушевицкий, испытывая приятную легкость, не спеша идет домой. Жена открывает ему дверь… В общем, оказалось, ему повезло. Человек, которого он встретил на улице, его сразу узнал. Может, и сам шел с той же премьеры. Во всяком случае, понял ситуацию. Поэтому взял виолончель и наутро принес в проходную Большого театра.
Кнушевицкий был чудесный, совершенно изумительный человек, веселый, добрый, щедрый. Мы много потом играли вместе, да только, увы, он рано умер, от инфаркта.