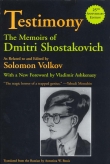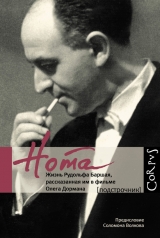
Текст книги "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"
Автор книги: Олег Дорман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
16
Первая бомбардировка случилась под Волковыском. Засвистели бомбы, загрохотало. Нас спрятали под вагонами, и там мы провели всю ночь, потому что дело продолжалось до утра. Мы ничего не видели, только слышали страшный грохот, рев, свист и вой. Очень страшно. Преисподняя. Наутро стихло. Мы вылезли. Обнаружили, что все живы. Открыли футляры – инструменты тоже целы. Поехали дальше.
Играли перед бойцами прямо на передовой. Скажем, опушка или большая поляна в лесу. А в лесу идет бой. Приходят солдаты, усталые, перепачканные землей, порохом, садятся слушать музыку. А другие, которым мы только что играли, уходят им на замену, прямо в бой.
Бетховена, Гайдна, Моцарта, Мендельсона они слушали, затаив дыхание. Они как будто чувствовали, что приобщаются к чему-то таинственному и святому. Такое было ощущение, когда я на них смотрел.
Один мальчишка, украинский хлопчик, спрашивает: «Скажите, пожалуйста, товарищ музыкант, що це ви зараз зиграли?» Я отвечаю: «Это струнный квартет Мендельсона для двух скрипок, альта и виолончели». А он так приложил палец к щеке и покачал головой: «Мендельсона… Скажите пожалуйста, я й не знав, що така чудова музика есть на свити».
На поляну приходили солдаты обеих сторон. Так близко стояли войска, так они дрались. Там же шли чуть ли не рукопашные бои. Среди немцев были интеллигентные, были симпатичные люди. Бредет такой молоденький немчура, в лесу заблудился, куда ему идти в России, не знает никого и ничего, слова сказать никому не может. И набредает на полянку. Видит – сидят другие, он понимает, что это не немцы: и форма другая, и все прочее. Но он садился с краешку… Бывало, один-двое заходили, другой раз трое, четверо. Не толпами, конечно. Само собой, они были видны как на ладони. Но не станут одного несчастного немца убивать. Пришел, может, какой-нибудь молоденький Гейне. Могло быть такое? Могло. Вполне.
Нас привезли во Львов. Там шли бои с бандеровцами. Их тогда называли не иначе как бандой, а, в общем, это были украинские партизаны, националисты, которые воевали и против Гитлера, и против Сталина за Украину. В первую же ночь под нашими окнами завязалась перестрелка, и когда мы вышли наутро, увидели тротуары в крови.
Играем для солдат в кинотеатре. Вдруг свет начинает мигать, мигает и гаснет совсем. Мы продолжаем играть в темноте. Солдаты слушают, никто с места не встает. Потом что-то ухнуло, пошла стрельба под окнами. Зазвенело стекло, забегали за кулисами, затопали сапоги по сцене – кто-то подошел. Зажегся фонарик, потом другой. Стоят перед нами военные: «Товарищи артисты, не беспокойтесь, никто не уйдет, мы с вами. Продолжайте концерт». И мы играли. Руки, правда, дрожали – зато стаккато получалось превосходное. А они светили на ноты фонариками.
Повезли в танковую дивизию. Ехать через лес. Дали роту солдат с автоматами, рассадили по машинам, покатили. А в лесу бандеровцы. Они стреляют, сопровождающие наши отстреливаются. Мы держимся за футляры со скрипками. У кого виолончель, тому спокойнее – футляр больше. Но, с другой стороны, жалко инструмент. Как-то повезло, бой не разгорелся. Добрались в дивизию, а нам так рады, так они счастливы, что артисты приехали! После концерта никак не отпускали, мы и то им играли, и другое, пока генерал, командир дивизии, не вышел на сцену и не отдал приказ: «Товарищи музыканты, спасибо, музыку отставить. Товарищи бойцы, поблагодарим артистов и отпустим, они устали. Товарищи музыканты, вольно».
А сам повез нас к себе, устроил роскошный прием – с пирогами, салом, огурцами солеными, а водка была в ведре, стоявшем возле двери. Кто хотел, подходил и наливал ковшиком в свой стакан.
Перепились, конечно, ужасно. Генерал первый, но держался браво. Пора уезжать. Вдруг видим, Гриня Кемлин пропал. Ищем, ищем – ну нет нигде. Генерал говорит: «Товарищи музыканты, не надо волноваться. Время еще есть. Я придам вам дополнительную роту, и вас проводят до самого Львова, прямо до гостиницы. Продолжайте поиски». Сбились с ног. Наконец нашли: Гриня спал на большой кровати в генеральной спальне мертвецким сном, обняв подушку с вензелями. Генералу это страшно понравилось, он смеялся, помог погрузить Гриню в грузовик, сам нес за ним скрипочку.
И в этом грузовике бедный Гриня простудился и заболел. Но как! – сильнейшим воспалением легких. Пришлось его отправить в Москву. Причем он человек бывалый, в начале войны пошел добровольцем на фронт, воевал, а потом был отозван консерваторией для продолжения учебы. А теперь вот снова попал на фронт – и такая история.
С этой истории началась моя новая музыкальная деятельность, которая впоследствии оказалась более важной, чем я мог себе тогда представить. Я занялся инструментовкой. С нами ездила певица, Леля Корнеева, очень красивая, которая пела под аккомпанемент квартета. Народные песни, Чайковского, Шуберта. Но теперь-то, без Грини, квартета больше не было. И тогда я за несколько дней и ночей переинструментовал весь аккомпанемент для струнного трио, так что к ближайшему концерту все было готово. На этот концерт снова пришел наш знакомый генерал. Он, видно, чувствовал себя виноватым за то, что мы потеряли Гриню. И когда концерт завершился успешно, поднялся на сцену с рюмкой водки и велел мне ее выпить, а рюмку подарил. Красивая такая была, трофейная рюмка, с барельефами: солдат, лошадка, фрейлейн на балконе. Должен сказать, едва только Кемлин поправился, он потребовал, чтобы его немедленно снова послали на фронт, и присоединился к нам.
Прибыли на Второй Белорусский. Я знал, что именно тут воюет мой любимый дядя, капитан Исаак Баршай. И возмечтал найти его. Ну как же – найти дядю Исаака на фронте, это было бы событие какое!
Прихожу в штаб фронта. Вот, говорю, такое дело. Мы музыканты, выступаем перед бойцами, а здесь воюет мой любимый дядя, капитан артиллерии, хотел бы его отыскать. «Подожди, подожди, парень. Баршай, говоришь? Они еще вчера были тут, точно. Но сегодня убыли в направлении деревни такой-то». – «Как же мне искать?» – «А ты попутные грузовики лови, а нет где – там пешком иди. Вот, смотри, вот тебе карта, вот эта деревня, найдешь».
Я вышел, поймал грузовик, доехал, куда ему по пути было, дальше пошел пешком. Ходил-ходил-ходил – нашел деревню. Прихожу, а мне говорят: «Вот жалость, они только вчера отсюда снялись. Были, ночевали, потом пошли вот по этой дороге. Иди, ищи, может, догонишь». Я пошел.
Начался дождь. Иду весь мокрый – ну и бог с ним, это не считается, зато если я найду дядю Исаака – вот будет счастье! День иду, ночь иду. Где-то прилег, поспал недолго. День иду, снова наступила ночь. Вдруг из темноты передо мной вырастает фигура: «Хенде хох!» Все, конец.
Я молчу. А он говорит: «Ты чего, парень, не пугайся – я русский».
Ага.
– Прыгай скорее в траншею.
Присмотрелся – действительно, траншея рядом. Я слез в нее.
– Куда идешь?
– Вот, ищу своего дядю, капитана артиллерии. Они с частью ушли по этой дороге, мне сказали идти следом, может, нагоню.
– Ты что же, с ума сошел? Немцы в ста метрах. Это передовая, парень! Тебе жизнь надоела? Вот так окликнул бы тебя не я, а немец – и все, капут, он не стал бы расспрашивать, какого ты дядю ищешь. Откуда ты взялся?
Я рассказал. «А где все твои?» Я ответил, что нас разместили в такой-то деревне, кого поселили в больнице, кого в школе, кого в помещении церкви.
– Пойдем, музыкант, провожу тебя обратно. Сам не дойдешь. Пошли скорее, пока темно. И говори потише. Хорошо, дождь лупит, а то немцы нас услышали бы.
Отвел меня – там не очень далеко было, потому что я, пока два дня ходил, заблудился и прошел большую часть пути обратно. Тьма кромешная, нигде ни огонька. Довел до околицы, похлопал по плечу и пошел обратно.
Помню его. Огромный такой парень, русый, добродушный, веселый. Мне до сих пор тепло на душе становится, когда его вспоминаю.
Когда девушки наши меня увидели – расплакались, бросились обнимать. Все уже думали, я пропал или убили меня. А ребята налили водки, я же мокрый был насквозь. Выпил стакан, упал и заснул.
Дядя прошел всю войну, не погиб. Ему рассказывали на фронте, как его племянник искал. Я надеюсь, что и парень тот выжил.
Мы, конечно, играли не только на линии фронта, но и в госпиталях – перед ранеными, покалеченными, иногда при смерти солдатами. Никогда не забуду, как один молодой грузин лежал без рук, без ног – или, не помню, осталась у него одна нога или одна рука, – как он попросил: «Товарищ скрипач, вы знаете такую песню „Сулико“?» – «Ну кто же ее не знает». – «Тогда сыграйте мне, пожалуйста». И я ему сыграл песню «Сулико». Это же замечательная песня, чудесная, одно из чудес света эта песня. Я никогда не забуду, как он плакал, этот молодой боец, молодой парнишка. Как он плакал. Ну мальчик просто совсем.
17
Папина семья, все, кто до войны оставался в Белоруссии, погибли, их уничтожили фашисты. Двух сестер отца расстреляли вместе с их детьми, как и всех евреев. Русские соседи потом рассказывали, что евреев заставили вырыть яму, поставили на краю и расстреляли. Среди них был пятилетний мальчик, Вова, сын моей двоюродной сестры. Я его знал по Москве. Он в июне сорок первого поехал в Свислочь на летние каникулы к бабушке. Люди говорили, что земля в яме шевелилась два дня и две ночи.
Уцелели двое: дядя Семен успел уйти к партизанам в лес, а его четырехлетнюю дочку Иду взяли русские соседи, прятали у себя. Как-то раз глубокой ночью дядя пришел ее навестить. Он ее очень любил, не мог без нее. Его заметил русский полицай и тут же доложил коменданту. Арестовали и дядю, и девочку. А комендант этот, немец, видимо, был неплохой человек, не хотел их убивать. Сосед, который при этом присутствовал, нам потом говорил, что по глазам коменданта увидел, что тот не зверь, потому что когда ему рассказали историю про дядю и девочку, которую укрывали соседи, у того глаза стали влажными, покраснели. И комендант велел русскому полицаю отвести их в поле и прикончить. Конечно, рассчитывал, что полицай их отпустит, понятное дело. Тот действительно отпустил, сказал: «Бегите в лес». А потом выстрелил в них. После войны его арестовали, дали двадцать лет. Но позже, может, и помиловали.
В День Победы я встретил на Красной площади всех моих знакомых, приятелей, всю консерваторию, всех. Было великое ликование. Мы не сомневались, что теперь настанет настоящая жизнь, начнется мирное строительство и социализм принесет неисчислимые блага. Это была эйфория настоящая. Я верил. Несмотря на историю моей семьи, на процессы тридцатых годов, которые, хоть я был мальчишкой еще, не вызывали у меня ни малейшего доверия, а только ужас. Знаете, даже какой-то крупный русский государственный деятель, чуть ли не Витте, писал, что большевики проповедуют во многом христианские идеалы. Правда, говорит, они хотят ликвидировать частную собственность – величайшее завоевание человечества, а личность не может быть свободной без собственности. Про частную собственность я не думал, но меня тоже привлекали эти идеалы: например, говорили, в советской конституции будет такой пункт, что член партии не должен иметь личную машину, а должен пользоваться общественным транспортом. И я думал: будет такое – вступлю в партию. Мне нравилась идея равенства, не нравилось, чтоб одни богатели, пока другие бедны. Я, в общем, был готов все отдать. Другое дело, что у меня ничего не было… Сейчас не мог бы, а тогда мог. Но не потому, что теперь что-то есть. Было другое время, и я был другой. Я был моложе, не обладал таким богатством всяких недугов, и у меня перед глазами другой мир стоял – или я смотрел на мир другими глазами, что одно и то же, наверное.
Если и были у них идеалы – все это выродилось. Партийные чиновники стали вельможами. Такой анекдот, помню, ходил: «Смотри, какая шикарная машина промчалась, кто это? – Как кто, слуги народа».
Но вот сразу после войны чувствовался подъем гражданского чувства. Люди верили, что зло побеждено, и раз мы были едины перед лицом врага, то и между собой больше не будет никаких разделений.
Быстро выяснилось, что это не так.
Когда из плена возвращались домой русские пленные, их сажали в тюрьмы сразу, первым делом. Мы думали… Мы так возмущались: ведь эти люди уходили на фронт добровольцами. Скажем, Всеволод Топилин, прекрасный пианист, мой знакомый: он разве виноват, что в плен попал? Не хотел умирать, ему было предложено – либо в плен, либо убьют на месте. Он остался жив. А когда вернулся – просидел в сталинских лагерях. И так многие, очень многие, огромная часть народа, победившего в войне.
У Николая Заболоцкого есть стихотворение, которое он написал в сорок восьмом году. Все тогда прекрасно понимали, о чем это. Я помню наизусть.
Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.
Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вел вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.
Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Черное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе —
Все, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе.
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
Какая несчастная наша страна. И какой гениальный был Чаадаев, который все про нее понял. Он написал еще в пушкинское время: наше назначение – преподать урок миру, и один Бог знает, скольких страданий и слез будет стоить этот урок. За что был объявлен сумасшедшим.
Но свой собственный путь к пониманию того, какая катастрофа случилась с Россией, мне еще только предстояло пройти.
18
Музыканты в квартете – очень сложный мир. Был такой Люсьен Капе, основатель легендарного французского квартета. Мой педагог Вульфман у него в Париже учился. Капе говорил: «Я нашел музыкантов и потом сделал из них людей. Но если бы начинал сейчас, поступил бы наоборот». Вот я лично всегда именно к этому и стремился: чтобы мы были единомышленниками. Для игры в ансамбле человеческие качества важнее музыкальных. Да-да. Если прекрасный музыкант не обладает скромностью, гибкостью, терпением, не хочет слышать партнера, он не добьется хороших результатов в ансамбле. Многие знаменитые солисты оказывались в квартете совершенно беспомощны. Необходимо довериться интонации партнера, только тогда усилия каждого превратятся в музыку. Сколько раз я замечал на выступлениях, что моя левая рука движется как будто помимо моей воли: она следовала за игрой моих товарищей, и в результате получалось хорошо.
Я был никакой не руководитель, просто один из четырех участников квартета. Но, когда мы начинали, произнес речь. Сказал, что, вот, теперь нам предстоит вместе провести жизнь и мы должны делить все радости и невзгоды. Если у нас только огурец и больше нечего есть, надо этот огурец разделить на четыре части. Мы объединяемся ради того, чтобы добиваться совершенства, и только если будем на самом деле как родные братья, то сможем достичь больших успехов в музыке. А иначе ничего не получится.
Все были согласны. Молодые были. Еще не очень-то хорошо знали самих себя и друг друга.
После освобождения Минска Дубинского пригласили туда играть в квартете, и он уехал, но через некоторое время вернулся, и превосходный скрипач Леон Закс, занявший было его место в нашем квартете, ушел. Грише Кемлину не понравилась эта история, и он тоже ушел из квартета. Вместо него с нами стал играть Володя Рабей, ученик Ямпольского, чудесный парень, он к тому времени уже закончил консерваторию. Он ребенком жил в Берлине, его отец работал там в торгпредстве, Володя знал три языка, был очень образован и нас тоже развивал по мере возможности: приносил почитать всякие интересные научные статьи, прививал нам любовь к поэзии – знал множество стихов наизусть.
Жили мы в коммуналках, а Валя вообще за городом. Репетировали по кругу: у одного, потом у другого. Пультов не было, сидели за столом. Клали на него ноты, садились по сторонам и играли. Иногда после нескольких часов работы от усталости ложились на пол, вытягивались на десять минут – и снова к столу. У Ростика дома была такая теснота, что однажды пришлось репетировать в ванной – там оказалось просторнее.
Часто я приходил в консерваторию очень рано, к половине седьмого, чтобы позаниматься до начала уроков, не беспокоить дома соседей. Никого еще не было, тишина, только возле памятника Чайковскому старик с длинной седой бородой кормил голубей, воробьев, синичек. Снегири тогда еще жили в Москве. Это был Александр Федорович Гедике. Он считался отцом русских органистов, вел класс органа и класс оркестровой игры, был композитором. Он жил прямо в здании консерватории, во флигеле на втором этаже. Добрейший, деликатнейший, благородный человек. Единственный раз я видел, чтобы спокойствие изменило ему. Наш профессор Тэриан пришел погулять возле консерватории со своей собакой и демонстрировал студентам чудеса дрессировки: его бульдог по команде взобрался на дерево и уселся высоко на ветке. Александр Федорович был возмущен и качал головой: «Михаил Никитович, ну как же можно, это ведь не по-христиански, такое издевательство над живым существом!» Сам он был страстным кошатником, и в этой его квартире во флигеле жило столько котов, что он их путал. Помню, мы с Таней Николаевой, прекрасной пианисткой и моей дорогой подругой, с которой он меня и познакомил и потом мы много вместе выступали, были у него, и Александр Федорович говорит кошке: «Катюша, душенька, будь-ка добра, слезай с подоконника, ты простудишься. Ах нет, да это не Катюша. Василий, сойди на пол, холодно».
Позже мы играли с ним его фортепианный квинтет. Сыграли первую часть – чудесная музыка, только… как бы это сказать? – один в один квинтет Танеева, любимого ученика Чайковского. Сыграли вторую – квинтет Танеева. Гедике посмотрел на наши недоуменные лица и говорит: что, думаете, это квинтет Танеева? Мы молчим. Неловко ужасно, ну что тут можно ответить. А Александр Федорович вздохнул так кротко и говорит: «Так и есть. Но, признаюсь по чести, Сергей Иванович написал свой квинтет после моего».
Зимой сорок шестого мы раздобыли номер телефона, собрались с духом и позвонили Шостаковичу. «Дмитрий Дмитриевич, здравствуйте, это говорит Рудольф Баршай, студент». – «Да-да, я вас знаю». – «Мы вот выучили ваш Первый квартет, от которого мы в восторге, и хотели бы вам его сыграть». – «А когда у вас следующая репетиция?» – «Завтра». – «В котором часу?» – «Рано, в девять утра…» – «Где?» – «В сорок седьмом классе, в консерватории на третьем этаже». – «Я буду, в девять часов буду».
Мы, само собой, пришли заранее, чтобы настроиться, разогреться, и все время высылали дежурного смотреть, не идет ли Шостакович. Он опоздал на три минуты. Вошел в класс, поздоровался – и за эти три минуты опоздания перед нами десять минут извинялся. Этот гениальный музыкант, профессор перед мальчишками извинялся десять минут. «Вы знаете, – говорит, – я никогда не опаздываю. Это мой принцип – быть точным. Но сейчас я опоздал из-за того, что на улице морозно, и из-за мороза у меня возникли проблемы с транспортом: автобус не ходил, трамвай не ходил, и вышла у меня из-за этого накладка». Мы были поражены. Шостакович сел, мы взяли инструменты, заиграли.
Он был очень доволен. Ему понравилось. Говорил, что мы все правильно выучили и верно играли. Мы были на седьмом небе от его похвал. Говорим: мы хотим играть все, что вы будете сочинять. Он сказал: «Я буду счастлив».
Я осмелел и, провожая его, говорю: «Дмитрий Дмитриевич, а вы не разрешите мне иногда вам показывать мои сочинения? Я немножко занимаюсь инструментовкой…» – «Да-да, конечно, конечно. Всегда, в любой момент. В девять утра я всегда сам подхожу к телефону. Ровно в девять звоните – попадете на меня, и сговоримся».
С тех пор, должен сказать, я пользовался этим телефоном довольно часто. И не было случая, чтобы я попросил его об уроке, а он ответил, что сегодня занят, или даже просто предложил бы перезвонить. Ну, может, два, три раза назначал точный час на следующий день. Но обычно отвечал: «У вас рукопись при себе?» – «Да, при себе». – «Тогда приходите сегодня», – если днем, то в консерваторию, а чаще, к вечеру, к нему домой. В течение тридцати лет, сколько мы с ним встречались, не было ни одного случая, чтобы он мне не то что отказал, а отложил встречу. Такой был человек. Великой доброты, великого ума, великий человек. Я обязан ему до конца моих дней.
Усаживал меня на диванчик, брал мою партитуру, садился за стол и за столом, не за роялем, изучал ее. В ноты смотрел примерно минут двадцать, а могло быть и полчаса, после чего вставал, партитуру оставлял на столе, подходил к роялю и играл мне все, что я написал, наизусть. Причем так, что я слышал все голоса. Невероятно. У него от природы были феноменальные данные. Как он в шутку предлагал нажать на десять случайных клавиш, а потом одну отпустить, и он, не глядя, говорил, какую ты отпустил. Редакции свои гениальные «Хованщины» и «Бориса Годунова» Мусоргского он делал по памяти. Сказал мне: «Не хочу, знаете, чтобы на меня что-то влияло, чтобы что-то отвлекало, – поэтому решил не смотреть ни в рукописи, ни в издания».
Замечания его были исключительно точными, дельными, и не раз бывало, я уже по пути домой обдумывал какое-нибудь из них, показавшееся мелочью, и понимал, какой урок там скрыт. Смотрит-смотрит в ноты, потом говорит: «Вот в этом аккорде у вас не хватает квинты, а надо, чтобы все было». Или: «Я смотрю, вы тут написали партию валторн, а потом зачеркнули…» А меня предупредили друзья, что партитуру надо приносить Шостаковичу написанной чернилами, ни в коем случае не в карандаше. Поэтому я в первый раз пришел к нему, не спав ни минуты: всю ночь переписывал. Позже он и сам мне говорил: никогда не сочиняйте за роялем или за бумагой, все должно сложиться в голове, только потом пишите. Но в тот раз что-то у меня было зачеркнуто. «Да, Дмитрий Дмитриевич, хотел посоветоваться – может, валторны все-таки не помешают?» – «Нет-нет, могу вас только поздравить с тем, что обошлись без них. Чем меньше элементов будет в вашей партитуре, Рудольф Борисович, тем она ценнее».
Но никогда не поучал, всегда с юмором. «Ну что ж, – говорит после первой нашей встречи, – в процессе этой работы вы многому научились. Первая часть – твердое „хорошо“. Вторая – намного лучше. Третья – мастерски, знаете ли, просто мастерски».