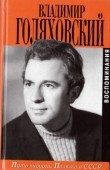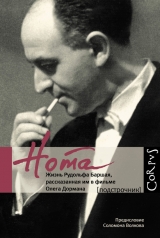
Текст книги "Нота. Жизнь Рудольфа Баршая, рассказанная им в фильме Олега Дормана"
Автор книги: Олег Дорман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
8
Поездка занимала почти полдня. Было бы проще, если брать прямой билет, но я понимал, что введу родителей в расходы. Поэтому каждое воскресенье я в пять утра ехал из Калинина до Клина, там ждал полчаса и пересаживался на местный поезд, получалось дешевле чуть не вполовину. Мы занимались с Владимиром Мироновичем несколько часов, его жена кормила меня обедом. Она была пианистка, мексиканка, позже они оба уехали в Мексику. Потом я шел на станцию.
Надо было ликвидировать недостатки, на которые Вульфман мне указывал. Я стал заниматься не только перед школой, но и ночью. Иду на кухню, надеваю сурдинку и повторяю упражнение без конца, пока не получится. Причем был такой принцип: если надо сыграть пятьдесят раз, а на сорок девятом не получилось – опять начинаю с первого. Играю еще сорок девять раз и только потом пятидесятый. Опять сбился – опять сначала. Это могло продолжаться бесконечно, пока не выйдет без ошибки. Днем школа, потом домашние задания, и снова скрипка, а в воскресенье – урок у Вульфмана.
Наконец он мне говорит: «Ты вполне уже окреп, поэтому давай-ка официально поступай в школу – сейчас будут вступительные экзамены. Сыграешь концерт Акколаи». Это концерт еще ученический, но вполне солидный.
В ЦМШ поступают лет в шесть-семь, учатся там одаренные дети, многие серьезные музыканты ее закончили. Мне было четырнадцать. Не помню, как справился с экзаменом, но когда пришел в учебную часть, мне сказали: «Вас в списках нет». – «Нет?» – «Вот, смотрите сами».
Тут сзади подошел Владимир Миронович и тихо говорит: «Тебя берут переводом сразу в музыкальное училище при консерватории. Тебя хочет учить Цейтлин».
9
В семидесятые годы девятнадцатого века Рубинштейн, основатель Санкт-Петербургской консерватории, пригласил в Россию профессором по классу скрипки одного из лучших музыкантов того времени Леопольда Ауэра. Он тут стал Леопольдом Семеновичем, получил звание придворного солиста, потом дирижировал, с огромным успехом проехал с оркестром по Европе, пропагандировал русскую музыку и вообще сыграл большую роль в российской музыкальной жизни. Чайковский посвятил ему «Меланхолическую серенаду» и скрипичный концерт. Пришел к Ауэру домой и сыграл ему этот концерт на фортепиано, а Леопольд Семенович, хотя и был восхищен, говорит: партия скрипки написана неумело, многое надо поправить. Чайковский обиделся и посвящение снял. Ауэр сам отредактировал партию скрипки и через некоторое время так сыграл концерт, что московские слушатели были потрясены, все критики об этом писали. Чайковский, правда, к тому времени уже умер. Но главное – Ауэр создал русскую скрипичную школу. Яша Хейфец, Мирон Полякин, Ефрем Цимбалист, Натан Мильштейн – все эти великие музыканты двадцатого века были его учениками. И среди них – Лев Моисеевич Цейтлин.
Когда Цейтлин закончил курс у Ауэра, он поехал в Берлин. Там еще был жив ауэровский учитель Иоахим. Старик был еще жив. Когда-то он был близким другом Брамса, переложил его «Венгерские танцы» для скрипки, Брамс очень ценил его как музыканта и посвятил Иоахиму скрипичный концерт. Цейтлин хотел получить уроки от учителя своего учителя. Очень вскоре его, двадцатилетнего мальчишку, пригласили концертмейстером в знаменитейший парижский оркестр Lamoureux. Там он подружился с Дебюсси и как концертмейстер играл все премьеры его сочинений и все эти гениальные соло в «Послеполуденном отдыхе фавна», в «Играх», в «Море».
Тем временем Сергей Кусевицкий организовал в Москве первый постоянный симфонический оркестр. Кусевицкий считался лучшим контрабасистом мира. Играл он в оркестре Большого театра. На какой-то сезон ложу над просцениумом – это такая ложа дорогая, для важных людей, – снял Ушков, знаменитый чаеторговец. Он приходил туда со всей семьей, в том числе с очень красивой дочкой. Кусевицкий с контрабасом сидел лицом к ложе. Девушка ему страшно понравилась, он на нее смотрел – и девушка на него смотрела. И он ей тоже понравился. Ну, один спектакль, другой. Потом он улыбнулся ей – она тоже в ответ улыбнулась. На следующем спектакле Кусевицкий уже ей кивнул, она тоже с ним поздоровалась. Потом они встретились в антракте, в фойе. В общем, дело кончилось свадьбой.
Кусевицкий оставил Большой театр, уехал с женой в Европу и стал учиться дирижерскому искусству. Брал партитуры, ходил на концерты Малера, Никиша, величайших дирижеров, внимательно следил за их жестами, а потом дома перед зеркалом повторял. Приглашал аккомпаниатора, который играл ему на рояле, а сам дирижировал перед зеркалом. Через некоторое время он дал концерт, в котором Рахманинов играл свой концерт для фортепиано, а оркестром дирижировал Кусевицкий. И Никиш ему сказал, Кусевицкому, что ничего подобного никогда не видел: чтобы человек так быстро достиг таких высот в дирижерском искусстве.
Во Франции Кусевицкого совершенно покорила новая музыка – Равель, Дебюсси, он хотел исполнять их в России. Вернулся и начал собирать собственный оркестр. Он имел возможность предложить самые высокие оклады и пригласил самых лучших музыкантов. С первых же концертов стало ясно, что родился выдающийся оркестр.
Вот в этот оркестр концертмейстером он пригласил Цейтлина, и Цейтлин возвратился в Москву.
Оркестр Кусевицкого очень любили. Вообще, Кусевицкий был из породы великих русских просветителей. Всегда к концертам печатались программки с биографиями композиторов, с разбором музыки, регулярно давали специальные концерты для молодежи, для небогатых людей, Кусевицкий считал такие общедоступные концерты очень важным делом. Он организовал музыкальное издательство, где печатали молодых композиторов – Скрябина, Стравинского, Прокофьева. Потом оркестр Кусевицкого проехал по всей Волге, по провинциальным городам. Переполненные залы, благодарная публика, огромный успех – это было событие в культурной жизни. Потом началась война, многие оркестранты ушли на фронт. А затем революция. Кусевицкий отправил семью в Европу, сам остался с оркестром. Это желание приобщить массы к искусству им двигало и казалось ему созвучным новой эпохе. Он играл для народа, сбросившего, значит, иго самодержавия, дирижировал в Большом – музыканты сидели в валенках, шарфах и шапках, потому что отопления уже не было, пытался организовать музыкальное образование, создать музыкальную академию. Пока ему наконец не дали понять, что ему тут не место. Несколько лет он бился. Только когда стало совсем невыносимо, распустил свой оркестр, сказал им «отныне наши пути должны разойтись». Мне рассказывал Цейтлин, что Кусевицкий вел себя очень порядочно, напоследок сделал для музыкантов все, что только мог. И эмигрировал, уехал к семье. Много играл в Европе русскую музыку – он, в частности, предложил Равелю сделать оркестровку «Картинок с выставки» Мусоргского, и Равель написал свой шедевр. В конце концов Кусевицкие оказались в Штатах. Сергей Александрович возглавил Бостонский симфонический оркестр и сделал его одним из лучших оркестров в истории музыки. Причем там он тоже воспитывал публику, приучал слушателей к Скрябину, Дебюсси, Стравинскому, много играл современных композиторов – и основал, как мечтал, музыкальную академию, легендарный Тэнглвуд, где занимались Бернстайн, непосредственный ученик Кусевицкого, Маазель, Аббадо, Мета, – я только дирижеров называю, списку конца нет.
Ауэр и почти все его ученики уехали из России после революции. Цейтлин остался. Он тоже был из породы просветителей, и его идеалы, как ему показалось, совпадали с идеалами коммунистов. Так что он долгие годы подписывал свои письма «с горячим коммунистическим приветом» – пока не понял окончательно, что происходит.
Лев Моисеевич был величайший музыкант, величайший, – и педагог милостью божьей. Со мной он сразу стал учить сонаты Баха для скрипки соло. Есть такое удивительнейшее сочинение у Баха, гениальнейшие сонаты. Бах для одной скрипки умудрялся писать полифоническую музыку, [1]1
Полифоническая музыка– музыка, основанная на одновременном звучании нескольких равноправных мелодических линий.
[Закрыть]и даже фуги. Подумайте: в фуге звучат то последовательно, то вместе несколько голосов – и все их играет один смычок! Чудо природы эти сонаты Баха.
Я, разумеется, пришел на урок со скрипкой. И Цейтлин тоже пришел со скрипкой. У него был Андреа Гварнери – не самый знаменитый из Гварнери, самый знаменитый был Джузеппе, а вот этот Андреа – редкость большая и совершенно изумительный. Как потом оказалось, Цейтлин давал его достойным ученикам на выступления.
Он достал Гварнери и заиграл. Я не могу описать, но слышу так ясно, как будто музыка звучит прямо здесь. Помню подушечки пальцев на его левой руке: они были совершенно плоские, как будто природой созданные для игры на струнном инструменте. Но на самом деле не природой – это он их такими сделал бесконечной работой.
Отложил скрипку. «Ну, теперь ты играй». Я заиграл. Он говорит: не контролируешь третий палец, все время убираешь с грифа, когда он не занят, так нельзя. Палец всегда должен быть наготове, как молоточек в рояле. Следи. Приходить ко мне будешь два раза в неделю. (Обычно с профессором занимались один раз, а другой раз с его ассистентом.) Принесешь чистую тетрадку.
Я завел тетрадку, и каждый раз он туда сам записывал, что и как я должен делать: расстановка пальцев, атака, работа со смычком. Начинаю играть, он сразу останавливает: где третий? От привычки сразу не избавишься. Через несколько занятий Цейтлин снова заметил, что я убрал палец с грифа. Остановил меня: «Рудик, говорю в последний раз. Больше повторять не буду. Ясно?» – «Ясно».
Перед Бахом Цейтлин преклонялся. Говорил: «Ты должен играть Баха все время, всю жизнь, каждый день. Потому что если ты можешь сыграть всё, но не можешь сыграть сонату Баха, значит, ты не можешь ничего. Правда, если ты можешь сыграть сонату Баха – это еще не значит, что ты сможешь сыграть все остальное».
Играем соль-минорную сонату. Там замечательная многоголосная фуга. Первый голос… второй вступает, третий… четвертый! И голоса эти объединяются в аккорд, что очень трудно сделать, нужно обладать так называемой аккордовой техникой. «Для этого, – говорит Цейтлин, – тебе в помощь пойдут этюды Донта». Это специальные этюды, которые сочинил учитель Иоахима. Они развивают кисть руки и умение играть всеми частями смычка. Цейтлин рисовал мне в тетрадке диаграмму: вот это играется четвертой частью смычка, это половиной, это тремя четвертями. Мелом на древке разметил части и говорит: «Ты должен заниматься каждой частью смычка особо. Берешь какой-нибудь этюд, хотя бы даже знаменитый „Перпетуум мобиле“ Паганини, трудный очень, и играешь все концом смычка, все эти триоли играешь. Устал? Не-ет, ты должен забыть это слово. Вот так весь этюд сыграешь, потом пойдем дальше. А „дальше“ будет заключаться в том, что ты начнешь его играть серединой смычка, точно серединой смычка. Если будешь все это добросовестно делать, своих рук через пару месяцев не узнаешь».
Это, поверьте, сложнейшая задача – весь «Перпетуум мобиле» так сыграть, очень трудно. А если кто особенный энтузиаст, тот может взять смычок за самый верх, чтобы колодка оставалась внизу, и попробовать так сыграть. Такое уже каждый не сумеет. Тут необходимы особые способности, которые есть у единиц. Вот тут становится ясно, кто есть кто.
Цейтлин говорит: «Исключительно важно иметь чувство распределения смычка, то есть чувствовать заранее, где дать больше смычка, где меньше. Сейчас я тебе могу показать, нарисовать схему. Но моя цель – чтобы ты делал это по собственному чувству и пониманию. Только тогда это будет ценно». И я действительно этому научился и бесконечно ему за это благодарен. Только не сразу послушался, когда он говорил, что хороший смычок не менее важен, чем хорошая скрипка. Легкомысленно отнесся. Потом понял. Смешно, я недавно вспоминал об этом, когда у меня украли смычок, который я купил во Франции чуть не за пятнадцать тысяч франков. Сделал его мастер по имени Симон, ученик великого Вильома. Сперли Симона, и с тех пор я не играл: не могу.
Цейтлин был очень строг, очень добр – и при этом строг. Мог сказать студенту: ты к уроку не приготовился, нам с тобой заниматься нечем – иди домой и разучи вещь как следует. Или смотрит, как на уроке кто-то играет только тремя пальцами, и говорит: «Ты, дружочек, не хочешь перейти на арфу? Там мизинец не понадобится. А на скрипке так не играют».
На него не обижались, но некоторые посмеивались. Его серьезность была им непонятна, неведома. Цейтлин был с такими учениками вежлив, но не более. Всегда перед началом занятия заводил будильник. «Пожалуйста, начнем». Через сорок пять минут будильник с грохотом звенит, прыгает по столу, Цейтлин его точным движением накрывает и говорит ученику: «Спасибо, дружочек, все». А дружочек мог быть посреди пьесы – не важно. «Пригласи, пожалуйста, следующего».
Но с теми, кто относился к делу всерьез, он работал без устали. Однажды что-то у меня не получалось. Цейтлин подошел к двери класса, запер ее на засов, выключил будильник. И урок длился три часа. Все это время следующие просидели в коридоре. Такое случалось много раз, и я сам, бывало, ждал в коридоре у закрытой двери.
Он требовал безукоризненного ритма. Причем вместо метронома сам, сидя, отбивал ритм ногами. Ровно-ровно-ровно. Если я какую-то ноту передержал или, наоборот, нота не прозвучала, он сразу: «Стоп, еще раз возьми».
Играть просто по чувству может всякий. Но настоящая сила музыки рождается, когда твоя игра – эмоциональная, выразительная – строго подчинена ритму. Цейтлин говорит: «Только тогда это будет ценно. Запомни, ты должен точно исполнять, что написано в нотах. Целая нота состоит из четырех четвертей – и никак не меньше, ты не имеешь право играть ее короче. Осьмушка – ровно две шестнадцатых. Ровно – а не приблизительно».
В скрипичном концерте Бетховена есть такие виртуозные пассажи, которые все скрипачи на свете играют с ускорением, как бы отдавшись вдохновению и стараясь быть блестящими. Когда студент так играл, Цейтлин морщился, как будто ему на ногу наступили: «Ну что ты творишь, – он говорил, – что ты делаешь с этой музыкой?! Ты хочешь ее улучшить? Напрасно. Не родился еще человек, который может улучшить Бетховена». Студент оправдывается: мне хотелось свободно это сыграть, по чувству. Цейтлин говорит: «Но Бетховен тебе всю свободу предоставил! Вот он написал триоли, вот квартоли – надо только их точно сыграть, и получится та самая свобода, rubato, [2]2
Tempo rubato(дословно «украденное время», от итал.rubare, «красть») – легкое отклонение темпа от композиторской нотации, один из элементов трактовки произведения исполнителем.
[Закрыть]к которому ты стремился. Только такое rubato, как Бетховен хочет, а не ты, балда». Обнимает парня за плечи и показывает на портрет на стене, у нас в классе портрет Бетховена висел: «Посмотри на это лицо – как ты думаешь, может он одобрять необязательность, фривольность? Бери скрипку, играй снова, только смотри ему в глаза – и все сам поймешь».
Столько лет прошло – а я не встречал скрипача, который сыграл бы концерт Бетховена так, как учил Цейтлин – и как играл он мне однажды в классе. Позже я слышал от стариков-музыкантов, что он вообще считался лучшим исполнителем этого концерта в мире. Помню звук, постановку пальцев – и неповторимую ясность. Никакой суеты, быстрые темпы чуть медленнее, чем у других, медленные – чуть быстрее, ничего чрезмерного, и от этого каждое чувство в музыке приобретало такую полноту и силу, что делало тебя, слушателя, таким, каким ты себя не знал.
10
У нас оказался хороший класс, но главным моим товарищем стал мальчик из другого класса, Волик Бунин, будущий композитор. Он учился игре на фортепиано и занимался композицией. Сблизила нас любовь к музыке Прокофьева. Как-то раз иду с занятий – навстречу Волик. «Смотри, что я достал!» Держит в руках партитуру Второго скрипичного концерта Прокофьева. «Ничего себе…» – «Ты что сейчас делаешь?» – «Домой иду». – «Пошли ко мне, сыграем». Помчались к нему – бежали от нетерпения, нам по пятнадцать лет было – и сыграли концерт с листа. Восхищены были. С тех пор мы дружили до самой смерти Волика, я часто играл его музыку и очень его ценил.
В одну девочку из нашего класса я влюбился. Звали ее Зина Баранова. Очень красивая, хорошая скрипачка и все такое. Мы всей компанией каждый выходной день ездили на Воробьевы горы, тогда они назывались Ленинские, катались на санках. Санки переворачивались, потом мы, все в снегу, ехали к Зине домой, и мама ее готовила нам чай.
Отряхивали снег, вытирались, умывались и пили чай.
Общение с новыми людьми для меня всегда было радостью. Я тут недавно подумал, что вообще люблю людей. Мне люди небезразличны. Их горести, их удачи, неудачи волнуют меня так же, как мои собственные. Мне понятна эта библейская мысль «полюби ближнего, как самого себя», она не кажется мне высокопарной.
Нам с родителями очень не хватало друг друга. Стало понятно, что мой путь определился и вряд ли я сумею вернуться в Калинин. В результате немалых усилий папе с мамой удалось поменять домик в Калинине на восемнадцатиметровую комнату в коммуналке на Новослободской улице, между Савеловским вокзалом и Бутырской тюрьмой. К папе с уважением относились в наркомате текстильной промышленности, даже сам Косыгин потом ему покровительствовал, – в общем, работа у папы была, и мы сделались москвичами.
Занимаясь с Цейтлиным, я прошел семилетку за два года. Сам, конечно, тоже работал как безумный – по шесть часов в день самое меньшее. Потом началась война.
Был у меня в гостях приятель, смотрели партитуру. Вдруг по радио объявляют: в 12 часов будет выступать председатель Совета народных комиссаров Вячеслав Михайлович Молотов. Не могу теперь объяснить, почему нам надо было его слушать среди людей, не дома. Может, чувствовали, что сейчас скажет что-то такое, что нельзя услышать наедине. Так или иначе, мы вышли на улицу и пошли в центр. Погода была пасмурная, то и дело начинался дождь. Интересно, что некоторые люди мне говорили спустя годы: ничего подобного, тот день был солнечный… На площади Пушкина стояла огромная толпа. Все смотрели из-под зонтиков вверх и молчали. Вверху, на столбе, висел репродуктор.
Наконец: «Сейчас у микрофона будет выступать председатель Совета народных комиссаров…» Это потом уже Сталин вернул «генералов» и «министров», а тогда были комиссары. Молотов очень волновался. Было понятно, что он хочет продемонстрировать твердость, но голос его выдавал. У меня было чувство, что говорит человек, который внутренне сдался.
Он говорил о том, как фашистская Германия нарушила все договоренности, разорвала пакт о ненападении и развязала войну. Вероломно. Моя бабушка Вера Алексеева, в отличие от Сталина и Молотова, не верила договоренностям с немцами ни на грош. Когда Риббентроп приезжал подписывать пакт, бабушка поразглядывала его фотографии в газетах, послушала радио и сказала: «Не нравится мне этот Гелиотроп. Чего он приехал? Что-то ведь нужно ему. Просто так сукин сын ни за что не приедет». Она ненавидела фашистов и все повторяла: им верить нельзя ни в коем случае, никому.
Бабушка не ошиблась. И вот теперь Молотов рассказывал нам, что немецкая авиация бомбит город за городом, и уверял, что враг будет разбит.
Ужас всех охватил. Он был тем больше, что вокруг ничего не изменилось – Москву не бомбили, по улицам ехали трамваи, легковые машины, цвела сирень. Когда речь закончилась, мы пошли в училище. Нам сказали, что все ученики и педагоги будут добровольно дежурить на чердаке училища, потому что туда могут попасть зажигательные бомбы, их надо вовремя, не боясь, брать и выкидывать в окно, чтобы они загорелись на улице, а не подожгли помещение. Распоряжался всем Цейтлин, составлял списки, согласовывал даты дежурств.
В первый месяц война ощущалась, главным образом, в том, что по городу шли отряды добровольцев. Сотни тысяч людей записывались в ополчение и уходили на фронт.
Не маршировали, ничего торжественного, – обычные, штатские люди, они просто молча шли, шли и шли. Мой дядя-книжник ушел. Многие из консерватории. У отца была с детства повреждена рука, он почти ничего не мог ею делать, так что на фронт не годился, но на работе был сутками.
А потом начались бомбежки. Выли сирены, люди бежали в убежища. Страшно. В первое дежурство я оказался на чердаке школы вместе с Цейтлиным. К нам действительно падали зажигалки, мы хватали их – они, пока не успеют разгореться, холодные, – выбрасывали в окно и смотрели, как они внизу на асфальте вспыхивали. Вдруг услышали страшный грохот – взорвалось где-то неподалеку. Когда под утро бомбежка закончилась, мы с Цейтлиным пошли к Тверскому бульвару и на площади Никитских ворот увидели пустой постамент Тимирязева. Бомба упала рядом, и Тимирязева унесло взрывной волной. За домами в стороне Садового кольца в небо поднимались клубы дыма. Цейтлин сказал, что ему надо сейчас же туда пойти. Я знал, что там жила его бывшая жена с их дочкой, и пошел с ним. По пути он сказал, что жена и дочка уехали в эвакуацию, и почти сразу, еще издали, мы увидели, что дома нет, на этом месте пылает пожар. Там же находилась Книжная палата, замечательное старинное здание, оно полностью сгорело. Мы стояли и глядели на огонь, а потом не пошли по домам, целый день ходили по городу, смотрели, что с Москвой. Где-то поели, вечером я проводил его домой.
Немцы стремительно приближались к Москве. Делалось все яснее, что Гитлер может победить. Мне доводилось встречать людей, которые ждали немцев. Ненависть этих людей к тому, что большевики сделали с Россией, была сильнее страха перед внешним врагом. Моя подружка, пианистка Калинковицкая, работала ассистенткой у одного профессора, который был известным антисемитом. И то ли он сам, то ли кто-то из его окружения – сейчас не помню точно – сказал ей: «Ты чего тут сидишь? Давай-ка улепетывай быстрее, пока жива. Если немцы зайдут в Москву, мы всех вас повырежем». Такие настроения тоже существовали.
Мне было шестнадцать лет. Немцев я не боялся. К тому времени я немножко овладел немецким, потому что хотел прочесть книгу Альберта Швейцера «Иоганн Себастьян Бах». Начал читать со словарем, а заканчивал уже без. И вот я думал, что если войдут немцы – буду разговаривать с ними по-немецки. Я еще не знал всей глубины враждебности и подлости тогдашних немцев. Именно тогдашних. Я очень симпатизирую немецкому народу, но то были особые немцы, нацисты, патологически больные люди, как я потом читал в отчетах разных психиатров. Гитлер был больной человек. И Сталин тоже больной, только у них были разные патологии. У Гитлера – тяжелый случай некрофилии. Это болезнь, при которой человек любит все мертвое и ненавидит все живое, что делает его особенно опасным. А Сталин – клинический садист. Это описал гениальный психолог и философ Эрих Фромм, которого я очень почитаю.
В августе к нам домой пришли какие-то военные люди. Они сказали: «Есть указание, граждане, вывезти из Москвы семьи, в которых имеется особо одаренный студент». Указали на меня. «В вашем случае, – говорят, – это еще только потенциальный студент, но ЦМШ получила распоряжение составить списки на эвакуацию, и Баршай Рудольф в них включен. Мы предлагаем помощь – проводим до Речного вокзала, где вас посадят на пароход и отвезут до Нижнего Новгорода».
Выбора не оставляли – просто выпроводили из Москвы.