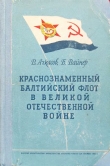Автор книги: Олег Стрижак
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
То, что адмиралы вознамерились в честь 300-летия русского флота вырубить середину Александровского сада, и в центре Петербурга, меж Медным Всадником и Александровской колонной, поставить "статуй" Горшкова (почему-то с биноклем), приводит на ум анекдот.
Идут два ворошиловских стрелка через площадь Искусств, читают надпись на пьедестале. Один другому: "Слушай, а почему памятник – Пушкину? Ведь Дантес попал?"
Почему адмиралы держат в секрете 41-й год? Зачем их знаменем является Трибуц? Они чувствуют, что если общество предъявит счет Трибуцу, то вступит в действие "принцип домино", и отвечать придется им – за их собственные дела. Сколько лодок погибло в последние тридцать лет? Адмиралы надувают щёки: государственная тайна. В одной из передач ТВ прозвучало: "больше двадцати", и говоривший тут же поправился: "это не только атомные, но и с дизельными лодками вместе...". Будто от этого легче.
Ракетную подводную лодку "К-129", погибшую в марте 68-го, подняли со дна Тихого океана американцы летом 74-го (и захоронили её экипаж в море с соблюдением ритуала, принятого в советском ВМФ, под гимн Советского Союза). На флоте об этом говорили глухо и противоречиво. Отчетливо раскрыл эту тему Н. Бурбыга в серии статей "Подводная лодка из бухты "Могила" (см.: «Известия», 1992, №" 154-157).
Там, в частности, говорится, что когда газеты всего мира (кроме наших газет) сообщили о поднятии погибшей Cоветской лодки, МИД СССР послал США ноту: ваши службы, в нарушение международно-правовых норм, подняли наш корабль... – на что госдепартамент США отвечал: а вы не объявили о гибели своей подводной лодки...
Вскользь прошло в печати упоминание, что в 83-м и 86-м годах погибли две наши атомные подводные лодки («Собеседник», 1990, № 50).
История гибели лодки "Комсомолец" в 89-м году – до сих пор казённая тайна (когда эта лодка горела, когда она тонула, когда она гибла, она имела другое, секретное имя. "Комсомольцем" лодка стала именоваться только на другой день после гибели...). Позорную историю, которую разыграли высшие адмиралы после гибели "Комсомольца", подробно изложил морской офицер, народный депутат СССР А. Емельяненков в большой статье "Рапорт не по команде. Открытое письмо Главнокомандующему ВМФ адмиралу флота Чернавину В. Н." (Там же, ее. 2, б).
Адмиралы очернили и погибших, и тех, кто чудом выжил. Причем и выжившие офицеры, и родственники погибших подверглись травле, преследованиям: а чтоб не смели говорить правду. "Наши сыновья имеют право только погибать...", "...правда никому не нужна...". Зам. начальника Военно-морской академии Герой Советского Союза вице-адмирал Е. Д. Чернов хотел добиться правды об этой истории – и был вышиблен с флота. Вчера ещё его официально именовали "подводник номер один", в один миг он стал "предателем интересов подводников". Емельяненков пишет, что эта история является "...уроком абсолютной незащищенности порядочного человека от циничного, барского произвола, культивируемого на флоте".
Будущие историки обо всём расскажут.
Адмирал Поникаровский пишет в "'Труде", что мои заметки – "кощунство". Адмирал Руссин пишет, что мои заметки имеют "клеветническую направленность". Господи, какая каша а голове у контр-адмирала Руссина. Он же на первой странице "Вечернего Петербурга" (19 марта 1996 г.) жалуется, что адмиралы, кому поручен юбилей флота, не дали совету ветеранов-подводников ни копейки на издание «Книги памяти». Не дали, и не дадут. Будущие историки с удивлением увидят, куда ушли деньги, отпущенные казной на юбилей флота. Руссин не хочет понять, что если издать книгу о погибших в войну героях, то кому-то одному из «юбилейных адмиралов» не хватит на билет в Штаты или обратно. Им гульнуть хочется, они уже «новые русские», а ветеран Руссин лезет к ним с какой-то памятью павших...
Адмирал Поникаровский говорит в письме в "Вечерний Петербург", что такие, как я, погубили Cоветскую власть, и в доказательство (!) приводит цитату из романа А. Иванова "Вечный зов" (какой начитанный адмирал, он бы ешё Кочетова процитировал). Мне трудно согласиться с богатым и могущественным президентом фонда Поникаровским. Я более согласен с товарищем Сталиным. Товарищ Сталин учил: "Допускать воровство и хищение общественной собственности, – все равно, идет ли дело о собственности государственной или собственности кооперативной и колхозной,– и проходить мимо подобных контрреволюционных безобразий.– значит содействовать подрыву Cоветского строя" (Сталин И. Вопросы Ленинизма. М., ОГИЗ. Госполитиздат, 1947, с. 393).
А уж как воровали на флоте при Горшкове – только слогом богатырских былин рассказать можно. Адмиралы, которые воровали, зря хорохорятся. Будущие историки укажут с точностью до поддона кирпича, до мешка цемента, до куртки-канадки, до ящика вина из рациона подводников. до жестяной коробки воблы,– сколько ''тиснул" конкретный адмирал Пупкин. Прелесть в том, что адмирал без помощи матроса (по Салтыкову-Щедрину) даже украсть не умеет. Конечно, матрос ничего никому не скажет. Только соседу по койке да трем надежным ребятам в курилке, да начальнику гаража, да ещё особисту.
Горшков в своих мемуарах с гордостью пишет, что при нем флот вышел в океан. Сие важно: при закупках продовольствия и прочего в кап. портах открылся космический простор для валютных махинаций. Тема эта тоже найдет своих исследователей. Имелись и другие пути к обогащению. Одну из знаменитых историй рассказывали так: сотрудники КГБ разматывали в одной из южных наших республик "теневую структуру", накрыли мощный центр, на миллионы долларов техники из США, Японии. Установили: закуплена техника Внешторгом. Кому передана? Военно-морскому флоту.
Андропов, тогда ещё шеф КГБ, к удивлению многих разрешил пощипать перышки из ВМФ (может, он в то утро с Горшковым повздорил?). Выяснили: техника ушла в центр подготовки экипажей атомных подводных лодок. Адмирал, начальник центра подготовки, на следствии и суде молчал, как партизан. А когда зачитали приговор – 12 лет, бывший адмирал изменился в лице. Видимо, ему обещали совсем другое. Изменившись в лице, адмирал заявил, что готов дать дополнительные показания. Ночью он умер в камере, от какой-то хвори. Некий из Ленинградских маринистов написал даже, на сей сюжет, небольшую повесть, я читал её году в 84-м в рукописи (это называлось "самиздат").
Украшением флотской жизни всегда было "крепостное право". Начальники, что понаглее. неизменно пригоняли на труды в своих латифундиях дармовую рабочую силу. Матросы (гордость наша, защитники Отечества) копали огород, возили мебель, красили потолки в адмиральской квартире. Есть у меня любимая история. Один Ленинградский адмирал решил защитить свои накопления бронированной дверью. Дверь он, не знаю каким путем, приобрел. Из жадности адмирал не позвал наёмных мастеров, а велел пригнать матросов. Адмиральша матросов чем-то обидела. Чтобы показать адмиральской чете, кто в жизни главный, матросы приварили петли не с той стороны. Дверь встала идеально. Но глазок очутился внизу. Из жадности адмирал опять не позвал мастеров, чтоб переставили дверь, а из трусливости не позвал других матросов. И с тех пор, чтобы глянуть, кто звонит в дверь, адмиральской чете приходится вставать на четвереньки. Адрес могу указать, дверь и сейчас так стоит.
В России история, близкая к правде, пишется лет через 70 или 90 после событий: когда написанное уже не задевает ничьих личных, или групповых (кастовых, партийных, бандитских...) интересов. Вообразите, что о войне в Чечне (а война эта, по длительности своей, уже сопоставима с германской войной) мы знаем только из сообщений "силовых министров".
Примерно так у нас написана история Великой Отечественной.
Часть восьмая
Имел ли место комиссарский заговор на подводной лодке «Л-3» в боевом походе в августе 42-го года? Я думаю, да. Об этом оставил «в наследство» свой устный рассказ участник событий писатель Александр Зонин. Поникаровский (полный адмирал и президент фонда 300-летия русского флота) желает уличить меня во лжи и пишет в газете «Труд»: «...узнал Стрижак от писателя Алексанра Зонина. Чушь полнейшая». Согласен. Чушь полнейшая, ибо сочинил её адмирал Поникаровский. У меня написано другое: «...Обо всем этом, со слов Александра Зонина, мне рассказал человек, которому я верю безусловно» («Вечерний Петербург», 1995, 24 октября, с. 3).
Другие адмиралы требуют от меня назвать имя рассказчика. Ну, применительно ко мне слово "требую" не вполне уместно. А назвать имя... После моей публикации этот человек напрочь отрекся от своих слов. Честь морского офицера, гордость русского литератора – всё оказалось шелухой пустой. Он испугался. Чем сильней он волнуется, тем несчастней заикается. Когда он говорил мне в телефон простейшую фразу: "я не знаю, где ты взял такие фактьг", – он волновался так, что на эту фразу ушло больше минуты.
Чего он испугался? Его воинскую пенсию у него никто не отберет. Видимо, причина в том, что адмиралы допустили его к юбилейной кормушке, и они же могут от кормушки отлучить. Забавно. Всю жизнь этот человек вечерами у себя на кухне чувствовал себя инакомыслящим, утверждал свою причастность к настоящей культуре. А представилась ему возможность, один раз, явить порядочность, и выяснилось, что родня ему Поникаровский.
Слух о его поступке (я не видел причин делать из этого тайну) разошелся по "литературному Петербургу". И в редакцию "Вечёрки" (без всяких просьб с моей стороны) пришло подробное письмо от Ленинградского, Петербургского писателя Кирилла Голованова.
Кирилл Голованов – прозаик, историк флота, в прошлом морской офицер, участник Великой Отечественной войны. Я приведу выдержку из его письма:
"...История, которая опубликована в пятой и шестой главах очерка Олега Стрижака была изложена автору и мне весной 1982 или 1983 года. Дело происходило на кухне квартиры на Новочеркасском проспекте, в тесной компании трех литераторов. Мне запомнился этот эпизод еще и потому, что я тоже полностью доверял рассказчику, который не только ссылался на Александра Ильича (Зонина– О. С.), он гордился мужественными и честными поступками покойного писателя в тех непростых обстоятельствах...
Р. S. Для сведения редакции. Речь идет о..."
Здесь я обрываю цитату, дальнейшее – "для сведения редакции". А я называть имя – не хочу. Пусть бывший мой знакомый "крутится" в кругу своих новых друзей.
Чтобы нашлись документы по этой теме, нужно время и желание многих людей. Пока что: взглянем, что нам говорит разрешенная цензурой литература. Необычайно интересное умолчание содержится в очерке В. А. Полещука в историческом сборнике "Краснознаменный Балтийский флот..." (1973). На сс. 250-261 бывший комдив подплава Полещук говорит о деятельности подводных лодок КБФ в 42-м году. Как положено, называется подводная лодка, затем её командир, затем комиссар. Таков железный закон исторического очерка.
"Подводная лодка "Щ-308" под командованием капитан-лейтенанта Л. Н. Костылева и военкома старшего политрука А. И. Кольского..." – именно "под командованием" военкома. Единоначалия на кораблях еще не было, только двоевластие. "...Подводная лодка "С-13" под командованием капитан-лейтенанта П. П. Маланченко и военкома старшего политрука А. К. Соловьева..." Так говорится абсолютно о каждой лодке. Единственная лодка, комиссар которой не упоминается вообще,– "Л-3" Петра Грищенко.
Имя комиссара "Л-3" вычеркнуто из официальной Cоветской истории. Таким образом поступали с именами изменников и лиц, которые были репрессированы и не реабилитированы. Записки А. Зонина о боевом плавании на "Л-3" в первый раз издавались еще в войну. Грищенко подчеркивает, что в послевоенных изданиях Зонин ничего в "Страницах дневника" не менял («Соль службы», с. 242). Возьмем издание «Страниц...» 1981 года, в сборнике «Писатели Балтики рассказывают...» М., «Сов. пис.». Имени комиссара «Л-3» мы здесь опять не найдем. То есть, у Зонина написано: «Становлюсь в строй рядом со старшим политруком Хорватовым», и к фамилии дана сноска: «Фамилия изменена» (с. 203).
Занятно. У всего экипажа – истинные имена, а фамилия комиссара, политического бога, почему-то вымышлена. Занятно и то, что о комиссаре с вымышленной фамилией Зонин практически не упоминает. Краснофлотец сочиняет стихи, "заказанные Мефодием Хорватовым по случаю начавшегося возвращения в базу" (с. 224), и некий «бедный Мефодий» очень боится мин (с. 233).
Больше о "Мефодии Хорватове" у Зонина не говорится.
Но можно уловить неясную фигуру комиссара ещё раз. Зонин пишет, что "кто-то" сфотографировал его, Крона и Азарова на палубе лодки "Л-3" (с. 202). Снимок этот известен, он публиковался. И Грищенко пишет («Соль службы», с. 136), что Зонина, Крона и Азарова сфотографировал на палубе «Л-3» его комиссар, старший политрук Михаил Федорович Долматов.
Долматов – Хорватов, есть созвучие. Михаил Федорович – Мефодий. Зонин не мог назвать имя комиссара, но означил его таким псевдонимом, чтобы каждый подводник понял, о ком речь. "Кто-то", "бедный Мефодий" – это намеренная грубость, издевка. В том, что комиссар заказывает стихи "по случаю возвращения в базу", мне видится злая шутка, понятная посвященным. Грищенко рассекретил имя комиссара – изъятое, вычеркнутое из истории Балтфлота. Зачем Грищенко это сделал? Я думаю, чтобы ввести имя Долматова в исторический оборот. Есть имя – значит, есть предмет разговора.
О первом комиссаре лодки "Л-3" А. И. Баканове Грищенко пишет много и с уважением. Баканов – настоящий боевой друг Грищенко. Имя Долматова Грищенко "упоминает". Таинственный раз («Соль службы», с. 141) Грищенко рисует нам комиссара «в деле». Долматов важно объясняет матросам: в том, что лопнула крышка цилиндра дизеля, виноват не завод, а «обстановка похода». Боцман тут же красочно развивает комиссарский тезис: завод испытывает дизеля для подлодок в лаборатории, где все в белых халатах, а девушки с маникюром. Комиссар выглядит, мягко говоря, глуповато.
А в книге "Схватка под водой" («Молодая гвардия». М, 1983, с. 93) Грищенко добавляет одну загадочную фразу: новые, научные методы торпедной стрельбы «вызвали „бурю возмущения“ нашего Долматова».
В чем дело? Ответ мы найдем в письме Поникаровского в "Вечерний Петербург": Долматов в полнтдонесении обвинил Грищенко в трусости (!) – за то. что Грищенко стрелял залпами, а не по одной торпеде. Очень интересно. В той же "Схватке..." Грищенко цитирует воспоминания писателя А. Штейна: "...в стратегии Грищенко преобладали расчет, неторопливость, осторожность. Кое-кто на флоте, да и на лодке, кажется, эту осторожность склонен был считать за трусость, ну, скажем, робость..." (сс. 211-212).
В такой литературе каждое слово взвешено, обдумано, а затем обкатано, как галька, редакторами и цензорами. Слово "трусость" в военную пору – очень сильное обвинение. Здесь уже веет трибуналом. "Кое-кто на флоте" означает – командную верхушку, штаб флота, Военный совет. Если б трусость Грищенко обсуждалась уровнем ниже, Штейн написал бы: "на бригаде подплава". "Кое-кто на лодке" – указание в сторону комиссара и части командного состава лодки... Страсти эти не улеглись и теперь, 54 года спустя. В "Вечерний Петербург" пришло письмо от ветерана-подводника А. Жечуняева, написанное им "по поручению" бывших подчиненных Травкина. Жечуняев винит меня в клевете, а Грищенко – в трусости (!). Что-то очень нехорошее произошло на лодке "Л-3" в августе 42-го, если по возвращении из похода комиссар Долматов развел такой шум.
Проф. каперанг Мрыкин, желая опровергнуть легенду, занимается зряшным делом: он цепляется к "мелочам". Проф. Мрыкин пишет, что Грищенко не мог арестовать заговорщиков и запереть их в каюте, потому что на "Л-3" были две каюты, а размер этих кают не позволял поместить туда больше двух человек. Увы, это не так. Грищенко («Соль службы», с. 58) пишет, что на лодке были три каюты, и размер их два метра на полтора (замечу от себя, что если нужно, трех человек можно запереть и в телефонной будке).
Проф. Мрыкин пишет, что при стоянке на Лавенсари лодки к пирсу не подходили. Может быть. У меня другие сведения. В дневнике парторга "Л-3" мичмана Сидорова записано: "9 сентября. В 1.30 подошли к пирсу. На лодку пришел командир дивизиона капитан 2-го ранга Полещук..." (Там же, с. 165).
Зонин в дневнике от 9 сентября пишет: "Надо ли рассказывать, как мы валялись в пожухлой сырой траве, шаркали подошвами по земле..." («Писатели Балтики...», с. 234).
Известный флоту катерник И. П. Чернышев говорит в воспоминаниях, как он встречал "Л-3": "Вскоре мы на причале обнимали наших друзей – подводников... кто-то сильно потянул меня за рукав. Я обернулся – это Зонин. Он похлопал меня по плечу, буркнул "Спасибо!" и пошел прочь – на остров, в лес" (Там же, с, 417).
Проф. Мрыкин пишет: "Отделения "смерш" на о. Лавенсари не было до конца 1943 г.". Не знаю. На острове Лавенсари летом 42-го была база подводных лодок, торпедных катеров и катеров ОВРа. В мае 42-го гарнизоны островов Лавенсари и Сескар были объединены в Островную укрепленную позицию КБФ, в состав которой вошли дна отдельных артиллерийских дивизиона и артдивизион 4-й отдельной бригады морской пехоты, танковая рота, в июне на Лавенсари был сформирован отдельный стрелковый полк морской пехоты, насчитывающий более 3 тысяч бойцов (см.: «Боевая летопись...», с. 173).
Лавенсари в 42-м был самой западной Cоветской землей, не занятой врагом. И уж земляночка особистов там наверняка имелась. И не всё ли равно, на Лавенсари или в Кронштадте побежали заговорщики в "смерш" строчить доносы на Грищенко... Крутить эту историю нужно, начиная не от "мелочей". Примечательно, что когда на рассвете 10 сентября 42-го года подводная лодка "Л-3" подошла к причалу в Кронштадте (низкое хмурое небо, мгла рассвета, тяжелый дождь, на пирсе медь оркестра, сотни встречающих, командующий и члены Военного совета КБФ, председатель Ленгорисполкома...), встречавшие не увидели на мостике лодки её комиссара. Александр Штейн пишет, что рядом с Грищенко стояли его помощник Коновалов и Зонин (Там же, с. 363).
И Зонин, и Грищенко много и очень хорошо пишут о старшине торпедистов, мичмане Сергее Ивановиче Сидорове, парторге лодки ''Л-3". Видно, что он – настоящий трудяга, из тех, на ком "мир держится". Из Ярославских крестьян, с 28-го года во флоте, с 35-го бессменный парторг подводного минного заградителя. Грищенко (см.: «Соль службы», сс. 158-167) приводит обширные выдержки из дневника парторга, который вел мичман Сидоров в том походе. Грищенко цитирует дневник парторга страницами. Записи идут подряд, изо дня в день. И поневоле задумываешься: из дневника явствует, что всю (!) обильную и утомительную партийно-политическую работу в боевом походе вел парторг мичман Сидоров. Грищенко замечает, что теперь уже непонятно, когда Сидоров отдыхал, ведь свою вахту он нес наравне с другими.
А что же делал комиссар?
Неизвестно. В дневнике парторга работа комиссара за 31 сутки похода не упоминается вообще. Правда, Грищенко цитирует не весь дневник парторга лодки мичмана Сидорова. Грищенко обрывает цитирование после записи от 15 августа, и вновь цитирует дневник подряд, начиная с 1 сентября 42-го года.
Сличая опубликованные (разрешенные военной и политической цензурой) страницы дневника Зонина и воспоминания Грищенко, написанные на основе неизвестного нам дневника, который вел Грищенко на лодке, чувствуешь, что "критический час" боевого плавания приходится где-то на 27 августа, или в ночь на 28-е. Очень трудный поход Грищенко на "Л-3" был в октябре – ноябре 42-го. "Л-3" тогда попала под таранный удар немецкого эсминца, чудом (!) и благодаря умнице механику Крастелеву не погибла, поднятый 11-метровый перископ был загнут вбок. От удара нижней части перископа Грищенко рухнул с пробитым черепом, обливаясь кровью, без сознания (всю жизнь после этого его мучили тяжелейшие головные боли, но поскольку факт ранения не был почему-то занесен в вахтенный журнал, то формально – боевого ранения не было, и права на пенсию инвалида войны Грищенко не имел...).
Но поход в августе – сентябре 42-го Грищенко называет "немыслимым" (Там же, с. 166).
Восьмая глава в книге "Соль службы" (с. 139) начинается в очень тяжелой интонации:
"Вряд ли кто в западне способен размышлять спокойно. А мы – в западне. Да еще под самым носом у гитлеровцев. Шесть часов утра. Я лежу на койке в своей каюте, в беспокойной полудремоте. Напротив меня, на левом борту, в кают-компании, сидит за столом военный корреспондент – писатель Зонин. Ему тоже не спится, черкает что-то в блокноте. Сочувствую ему: легко ли "переварить" сразу столько впечатлений – недавняя наша атака танкера, непостижимый прорыв мощных минных заграждений. Да еще эта, неожиданно свалившаяся на нас беда. Кто сегодня спит на корабле! Нам снова не повезло: лопнула крышка цилиндра правого дизеля, и мы вынуждены лечь на грунт, чтобы сменить ее..."
Мне чудится, что эти строки взяты прямо из дневника, который Грищенко вел на лодке. Звучат – чувства, и ведь далеко не всё (военное время!) в дневник можно записать.
Итак: "...мы – в западне". И не просто в западне: "...да еще под самым носом у гитлеровцев". То есть, получается, что западня – как бы не имеет отношения к военному противнику. Ночь на исходе. Лодка лежит на грунте. Командир в беспокойной полудремоте. Ему бы поспать – но дверь каютки он почему-то держит открытой. Ему нужно видеть, что происходит во втором отсеке (где каюты, пост штурмана и кают-компания, она же – жилой отсек комсостава). За столом сидит Зонин, тоже не спит. "...Да еще эта, неожиданно свалившаяся на нас беда. Кто сегодня спит на корабле!"
Из текста будто бы следует, что "неожиданно свалившаяся на нас беда" – относится к лопнувшей крышке дизеля.
А из дневника Зонина явствует, что это не было "неожиданной бедой". Крышка дизеля дала трещину минимум суток за двое до трагической ночи, и все офицеры, в том числе и механик Михаил Андроникович Крастелев, отнеслись к аварии хладнокровно:
"...О правом дизеле особо толкуют, потому что крышка с трещиной, под нагрузкой (в надводном положении.– О. С.) он дымит вовсю и выдает нас".
Это запись от 28 августа. 29 августа Зонин пишет:
"...Хотел было Михаил Андроникович менять крышку дизеля, но отложил до следующего погружения" ("Писатели Балтики " сс. 216, 217).
Можно предположить, что "неожиданно свалившаяся на нас беда" к дизелю не относится. 28-го августа, от 5 часов до 9 часов утра лодка форсировала минное заграждение. Около 9 часов утра уклонились от эсминцев и сторожевиков, которые сбрасывали глубинные бомбы. Дальше начался спокойный ход под водой. В течение 17 часов – ни минных заграждений, ни вражеских кораблей. А Зонин во втором часу утра 29 августа записывает: "Тяжелая обстановка, от нее и душевная вялость..."
И в следующей фразе:
"Хотел было Михаил Андроникович менять крышку дизеля, но отложил до следующего погружения". То есть: не до дизеля сейчас, в тяжелой душевной обстановке, можно и ещё раз всплыть с дымящим правым дизелем. Значит – слова "неожиданно свалившаяся беда", "мы в западне", "тяжелая обстановка, от нее и душевная вялость" говорят не о трещине в крышке цилиндра.
Грищенко записывает о Зонине: "сочувствую ему: легко ли "переварить" сразу столько впечатлений..."
Зонин 29 августа записывает, что Грищенко "угрюм", "криво усмехается"...
Что же у них там случилось, 27-го или в ночь на 28 августа 42-го года?