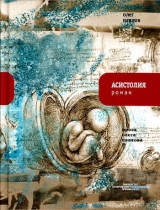
Текст книги "Асистолия"
Автор книги: Олег Павлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Должен был задержать, остановить, ведь истекают минуты, минуты последние – а потом она исчезнет, как в детской придурошной сказке, когда с боем часов теряло силу волшебство и все исчезало, карета превращалась обратно в тыкву, запряженные в нее кони разбегались крысами… Именно этот день, то есть проведенные с ней несколько часов, зарядили его вдруг таким отчаяньем, когда представилось: каждый раз на этих станциях метро он уже ее терял и мог больше никогда не увидеть, если бы не пришла, просто забыв, что-то перепутав… Или если бы он – если бы опоздал, застряв где-то в этом огромном городе, то она бы, ничего не узнав, ушла. Все их встречи до сих пор – это случайность! Но теперь для него в этом заключалось самое страшное, что зависело лишь от случайности, такой же, как тогда, в проклятом хаосе туполобых голубых вагончиков: встретить – или потерять. Он попал в сказку, замурован в чудовищном сне, где теряешь все, проснувшись… Только этой волшебницей была она сама… Только там, в сказке, принцу досталась хотя бы туфелька, чтобы мог искать, найти… Он-то кого и где будет искать? Метро, вагон – и кончено! Вот что она и дает понять: все кончится, все кончится… Уже хотела сказать, вот сейчас скажет ему это. Каждый раз хотела – но еще не смогла, но ведь это же не игра, не игра!
Усталость встреч, даже этих, почти обреченность – оборванных, загробных. Музей, кладбище, монастырь… Нет, из музея в монастырь, а потом на кладбище было бы даже более жизненно. Все, что обходят стороной счастливые люди, минуя еще, наверное, больницы, морги, тюрьмы… Вспышка – и он вспомнил, что летом ездили на практику в Загорск, это был всего один день, но очень долгий, может быть, самый долгий. Музей, монастырь, могилы у церквей… Все это, но за один день, уже пронеслось когда-то перед глазами, только и забытое, чтобы вспомнил теперь. Вспомнил нервное радостное возбуждение, которое охватило всех, как будто лишь потому, что никто их не провожал… Вспомнил, как стало далеким время и его не замечали, сразу же о нем забыв в обыкновенной подмосковной электричке… Вспомнил – и остановился у входа в метро. На ней черное велюровое пальто. Тонкое, будто вырезали из бумаги – кажется, порвется. Он стоит прямо перед ней – и он выше ростом. Кажется, она злится, потому что не хочет, чтобы кто-то так смотрел на нее, сверху вниз.
“Ну зачем это… Мне же холодно. Холодно. Ваша мама уже, наверное, волнуется… Хотите, чтобы я вас пожалела?..”.
Она ищет всего лишь какое-то слово, чтобы освободить себя от этого человека и броситься в гулкую пропасть подземки.
Голос его дрожал, даже срывался… Дала себя уговорить. Только не в эти выходные – она свободна в следующую субботу. Упросил, как в последний раз, поехать… поехать, в общем, неведомо куда, в Загорск, смотреть древние иконы, потому что далеко, назвав все “экскурсией”, боясь сказать об этом как-то иначе… Даже мысли о целом дне с ней жгли страстью. День, которым он будет владеть, который проживут вместе. И она согласилась, обещала, отдала!
Отпустив, но не чувствуя, что расстался, – думая о ней, как будто даже ради нее, он покорил в общем-то бессмысленную дистанцию от “Кропоткинской” до самого сердца своей великой необъятной Родины и, счастливый, одинокий, свободный, надышавшись какого-то такого воздуха, снизошел наконец-то в метро. Он действительно перепугал мать, с порога сообщив, что принял решение жениться. Подумала, опять пьян. И хоть приходит мрачный, если выпил, впервые где-то развеселился. Испугалась, поняв, что трезв. Ей стало очень страшно – и потому, что это вдруг случилось, и потому, что еще не видела сына таким счастливым. В груди что-то резко, больно сжалось. Успокоило хоть как-то, не растворив, но разбавив теплом эту боль, понимание, что он здесь, он вернулся, и все же как потерянный ждет, чтобы она объяснила ему, где он, что с ним, как это случилось. Алла Ивановна никак не ожидала, что была так прямо знакома с избранницей своего сына. Но, узнав, с кем он, оказалось, встречался, даже не удивилась, уверенная почему-то, что именно она познакомила их, сделав этот выбор, будто счастье сына и было в ее руках. И, не сомневаясь в его правильности, пришла к выводу, что ее сын влюблен. Потом, думая, что внушала веру, нисколько не усомнилась ни в чем глубоко за полночь, когда принят был наконец целый план будущей жизни. Их… Его… Ее… Все, чудилось, для того и смешалось, чтобы возникла на пустоте эта как бы мечта. Ее не смущало, что та, которой отводилась чуть ли не главная роль, ничего не знала об этом, что не состоялось еще само признание в любви – но как раз увлекало и взволновало глубоко, что все было впереди, впереди! Светло, даже безрассудно, она верила в будущее, смотрела в даль, где зажигались яркие праздничные огни – и не видела ничего другого, кроме праздника, счастья, огней. Непонятно к кому, поэтому вроде бы лишенной смысла, будто бы ко всем людям. Достаточно было искры. Кухня воспарила в сигаретном дыму. Чувство вспыхнуло не одно, их возник целый рой – и все устремились в будущее, то есть ввысь, именно улетучиваясь, как эти выдыхаемые душные облачка. Он уснул, больше не вытерпев, пьяный своим счастьем и не понимая, в каком часу – а проснувшись, обнаружил с отвращением к самому себе, что молчит, и все потом делал молча: молча встал, молча натянул на себя что-то, что валялось тут же, под рукой… Смолчал и не тронул завтрак, оставленный матерью на кухне, увидев кругляшки вареной колбасы, что околели на хлебе, который сам уже очерствел. Голод все же заставил отпить чай – сладкий, давно охладевший, будто бы грязный. Но во рту запеклась приторная сладость – и, совсем потеряв вкус к жизни, как утратил этот чай свой, повалился на расхристанную сном кровать, решив, что никуда не пойдет, ничего не хочет, только курил, уставившись в пустой экран телевизора. Отравленный чем-то, больной. Нет, ничего не приснилось – мучила эта явь, серая и тоскливая.
Столько терпеть, жить, а они, эти дни, будут тянуться, тащиться, ползти до конца – до субботы. И ничего уже нельзя поменять до субботы. До субботы она не свободна, то есть нет же, свободна! И он свободен, свободен!
Эти дни текут сном у телеэкрана. Шел спектакль, нудный, черно-белый, точно сам же из прошлой эпохи, лишь это могло запомниться – серый цвет, дворянская усадьба и как будто старый театр теней. Вдруг пронзила, заставив очнуться, чья-то реплика: “Никто вас не будет любить так, как я!”. И он быстро повторил: “Никто вас не будет любить так, как я…”. Твердил, заучивал судорожно, начиная от волнения путаться: “Вас не будут любить…”, “Никто не будет вас…”. Но потом произносил с достоинством уже без запинки, успокоился… “Никто вас не будет любить так, как я…”, “Никто вас не будет любить так, как я…”, “Никто вас не будет любить так, как я…”. Какой спектакль, чем он кончился – узнать было поздно. По телевизору шло уже что-то спортивное, какой-то чемпионат.
Проснулся в субботу. Казалось, теплокровная плотная пелена сна разорвалась, не выдержав всего, что переполнило душу. Только и сознавая, что дождался, он ликовал… Но даже то, что можно было увидеть за окном, представляло собой холодный мрак, в котором среди дождя голодно рыскал ветер. Всю ночь, пока он спал, умирала осень: а утром готов был промозглый свинцовый гроб и только воздух еще содрогался, еще угасал, будто ее последнее дыхание.
Все же он вскочил, начал энергично собираться, как человек, который на что-то решился. И за час до времени, которое опередил, очутился на Ярославском вокзале, в сутолоке у пригородных касс, ничего не узнавая, не понимая – там, где сразу же потерялся… И конечно, понял тут же, какой это было ошибкой: в это время, в этом месте с кем-то встречаться, кого-то ждать… Встречались ведь до этого в метро – подумал, здесь, на “Комсомольской”, набитой битком, запутаешься на каждом шагу в этих трех вокзалах. А вспомнилось – свободный, в легких солнечных пустотах, зал, где они, студенты, покупают маленькие билетики в недальнее странствие. Но это было летом. Когда, наверное, с утра пораньше, в будни, только солнышко и каталось по Московской области в электричках – а теперь, сбившись у касс, никак не мог растащить себя какой-то угрюмый и тяжелый пассажирский народ. Казалось, что все в очередях пытались успеть на одну и ту же, до отправления которой остаются считаные минуты, но стояли, народ не убывал, будто минуты отсчитывали часы с циферблатом без стрелок. На выходе тоже толпились – боялись дождя; собирались и молчали – стояли, ждали. Он один, застряв в центре зала, нес свое дежурство, и обступали его со всех сторон, как препятствие, то есть почти как труп. Зал был одет стеклом – и поэтому похож на аквариум, но все мокло и плыло именно по ту сторону, где у вокзала мелькали, как пятна, люди, будто бы в уже размытой дали. И ему вдруг почудилось, что больше нечего ждать. Назначил самому себе свидание с самим собой. Он остался один, потерявшись, давно никого не дождался, они не встретились, как могло быть, даже если бы она пришла – и, не найдя его здесь, ушла… Разве что еще осталось время, ненужное. Он сам, никому не нужный, даже себе. Бесполезные деньги на ненужные билеты. Да и куда в такую погоду, в какой Загорск – это было понятно с самого начала… Куда вообще, идти куда, если некуда – и льет, льет этот дождь… Почему-то он даже не думал об этом: куда же пойти, если встретятся… Загорск отменялся, да и все отменялось. А что же, что же… Ну, и что. Здравствуй, вокзал! Можно в электричку и куда подальше, чтобы куда-нибудь в такой же задолбанный городишко, на краю, в любой, и ехать, ехать в тепле, с людьми – а потом обратно, в Москву, с людьми, в тепле, домой… Никогда не катался на электричках. Наверное, романтично могло бы получиться, еще один фокус: круиз на электричке… На этой мысли он забыл, зачем вообще об этом думал… Он встал в очередь, чтобы хоть что-то сделать. Потом, когда прибило к этому окошку и нужно было что-то очень быстро решить, назвал станцию: Загорск… Он сделал это, думая, что посмеялся… Два билета… Туда и обратно… Как если бы в никуда и обратно отправились с этими билетами никто и ничто…
Но она пришла, появилась. Ее переполняло непонятное ему счастье. Так бывают счастливы провожающие, успев к поезду, когда им почему-то кажется, что успели встретиться, – а не к расставанию. Утренняя ясность, свежесть во всем – в летящих движениях, легкости, похожей на беззаботность. Казалось, она просто не заметила или даже не осознала, что с утра лил дождь, дул сильный ветер. Или там, откуда она спустилась на землю, было вечное лето. Но в руках зонтик – как и у него, будто бы так и договорились узнать друг друга при встрече.
“Едем?” – улыбнулась, вот и все.
Он столько времени не видел ее, столько времени – а это прозвучало почти как соседское “здрасьте”… Будто были все это время где-то очень близко, в сущности, жили рядом.
“Куда же…” – хотел сказать про дождь и ветер, все это ненастье.
“Куда ты хотел. По-моему, в Загорск?”.
Он почувствовал что-то еще, но не понимал, что это было: что же она ему сказала, отчего он вздрогнул, будто и коснулась рукой… Ты, ты… Она сказала ему: “Куда ты хотел…”. И в этом почудилась ему нежность, доверие самого родного прикосновения…
Пучились паруса зонтов, под ними исчезали человечки.
Шли как по воде… Зонты – его и ее. Раскрылись, спрятали внутри.
Перроны – пристани.
Электрички – корабли.
Рельсы – шпалы – волны – пути – реки.
Можно подумать, знакомятся. Деликатность, щепетильность, тонкость. Они сидят напротив друг друга, в тесноте с другими. Зонтики в руках, вымокшие, похожие на тряпки, больше ничего.
Долго. Далеко. Электричка тоскует, подвывая. Побольше бы остановок скопить, минуток этих – так устала. Коротки, только сердце и успевает заглохнуть – а оно у ней есть, свое, нагруженное и, кажется, больное. Но рывок, усилие, еще одно – вытягивает всю себя заунывно в даль. Едва лишь тронулась, а платформы из бетона, что как помосты казнящие, уже пусты. Никто не попрощался, никого не встретили. Окно в слезинках дождя, плачет – там, за мутным глухим стеклом. Плачет – и все родное. Теряется из вида, но не кончается, длится. Мелькнут люди… Потянутся полосой поля, леса, поселки… Уплывает родное, неведомо куда – уплывают они, родные, в Загорск. Прошлым летом в Загорске – так он говорил, когда рассказывал ей о своей летней практике… Пыльный городок. Дремлет. Тепло, светло, тихо, пусто. Простая скука, ничего достопримечательного, кроме этого древнего монастыря. К нему и вела одна дорога, прямо от станции. Но было весело по ней идти, все равно что насмехаясь над окружающим убожеством. Принудительное знакомство с древнерусским искусством закончилось для студентов-практикантов тоже весело, пьянкой в электричке, когда ехали обратно, в Москву. Теперь это какое-то лето и можно сказать, ничего не испытав, даже вспоминая – прошлое. Но было странно подумать, что когда-нибудь кто-то из них скажет: прошлой осенью в Загорске… Хоть они еще и не доехали – проезжали Мытищи, Пушкино, Софрино… Вот и все.
Это было осенью… Тот безбожный, вполовину деревянный городишко, отсырев, пропах гнилью, провалился в промозглое небо, как в яму. Пропал. Но это не погода украла его у жизни, у людей. Что-то пришло и все переменило, как приходила когда-то чума.
Разлетались на ветру сорванные листья, гремел мусор. День, темнее ночи, что выпал как мутный, отравленный осадок. Длиннее ночи. Но в котором будто и осталось времени – до ее конца.
Все закрыто, ничего не работает, как ночью. Не ходят автобусы, как ночью.
Сортир, бензин, бойня, пивная – почуешь это в воздухе, но как чует, наверное, зверь. И склизкая загаженная станция, и улицы, облитые грязью, вымерли… нет, еще вымирали, по человеку.
Попадались испитые мертвецы; подошел, попросил дать ему копеек, пришла чума, а пьяница давно сожрал свой пир, ходит, никак ни уйдет, ищет, что пожрать. Шатались, ничего и никого не боясь, пьяные солдаты, похожие на сумасшедших, голодных, злых, искавших себе еду; приставали – но отпустили, выклянчив несколько сигарет. Еще видели истощенного старика, что еле передвигал ноги, опираясь на лыжную палку, которую вонзал в грязь будто копье, тяжело выдирая назад, к себе, – как будто забрел с небес Дон Кихот. В какой-то очереди что-то стерегли с тоскливой злобой в глазах бедные одутловатые бабы. И куда-то исчезли – будто их съели – милиционеры, дети школьного возраста, семейные пары, красивые или просто молодые здоровые лица. Те несколько одичавших подростков, которых они встретили на дороге, чудилось, искали, кого бы ограбить и убить; они-то и шли за ними до самого монастыря – не сближаясь, но и не отставая, то орали издевательским смехом, то страшно выли матом. Но все же не нападая. Похоже, развлекались так. Хотели пугать собой – и смотреть.
Сидя, будто на привязи, у ворот монастыря, лаяла, наверное, настоящая сумасшедшая старуха: “Мяса хочу! Дайте мяса!”.
Она всего-то на миг успокоилась, когда одна, такая же нищая старуха, не выдержав, крикнула в ее сторону: “Хватит жрать!”.
Только читая до этого в книгах – у Диккенса, у Достоевского, первый раз в жизни он видел, когда просят подаяния: у всех на глазах. Это ведь был музей, памятник истории, так он думал, не понимая, что делали тут странные люди, когда кланялись его входу – и накладывали на себя одну руку, точно бы что-то запечатывая где-то в груди крест-накрест. Странные, другие. Шли поодиночке. Все они тоже казались больными, голодными. И он сам, вспомнив, что ничего не ел, начал думать о еде, когда бродили среди запертых наглухо немых строений, зданий, тюремных по виду, даже с решетками на окнах, долго не находя хоть одной открытой двери: музей не работал, нигде не горел свет. Вдруг… Оконца теплятся. И не свет – алое свечение… Слышно гул, поющий. Маленькая, похожая на печь… Отсвет огня, будто прогорают в печи поленья. Узкий сумрачный проход. Пахло каким-то сладковатым дымом. Кажется, это пещера глубокая. Душное тепло. Головы, головы… Толща людей…Там, куда устремлены все взгляды, полыхают золотом царские сказочные врата… Люди пели на непонятном языке. Со стен стекали небеса… Свечи, капе€ль огней. Лики пламенели на иконах. И голоса сгорали, как свечи. Но будто не хватало воздуха, как под водой, чтобы дышать. Он не смог вынести, выдержать, задохнулся. Но это был уже не страх. Трепет, ужас. То, что успел пережить, как ребенок, пока душа не переполнилась, вытолкнув, чтобы жил, наружу. Саша… И опять ужас от мысли, что осталась в той толпе… Саша, оказалось, вышла сразу же за ним, она испугалась за него… Она что-то ему говорила… Что это церковь… Что это молятся… И он слышал ее, даже понимал, так как знал такие слова – но не мог осознать, что же увидел. Некуда было идти, только обратно, на станцию. Еще поднялись на стены монастыря – и увидели с их высоты весь этот городишко… как будто в последний раз. Если бы можно было тут же, как птицам, улететь… Но, бессильный, мог лишь думать, что больше никогда сюда не сунется, никогда, никогда… Все тот же сон… Однажды такой вот осенью маленькая девочка, что гуляла сама по себе во дворе, когда и он не хотел идти домой, научила его делать паутинки из опавших листьев: отделяя их кожицу до самых маленьких прожилок, отчего становились похожи на скелетики. Он вспомнил об этом… Там, внизу. Это был городской парк или просто сквер, запущенный, замусоренный листвой. Он поднял с земли умерший лист – и сделал из него паутинку. “Никто вас не будет любить так, как я…”. Целовал… Наверное, через каждые шагов двадцать, не в силах ничего с собой сделать – терпеть, ждать, думать о чем-то другом – обнимал, целовал… Глаза, губы, щеки, шею, руки – все, что было оголено. А она – все позволяла, обмякла в его руках, будто спала, и все это было сном. Только шептала одно и то же: “Хороший мой…”. Скулы его сводила дрожь, и потому, что не давались слова – вырывался смех. Он смеялся над болью, смертью, воображая, что выкрикивает одно лишь слово… всему этому миру и его бреду. Пусть он будет страдать, умирать, рождаться, страдать, умирать – но никто, слышите, никто!
На станции голод завел их в стекляшку, там даже не пахло едой, но что-то жевали, ели… Стояли, как лошади, жевали в тепле. Пьянь, рвань, дрянь. За стойкой взирала на все баба – огромная, сильная, как бы даже надзирала, продавая замутненный кипяток по пятаку, будто простое тепло. Тут же усмирила кого-то. Наверное, чтобы покрасоваться. Дав по шее кулачищем какому-то пьяному – и выгнав за что-то вон. Может, просто надоел. И народец пропитой присмирел. Такие, как она, наверное, обожают слово “ассортимент”. А летом ее мучили мухи… Летом много тут летало мух, обгадивших даже ценники. На них значились “пельмени отварные”, “сосиски отварные”… Ассортимент.
Наверное, теперь подлавливала на это приезжих от скуки… И стоило произнести “пельмени” – как прихлопнула – “Мухи съели!”.
Кто-то начал жужжать – хлоп!
“Своровать не можешь – покупай!”.
“И это называется у вас чаем, гражданочка?”.
Хлоп!
“Называется, называется – и, гляди, в стакан наливается…”.
“Вы здесь кто есть-то? Как? Унижать простого человека?!”.
Хлоп!
“Простой он, гляди, простой – тогда ходи босой!”.
Возглас пьяненький: “Ох, чайку, да с сахарком!”.
Хлоп!
“Хрен тебе на блюде… А будут талоны, тогда с гондоном!”.
На стене торчит плакат, и только в его сторону смотрит хоть как-то уважительно, может, мерещатся портреты вождей, может, сладко – мужчина там из себя видный, может, сама же повесила, для утешения ума и сердца… “Трезвость – норма жизни!”.
“Во, во, алкаши… Глядите, глядите, какие нормальные из вас могли получиться… Все пропили, гадюки…”.
“Риточка Петровна, согрей, царица… Ну, граммулечку…”.
Хлоп! Хлоп!
“Налей – за пять рублей! Чем в долг давать – милее в рот брать!”.
Тарелки, вилки, стаканчики – одноразовые, пластмассовые.
Тут же бак – для использованных, полный.
Хлоп!
“Убирать за собой надо, товарищ, не в столовой…”.
Собаки спят на полу – нажрались объедков. Никто их не гонит, даже эта баба. Всем все равно.
“А китайцы, я слыхал, собак жрут, пельмени из них делают!”.
Хлоп!
“Сам ты собака и совесть пропил, а это – друзья человека!”.
Порция оладий, кипяток – и мука, жир, вода, соль растворяются в желудочной кислоте так, что хочется спать…
И многие, кто пьяненькие, клюют в тарелки, уже дремлют, будто и пришли сюда не выпивать, а поспать, как за легкой смертью…
Хлоп!
“Cпите, спите, пока бесплатно!”.
Уехать… Скорей… В Москву! В Москву! Но баба расположилась за своей стойкой, будто на первом ряду… Все ей одной видно. Все перед ней, и кто вошел, и кто засобирался… У нее и муха не пролетит… Хлоп! “Москве в жопу – едем на работу!”.
Когда все же вышли, пес увязался за ними – наверное, самый глупый. Вышмыгнул сдуру на холод, сам не зная, для чего это сделал… Поскуливал, заглядывая в глаза, будто и просил нижайше объяснить, только и понимая, что просит у людей. Хотелось, чтобы унялся, отцепился. Но вдруг Саша как будто перестала понимать, что это собака. С ней что-то творилось. Присела на корточки, прилипла к ней, к этой грязной вонючей псине, гладила, говорила нежные слова, порывалась прижать к себе, согреть… Пес взвизгнул и отскочил, как ушибленный, весь сжавшись. Оскалился жалко, пугая, защищаясь. Куда-то шарахнулся – и сразу пропал.
Пустой вагон электрички… Темнота проносится и воет… Мчится, мчится в Москву… Он целует ее, обнимает… Она же прощается, спешит сказать все главное… Приготовилась, ждала… “Я старше вас, вы станете известным художником, я верю – а я совсем другая, обыкновенная, поймите, вы все обо мне придумали, вы полюбите, а это все не нужно, ни вам, ни мне… Вы полюбите, полюбите, я в это верю… свою ровесницу, незаурядную прекрасную девушку, с которой вам будет интересно, которая сделает вас счастливым, поймет вас…”. Он молчал – и она замолчала. Молчали, как будто осталось мало слов и нужно было их беречь. Не выдержав – уснула у него плече. Или притворялась спящей до самой Москвы. Когда открыла глаза, стала отрешенной, чужой. Хозяйка, устала, вернулась с работы – а тут гость пригрелся, то есть он. “Я вас не забуду… Но это ничего не значит”. Прощаясь – прямо на вокзале, целует в щеку, дотягиваясь, почти утыкаясь… Теперь уже он – ни мертвый, ни живой. Все чувствует, все понимает. Вот она с ним прощается… Целует… Гладит по щеке… Так близко она – и так далеко. И будто он кричит, орет ей что-то – но не слышит она, горе у нее.
Только не смогла похоронить… Пришла, через несколько дней. Вечер. Звонок в дверь. Стоит пред ним… Знала, что это должно случиться. Он ждал. И она так долго его ждала. Он стал ее первым мужчиной.
Но не осталась. Хотел поймать такси – отказалась. Проводил до метро – и это все, что позволила. И вот он трепетал, что не раздастся телефонный звонок и что не услышит больше даже ее голоса. Ворох презервативов – тех, что купила мать. Провожая, возвращался один и чувствовал уже не счастье, а тоску. Сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”. И потом она исчезла… И он, совершив невозможное, отыскал, вернул…
Что-то такое же темное, будто предсказание, с детства, когда пропал в земле отец, бродило в его душе. Ребенком он мучился, чувствуя приступы одиночества, страха: стоило подумать, что те, кто забрал отца, придут за ним, и что мама знает об этом, знает: скрывает от него что-то тайное и молчит… Но когда любовь светом и воздухом ворвалась в душу, понимал лишь то, для чего теперь живет… И, обессиленный, но обнимая свою женщину так, будто тело срослось с ее плотью, испытывая блаженство, упоение, судорожно отдышался смешками, слыша весь этот бред… Кто может отнять ее у него, ну что за бред! Нестерпимо хотелось воды, холодной, чтобы погасить не огонь, а жар во всем теле. И хоть изнывало оно от жажды, дрожал в ознобе, предвкушая как бы еще одно возможное, почти райское наслаждение: пить, пить! Но не смел оторвать себя от нее, страшился оторваться… Было это, когда всю ее видел… Было, как еще не было, будто исполнил каждый последнее желание. Для того чтобы раздеться и лечь в одну постель, они ловили те часы, когда Алла Ивановна, могло показаться, понимая это, освобождала квартиру. Остаться на ночь, хоть упрашивал, вообще – остаться после того, как это с ними случилось, Саша отчего-то не могла себе позволить, отказывалась и уезжала в свое общежитие, где уже ему не было места. Пришла – а он больше не мог ее отпустить. Все другие слова отдали себя. Он сказал: “Я хочу, чтобы ты стала моей женой”. Услышал: “А если я умру, ты женишься на другой?”.
И тогда он сказал, как много раз, нарочно, уже шутливо, говорил и потом, зная, что случилось… “Ты будешь жить вечно”.
Все в ней вдруг отвердело, он это чувствовал. В заполненном пустотой молчании, похожая на кончившую позировать натурщицу, Саша встала и закрылась спиной. Минуты, нет, секунды отбивали дробь в стянутых болью висках. Скользнули вверх трусики… Вот лифчик вспорхнул своими лепестками и принял форму захлопнувшихся твердых бутонов. Скомканное, тоже сброшенное прямо на пол любимое платье раскрутилось и тенью заглотило по самое горло, как наживку, свою же теплокровную владычицу… Все, что сняла, отдала, положила, сбросила, переступив порог, совершив весь этот медлительный обряд, похожий на птичий танец, взвинченное какой-то силой, лишь убыстряясь, кинулось куда-то вспять, застывая в бездушно-опустошенных, повторяющихся с точностью до наоборот жестах…
И вдруг время остановилось! Обрушилась тишина! В комнате стало пусто. Почему-то казалось, что исчезли вещи – все ее вещи, и только после этого пропала она сама, так бесследно, как если бы ее даже не существовало; а он, оглохший и немой, бродил голым по своей квартире и что-то искал, пока не разрыдался как ребенок… За что?! Как отыскал, вернул? Это вместо мужа помнила Саша. Знала с его же слов и хранила предание о себе самой… Искал, нашел, среди тысяч и тысяч, увидел ее лицо, но даже не скажешь “увидел”, этого не передать: встретились взгляды, и оно явилось ему одному… Нет, без тени переживаний, хотя бы растерянности… И не радостью или жалостью просияло… В ее глазах увидел он торжество… Торжество… В общем, бессмысленное упоение победой, но не над ним одержанной, а будто бы над судьбой, вызов которой бросила, безжалостная к нему, к самой себе, не задумываясь, зачем же было нужно пройти такое испытание. Это было такое хладнокровие, которое его ужаснуло еще при мысли, что она там, в своем медицинском институте, расчленяет трупы, изучая их анатомическое строение, и это просто учебный предмет, просто какая-то анатомия. Приучила себя – и приучала его. Но что найти ее было почти невозможно – вот что уже никогда не забывалось… Торжество, торжество!
Время притупило все… То, о чем они оба помнили.
Как же мало они хотели: больше не расставаться друг с другом. Это было лишенное уже всякой страсти желание, даже устраняющее ее, страсть: вместе ложиться спать и просыпаться. Только в детстве было так страшно во сне одному. И, казалось, тот же страх, возмужав, наполнился вдруг потребностью любить, быть любимым, а таинство это, когда двое как будто согреваются в телесной тесноте – без него нельзя было ничего почувствовать. Обнявшись, сжавшись в комок, чувствовать – а иначе стать совсем бесчувственным и омертветь. Как мертвело в конце время свиданий, скомканное… Короткие замыкания любви – и чужой порядок, убранная тут же, как вагонная полка, постель. Противное чувство вины – не то, когда стыдятся себя, прячут… У них и не было для этого темноты. Не прятали… Прятались. Мать возвращалась с работы, но к ее приходу они успевали расстаться, пережить это состояние, когда все кончено. Было, заплакал ночью. Ничего не мог. Даже любимой, самой любимой – ей, Саше, был нужен, казалось, другой человек. “И я имею право на существование! Я знаю, что могу быть совсем другим человеком! Какую же пользу могу я принести, чему же могу я служить? Во мне есть нечто, но что?”. Шептал в черной, непроглядной пустоте, но уже умоляюще, как если бы просил… Через несколько дней студенту сообщили в деканате, что его работу отобрали для выставки молодого искусства. Она, такая, была первой. Отбиралось для нее сто, почему-то именно сто молодых со всей страны, но еще из Италии, Польши, Швеции, Финляндии, что делало ее не просто студенческой – открытой, международной, в духе времени.
Саша взволновалась и посерьезнела. Ходили на выставку. Еще и не жена, но держалась так, будто все кругом должны были знать, что это – ее муж, она – его половина. Столько людей, столько картин, пестрый шумный хаос, в котором все, чудилось, лишь терялось, исчезало! Но вдруг: приз! Самый молодой… Интервью… Поздравления… Приглашения… Похожие на свадебки знакомства… Призеров то ли почетно, то ли образцово-показательно принимали в Союз художников – и вот, еще студент, он превратился в самого молодого в истории члена МОСХа! Мир распахнулся, в глаза ударил ослепительный свет. Появился тут же ценитель – не кто-нибудь, американец, купил картинки для своей галереи: все, что до этого времени успел, смог выжать из возбужденного будто бы голодом воображения, чувствуя то радость и легкость, то отчаянье и страх. Торжественное закрытие разгулялось студенческой пьянкой, братался финн с итальянцем, поляк с русским, и в упоении человек сорок горланили: “Горбачев!”, “Перестройка!”, “Гласность!”. Кричали победно уже на разных языках: “Искусство или смерть!”. Кто-то первый выкрикнул – и вот, сбившись в кучу, чувствуя себя последними, кто остался в живых на поле боя, кричали… “Искусство или смерть!”. И он орал, пока не вытянула из всех объятий Саша, увезла, едва стоящего на ногах, домой; и все повторилось, как уже когда-то было. Но теперь он стал тем, кем до этого дня не был, потому что победил!
Вскрыл призовой конверт – а в нем награда. Улетели картинки за океан – получил другой. Мог сказать: “Мне заплатили”. И отчего-то даже подумать не мог: “Я продал”. Но и не думал о них, о деньгах, кружилась голова от ощущения то ли праздника, то ли свободы… Это было мечтой исполнить все желания… Что же отдал, если столько получил, – не успел почувствовать. Деньги остались у него – и казалось, повезло, вытащил счастливый билетик, не отказался, взял.
Тогда и появилась эта квартира – на краю Москвы, без телефона, почти без мебели, съемная. Он спешил найти хоть какую-нибудь… Не потому, что мечтал отдельно жить, нет. Это она, Саша, мучила себя мыслью, будто нужно было иметь какое-то большее, чем даже любовь, право, чтобы жить с ним – не под одной крышей, разумеется, но в доме, который он-то считал своим. Эту ее психологию, раздражаясь, он называл “деревенской”… Будто какая-то поросшая мхом старуха внушала все эти пещерные истины: “пузом вперед не лезь”, “в дом чужой босая не заходи”… Плевать, кто и что подумает… Не было у нее – было у него. Ведь даже эту квартиру – он сам нашел, оплатил, и вот они живут. Он сделал это для себя, для нее, она приняла это – и они счастливы вместе… Ну, и какая разница… Все это, свое – эту квартиру, эту московскую прописку, он способен и должен ей предоставить, а иначе кто он такой, загулявший морячок? Разве можно жить в Москве без прописки? Как на вокзале? Но зачем?! Для чего скитаться по чужим брошеным квартирам, когда есть своя? Что это за принципы такие, выйти замуж и как бы тут же подать на развод? Да и каким другим способом она себе мыслит получить прописку, то есть вообще остаться в Москве? Да что там прописку, хоть без нее даже на работу не примут, но квартиру, жилье? Что, сами заслужим, а пока поживем так, на съемных? Сашенька, сколько это лет, когда же мы ее получим… Как?! Заработаем сами, своим трудом, на кооператив? Ты будешь работать, я буду работать… И мы копить будем полжизни на то, что уже есть у одного из нас… Но это какой справедливости торжество? И поэтому нужно себе устроить все это?








