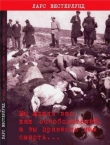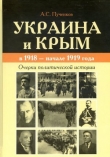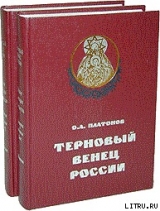
Текст книги "История русского народа в XX веке (Том 1, 2)"
Автор книги: Олег Платонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 49 (всего у книги 154 страниц) [доступный отрывок для чтения: 55 страниц]
«Эти погромы, количеством жертв… превзошли известный погром в Калуше в 1917 году, произведенный революционными солдатами… красные войска не раз порывались расправиться с евреями и во многих случаях это им удавалось; нередки были тогда и невоенные погромы: громили евреев горожане, крестьяне, вернувшиеся с фронта солдаты…»842842 Россия и евреи. Берлин, 1924. С.64.
[Закрыть]
Погромы производились также регулярными войсками так называемой Украинской Народной Республики, руководство которой состояло из леворадикалов и масонов, имевшее в своем составе министра еврея, киевского адвоката А. Марголина. 4 марта 1919 командир Запорожской бригады, расположившейся под Проскуровым, атаман Семесенский отдал приказ истребить все еврейское население города Проскурова. В приказе указывалось, что покоя в стране не будет, пока останется жив хоть один еврей. За один день расстреляли, по разным оценкам, от 3 до 5 тыс. евреев. Антиеврейские выступления наблюдались в 180 населенных пунктах малороссийских губерний. Восставшие истребили от 25 тыс. до 100 тыс. евреев.843843 Дикий А. Указ. соч. С.221-222.
[Закрыть]
Глава 57
Военный коммунизм. – Установление «нового общественного порядка». – Разрушение русской хозяйственной культуры. – Катастрофа в сельском хозяйстве. – От всеобщей трудовой повинности до милитаризации труда. – Отмена денег. – Создание государственных монополий.
Безжалостно разрушая вековой уклад Русского народа, большевистский режим стремится навязать ему космополитические, утопические формы жизни.
Еще задолго до революции российские социалисты разработали умозрительную схему будущего народного хозяйства, отвечавшую их понятиям об идеальном общественном устройстве. В учебнике известного коммуниста А. Богданова «Краткий курс экономической науки», первое издание которого относится к 1897 году, а последнее, пятнадцатое, – к 1924 году, наиболее ярко и систематически изложены космополитические принципы построения социалистического хозяйства, которое, без сомнения, разделялись большинством российских коммунистов. «Тип организации, – излагается в учебнике, – не может быть иным, как централистическим, но не в смысле старого, авторитарного, а в смысле иного, научного централизма. Его центром должно являться гигантское статистическое бюро, на основании точных расчетов распределяющее рабочие силы и средства труда, т.е. вырабатывающее единый хозяйственный план для всей экономической системы». Национальный характер, особенности народной жизни в этой схеме в расчет совсем не принимаются. Хозяйство рассматривается безотносительно к исторически сложившимся хозяйственным связям. Более того, считается, что «масштаб организации с самого начала должен быть мировой или близкий к мировому, чтобы новое общество не зависело в своем производстве и потреблении от обмена со странами, не вошедшими в него…» Движущей силой хозяйственной системы социалисты мыслят не материальные и моральные стимулы, а товарищескую дисциплину, которая, пока общество не воспиталось в духе коллективного труда, включает и принуждение. Общественная собственность на средства производства предполагает общественно-организованное товарищеское распределение на уравнительной основе.
Исчерпывающая картина нового общественного устройства, старательно насаждаемого большевистским режимом, дается Л. Троцким в книге «Терроризм и коммунизм». В приводимом ниже обширном отрывке из этой книги формулируется кредо коммунистических вождей на новый мировой порядок.
«Организация труда, – писал Троцкий, – есть по существу организация нового общества: каждое историческое общество является в основе своей организацией труда. Если каждое прошлое общество было организацией труда в интересах меньшинства… то мы делаем первую в мировой истории попытку организации труда в интересах самого трудящегося большинства. Это, однако, не исключает элемента принуждения во всех его видах, в самых мягких и крайне жестких.
По общему правилу, человек стремится уклониться от труда. Трудолюбие вовсе не прирожденная черта: оно создается экономическим давлением и общественным воспитанием. Можно сказать, что человек есть довольно ленивое животное. На этом его качестве, в сущности, основан в значительной мере человеческий прогресс, потому что если бы человек не стремился экономно расходовать свою силу, не стремился бы за малое количество энергии получать как можно больше продуктов, то не было бы развития техники и общественной культуры… Не нужно, однако, делать отсюда такой вывод, что партия и профессиональные союзы в своей агитации должны проповедовать это качество как нравственный долг. Нет, нет! У нас его и так избыток. Задача же общественных организаций как раз в том, что «леность» вводится в определенные рамки, чтобы ее дисциплинировать, чтобы подстегивать человека…
Ключ к хозяйству – рабочая сила… Казалось бы, ее много. Но где пути к ней? Как ее привлечь к делу? Как ее производственно организовать? Уже при очистке железнодорожного полотна от снежных заносов мы столкнулись с большими затруднениями. Разрешить их путем приобретения рабочей силы на рынке нет никакой возможности при нынешней ничтожной покупательной силе денег, при почти полном отсутствии продуктов обрабатывающей промышленности… Единственным способом привлечения для хозяйственных задач необходимой рабочей силы является проведение трудовой повинности.
Самый принцип трудовой повинности является для коммуниста совершенно бесспорным: «Кто не работает, тот не ест». А так как есть должны все, то все обязаны работать… Наши хозяйственники и с ними вместе профессионально-производственные организации имеют право требовать от своих членов всей той самоотверженности, дисциплины и исполнительности, каких до сих пор требовала только армия… Рабочий не просто торгуется с советским государством, – нет, он повинен государству, всесторонне подчинен ему, ибо это – его государство… Рабочее государство считает себя вправе послать каждого рабочего на то место, где его работа необходима.
Меньшевики выступают… против трудовой повинности. Они отвергают эти методы как «принудительные». Они проповедуют, что трудовая повинность равносильна низкой производительности труда… Это утверждение подводит нас к самому существу вопроса. Ибо дело, как мы видим, идет вовсе не о том, разумно или не разумно объявить тот или другой завод на военном положении, целесообразно ли предоставить военно-революционному трибуналу право карать развращенных рабочих, ворующих столь драгоценные для нас материалы и инструменты или саботирующих работу. Нет, вопрос поставлен меньшевиками гораздо глубже. Утверждая, что принудительный труд всегда малопроизводителен, они тем самым пытаются вырвать почву из-под нашего хозяйственного строительства… Ибо о том, чтобы перешагнуть от буржуазной анархии к социалистическому хозяйству без революционной диктатуры и без принудительных форм организации хозяйства, не может быть и речи… Плановое хозяйство немыслимо без трудовой повинности.
Что свободный труд производительнее принудительного – это совершенно верно по отношению к эпохе перехода от феодального общества к буржуазному. Но надо быть либералом… чтобы увековечить эту истину и переносить ее на эпоху перехода от буржуазного строя к социализму… Весь вопрос в том, кто, над кем и для чего применяет принуждение.
Трудовая повинность имеет принудительный характер, но это вовсе не значит, что она является насилием над рабочим классом. Если бы трудовая повинность натыкалась на противодействие большинства трудящихся, она оказалась бы сорванной и с нею вместе советский строй…
Русский капитализм, в силу своей запоздалости, несамостоятельности и вытекающих отсюда паразитических черт, в гораздо меньшей степени, чем капитализм Европы, успел обучить, технически воспитать и производственно дисциплинировать рабочие массы. Эта задача сейчас целиком ложится на профессиональные организации пролетариата. Хороший инженер, хороший машинист, хороший слесарь должны иметь в Советской Республике такую же известность и славу, какую раньше имели выдающиеся агитаторы, революционные борцы, а в настоящий период – наиболее мужественные и способные командиры и комиссары… Наши трудовые мобилизации не войдут в жизнь, не укоренятся, если мы не захватим за живое все, что есть честного, сознательного, одухотворенного в рабочем классе.
Более глубокие слои… вышедшие из крестьянской толщи… еще слишком бедны инициативой. Чем болен наш русский мужик – это стадностью, отсутствием личности, т.е. тем, что воспело наше реакционное народничество, что восславил Лев Толстой в образе Платона Каратаева: крестьянин растворяется в своей общине, подчиняется земле. Совершенно очевидно, что социалистическое хозяйство основано не на Платоне Каратаеве, а на мыслящем, инициативном, ответственном работнике. Эту личную инициативу необходимо в рабочем воспитывать…
…Путь к социализму лежит через высшее напряжение государства. И мы с вами проходим как раз через этот период… Никакая другая организация, кроме армии, не охватывала в прошлом человека с такой суровой принудительностью, как государственная организация рабочего класса в тягчайшую переходную эпоху. Именно поэтому мы и говорим о милитаризации труда».
По сути дела, воззрение Троцкого на переустройство труда в новую историческую эпоху отражало мировоззрение паразитических, деклассированных, босяцких слоев общества. Именно для этих слоев труд был проклятьем, а лень – осью жизни. В их представлении нормальный человек может трудиться только по принуждению, из-под палки.
Нравственные ценности русского крестьянина, и прежде всего трудолюбие как добродетель, были совершенно непонятны и даже дики для этих слоев. Золотой век для них – это время, когда не надо будет работать, а только наслаждаться вечной праздностью. Недаром Троцкий говорит о лени как о двигателе прогресса. Социалистический лозунг освобождения труда мыслится им как освобождение от труда. Золотая мечта лодырей и паразитов.
Именно поэтому он всегда был враждебен русскому крестьянству, начисто отрицая его культуру. Он писал: «Мужицкая основа нашей культуры – вернее бы сказать, бескультурья – обнаруживает все свое пассивное могущество». Это могущество традиционной крестьянской культуры Троцкий и его последователи «огнем и мечом» пытались уничтожить, подавить «косность широких слоев отсталой народной массы». И это была не просто борьба людей, а двух противоположных идеологий – трудовой и нетрудовой (паразитической).
В идеях Троцкого в чистом виде появилось утопическое стремление к созданию всеобъемлющей, всезнающей, всепонимающей централистской системы административного диктата, сочетающейся со всеобщей милитаризацией труда, бюрократизацией и натурализацией распределения и обмена, огосударствлением профсоюзов. Именно он стал одним из главных инициаторов проведения этой системы в жизнь. Крах этой системы он позднее объяснял не принципиальной ее порочностью, а низкой культурой населения России, которая еще не доросла до столь «совершенных» форм хозяйственного развития. Вот как это он сам рассказывал на XI партийном съезде: «Мы начали в хозяйственной политике крутым и непримиримым разрывом с буржуазным прошлым. Раньше был рынок – упраздняется, свободная торговля – упраздняется, конкуренция – упраздняется, калькуляция коммерческая – упраздняется. Что вместо этого? Централистский верховный священный ВСНХ, который все распределяет, все организует, обо всем заботится: куда машины, куда сырье, куда готовые продукты, – он из единого центра через свои ответственные органы решает, все распределяет. Мы на этом плане осеклись. Почему? Потому что оказались недостаточно подготовленными… А если бы не осеклись? Или другими словами: если бы другой рабочий класс на известной стадии своей диктатуры имел бы возможность, по своей культурной подготовке, перейти к этому централистическому государственному упразднению рынка, конкуренции, калькуляции и к замене этого единым хозяйственным планом, все охватывающим и все предусматривающим… тогда огосударствление профсоюзов и плановое руководство социалистическим хозяйством означали бы две стороны одного и того же процесса».
Абсолютное непонимание традиционной крестьянской культуры было для Троцкого не случайным. В истории страны он видел только отрицательные стороны – темноту, невежество. Прошлое России, да и вообще Русский народ Троцкий просто презирал. «Россия приговорена своей природой на долгую отсталость, – заявлял он. – Ни один государственный деятель России никогда не поднимался выше третьеразрядных имитаций герцога Альбы, Меттерниха или Бисмарка». Вообще Россия для Троцкого – провинциальное захолустье, в котором не было ничего ценного, а только «варварская жестокость самодержавного государства, ничтожество привилегированных классов, лихорадочное развитие капитализма на дрожжах мировой биржи, выморочность русской буржуазии, упадочность ее идеологии, дрянность ее политики». Российское «третье сословие», заявлял Троцкий, «не имело и не могло иметь ни своей Реформации, ни своей Великой Революции». Российская история, по мнению Троцкого, не дала в прошлом ни Лютера, ни Фомы Мюнстера, ни Мирабо, ни Дантона, ни Робеспьера. Вся русская культура – лишь «поверхностная имитация высших западных моделей и ничего не внесла в сокровищницу человечества».
Как некогда маркиз де Кюстин, Троцкий предлагает строить Россию заново, прежде всего очистив ее от всякого «исторического хлама», называемого некоторыми отсталыми людьми «культурно-историческим наследием». Что делать с такими отсталыми людьми, Лев Давидович знает точно. «Враждебные государству элементы, – пишет он, – должны направляться в массовом порядке на объекты строительства пролетарского государства». Большая часть пятнадцатого тома собрания сочинений Троцкого посвящена милитаризации труда, которая должна осуществляться путем превращения производственных районов в миллионные дивизии, объединения военных округов с производственными подразделениями. На важнейших объектах он предлагает создавать «ударные батальоны, чтобы они повысили производительность личным примером и репрессиями…»
Троцкист Гольцман на V Всероссийской конференции профсоюзов (ноябрь 1920 года) высказывает следующее кредо: «Другой способ (способ воздействия на рабочих) – это способ принуждения, способ реальной политики, которая не останавливается ни перед какими методами, как методами поощрения рабочих, так и методами принуждения, беспощадной палочной дисциплины по отношению к рабочим массам, которые нас тянут назад. Мы не будем останавливаться перед тем, чтобы применить тюрьмы, ссылку, каторгу по отношению к людям, которые неспособны понять наших тенденций».844844 Протоколы X съезда РКП (б). М., 1931. С.871.
[Закрыть]
А каковы их тенденции, троцкист Гольцман рассказывает в своей книге «Реорганизация человека» – превращение людей в роботов и винтиков производства. «Труд и отдых чередуются по предначертанной программе, обеденное время регулируется сигналом. Стихия быта заменяется его рационализацией. В питание и отдых врывается поэзия машинистов. Наступает в наиболее изощренной форме… механизация жизни».845845 Гольцман А. Реорганизация человека. М., 1924. С.35.
[Закрыть]
Гольцман провозглашает бесплодное потребительство, объявляя потребление целью жизни. Необходимо «расширить количество предметов, подчиненных человеку».
Задача организации потребления и, по сути дела, задача жизни в том, чтобы не упустить ни одного атома материи. Природа дана для удовлетворения потребностей человека. Все для человека. Никаких святынь. Святотатство всегда было лозунгом жизни. Вся древняя культура – хлам. Прочь ее. Пожившему человеку не грех и умереть.
Психология босяков и кочевников, философия мировой шпаны отравленной патокой растекается по России, противопоставляя древней культуре бесплодные лозунги, стравливая поколения, нарушая преемственность.
С вековой тишиной русской деревни решительно покончено, – писал очевидец событий 1917 года, – происходит коренная ломка, великая переоценка ценностей всего и во всем.
Зажиточные, «справные» хозяева нервничают. Они режут не только скот, но и кур, так как ждут не то их конфискации, не то регистрации. …Крестьянская психология того времени – богатых крестьян и немалой части середняков… колеблется и мечется между радостью, что помещичьи земли перешли к крестьянину, надеждой на какой-то неопределенный неформулируемый, «свой», крестьянский порядок вещей и опасением, что эти достижения пойдут прахом и опасением, что то новое, что начинает строиться, это не совсем понятное новое окажется не «своим», не коренным крестьянским.
Конечно, крестьян радовало, что им удалось получить землю на привычной им основе уравнительного землепользования по трудовой и потребительской норме. Крестьянская община на некоторое время ожила, шумели крестьянские сходы, на которых обсуждался вопрос о передаче земель. Чаще всего землю делили по количеству едоков, кое-где по числу работников или по дворам, или путем прирезки земли хозяйствам бедных крестьян. Однако уже летом 1918 года начались тревожные процессы разрушения краеугольных принципов общины – самоуправления и трудовой демократии. В деревню направляются продотряды для изъятия якобы излишков хлеба, которых на самом деле не было. В 1917 году в армию было мобилизовано примерно 40% мужского населения в рабочем возрасте: отсюда сокращение посевных площадей и продукции сельского хозяйства.
Для поддержки продовольственных отрядов и установления в деревне новых порядков издается декрет об организации деревенской бедноты снабжения ее хлебом, предметами первой необходимости и сельскохозяйственными орудиями за счет других частей деревни. По этому декрету в деревне создаются комитеты бедноты из числа сельских пролетариев, полупролетариев, люмпен-пролетариев, бедняков да и просто разных деклассированных элементов. Следует вспомнить, что в 1917-1919 годах в деревню приходит на жительство большое количество горожан, живших когда-то на селе, но потерявших с ней связь и вот в годы революции вернувшихся в нее, чтобы пережить голод.
Членам комбеда, которые, естественно, не представляли интересов коренной деревни, давались почти полная власть и масса привилегий и прежде всего право на бесплатное получение значительной части зерна, изъятого у своих односельчан. Сельский мир, сельская община раскалывались на две неравноправные части: пролетарские и люмпен-пролетарские комбеды, поддерживаемые силой оружия, и огромная масса коренного крестьянства, оказавшегося в бесправном положении.
На практике дело осуществлялось так. Приходил в деревню вооруженный до зубов продотряд. Собирались на собрание сельские пролетарии, полупролетарии, люмпен-пролетарии, бедняки, чаще всего лодыри и пьяницы. Из них руководство продотряда подбирало комбед. Члены комбеда (нередко настоящие деклассированные, уголовные типы) указывали продотрядовцам, у кого из сельчан есть зерно.
По личному указанию Ленина назначается премия в половинном размере стоимости найденного хлеба для крестьян, донесших о наличии «излишков» у своих односельчан.846846 Ленинский сборник. №18. С.141.
[Закрыть] Далее под угрозой оружия «излишки» изымались, а доносчики получали свою половину. Например, в Усманском уезде Тамбовской губернии продотряды из реквизированных 6 тыс. пудов хлеба 3 тыс. передали в пользу комбеда.
С 1919 года начинает осуществляться система продразверстки, т.е. принудительного изъятия у крестьян значительного количества продовольствия. Продразверстка обеспечивалась путем круговой ответственности волости и должна была выполняться любой ценой – даже если у крестьян не оставалось продовольствия на прокорм семьи. Всего фактически безвозмездно было изъято 615 млн. пудов зерна. Свободная торговля хлебом была запрещена. Крестьяне, имевшие хлеб, но уклонявшиеся от сдачи его государству, объявлялись врагами народа и даже предавались суду ревтрибунала. В волостях вводилось заложничество крестьян, отвечавших жизнью за немедленный сбор и ссыпку «излишков» хлеба.
По данным 33 губерний, в 1918 году было 315 тыс. членов комбедов и 117 тыс. коммунистов, членов сельских ячеек. Это ничтожно малая цифра. Ибо в то время коммунистом мог стать безо всяких формальностей любой сельский пролетарий или бедняк.
В сельском мужском населении 16-59 лет комбедовцы составляли 2,2%, а члены партии – 0,8%. В общей же численности сельского населения доля комбедовцев была крайне незначительной – 0,5%, а доля членов партии – 0,2%.
Деятельность комбедов разрушила относительный мир, существовавший в крестьянских общинах. От неумения, от предвзятости, от прямой корысти, от желания покуражиться комбедовцами было совершено огромное количество злоупотреблений – произвольных конфискаций имущества, зерна и продуктов, бессмысленных арестов и жестокого обращения. За очень короткий срок комбеды сумели снискать к себе всеобщую ненависть коренного крестьянства и в начале 1919 года были официально распущены, хотя на самом деле продолжали существовать под вывеской местных советов.
В законе о социалистическом землеустройстве, изданном в 1919 году, вся земля объявлялась единым государственным фондом и декларировалось, что право на эту землю получает тот, кто землю обрабатывает. На практике же получалось так, что государство, а фактически большевистский режим, становясь собственником всей земли, распределяло ее через своих чиновников по своему усмотрению, предпочитая тех, кто поддерживает его политику. Идеальной формой землепользования объявлялись совхозы, коммуны, артели, товарищества, а на все виды единоличного землепользования предлагалось смотреть как на отживающее явление. Более того, развитие этих последних форм намеренно тормозилось. Крестьяне теряли право самостоятельного выбора. Кстати, политика бездумного предпочтения развития сельскохозяйственных коммун не шла им на пользу. Бедняки, люмпен-пролетарии, бывшие горожане, объединившись в коммуны, получали инвентарь, скот из помещичьих усадеб, ссуды, освобождение от налогов и самое главное – большое количество земли (на одного человека), теряли стимул к эффективному труду. Начинали паразитировать, проедать и пропивать полученный инвентарь, скот и ссуды.
Вот, например, история, рассказанная Б. Пильняком.847847 Красная новь. 1927. N2 (19). С.78-88.
[Закрыть] Несколько братьев вернулись из города, где ранее служили дворниками, и в бывшей помещичьей усадьбе устроили коммуну, собрав вокруг себя неимущих односельчан, и даже «охватили» членов помещичьей семьи. Присвоили весь инвентарь, лучшие земли. Сами практически не работали, а держались начальниками (председатель, секретарь, завхоз). На них работали неимущие односельчане (кто погорел, кто просто нищий).
Жили члены коммуны в двух домах и бане. Один дом – дача 12х12 из 4 комнат и кухни – занимали три брата и их родственники; в этом доме чисто. Второй дом: 11х14, людская изба, одна комната, окно заткнуто тряпками, живут 23 человека; в этом доме – грязно, низко, темно, все старики и старухи босы и спят вповалку.
Члены коммуны обладали значительной частью земли и имущества.

Деревня сдавала по разверстке: зерно, мясо, яйца, шерсть, картофель. Коммуна ничего не сдавала. «Мужики на коммуну смотрели косо, злобно, недоверчиво, сторонились коммуны». Таких коммун в годы гражданской войны организовано было немало, и получили они печальную славу.
Увлекшись конфискациями и карательными мерами, пролетарская власть на селе не сумела выполнить самого главного – подвинуть коренное крестьянство к обобществлению хозяйства. Несмотря на значительную поддержку и льготы, на призыв к обобществлению откликнулось незначительное число крестьян. К концу 1920 года в коллективные хозяйства и коммуны объединилось только 131 тыс. человек. Причем половина из них не была крестьянами, а горожанами, бежавшими из города в результате голода. Число же колхозников-крестьян составляло около 0,5 процентов сельского населения.848848 История социалистической экономики СССР (далее: ИСЭ СССР). Т.1. С.305; Т.2. С.372.
[Закрыть]
Коммуны провалились, потому что были псевдонародными формами труда, как правило, выдуманными людьми, не знавшими крестьянской жизни. На практике многие из них стали формой паразитирования пролетарских, люмпен-пролетарских и босяцких элементов. Проев и прожив имущество коммуны, члены ее разбегались в разные стороны, не оставив доброй памяти в народе.
В 1918 году были национализированы все денежные накопления, находившиеся в банках и кредитных учреждениях. В результате этого шага крестьянство потеряло сотни миллионов золотых рублей (в довоенных ценах). В этом же году принимается декрет о единовременном чрезвычайном налоге на городскую и сельскую буржуазию в размере 10 млрд. рублей. Только по официальным данным, этим налогом обложили 10-12 процентов сельского населения, хотя на самом деле еще больше. На места спускалась разнарядка, и под угрозой арестов, расстрелов, конфискации крестьян вынуждали платить налог. Сбор налогов в деревне возлагался на комбеды, и они осуществляли его по своему усмотрению, порой обкладывая им даже неугодных бедняков. Как жаловались сами крестьяне: «Из уезда говорят: роди и клади, и многих разорили с этим налогом».849849 Калинин М. Вопросы советского строительства. М., 1958. С.18.
[Закрыть]
Бандитское поведение комбедов, массовые конфискации, реквизиции, грабительские налоги расстроили сельское хозяйство гораздо больше, чем военные действия. Вместе с тем сказывался огромный дефицит рабочей силы. Посевные площади сокращались. Имея земли больше, чем до революции, крестьянство не было заинтересовано в расширении запашки, так как боялось конфискаций и реквизиций. В 1921 году производство зерновых составило 30 процентов от уровня 1913 года, а производство мяса снизилось почти в 4 раза.850850 Ден В.Э. Экономическая география. М., 1924. С.217, 367.
[Закрыть]
Резко сократился доход на одно крестьянское хозяйство. Уровень жизни понизился почти наполовину. Значительно изменился состав деревни. Преобладающая часть богатых, зажиточных и средних крестьян была разорена. Удельный вес богатых и зажиточных крестьян, составлявший до революции 25 процентов населения, уменьшился до нескольких процентов (в пределах 5%). В центральных районах России, где конфискации, реквизиции, контрибуции и пр. применялись особенно сурово, богатых и зажиточных крестьян здесь практически не осталось. Больше всего богатых и зажиточных крестьян сохранилось в Сибири.
Наряду со значительным снижением удельного веса зажиточных и богатых крестьян существенно сократилось число средних крестьян, хотя одновременно понизилось число беспосевных. Но самой значительной закономерностью этого времени было огромное увеличение малопосевных хозяйств (т.е. главным образом бедняков), которые до войны пополняли свой бюджет посторонними заработками.
В 1920 году по уровню дохода на одно крестьянское хозяйство (если принять за критерий довоенный период) преобладающая часть крестьян относилась к разряду бедняков и середняков, живших на границе прожиточного минимума.
Борьба с крестьянством, преследование и уничтожение его наиболее активных слоев привели село к катастрофе, поставили сельских жителей на грань вымирания. Изношенные сельскохозяйственные орудия не восстанавливались, поголовье рабочего скота сокращалось. Средний размер сельскохозяйственного инвентаря, приходившегося на одно крестьянское хозяйство, снизился, по самым ориентировочным оценкам, на 50 процентов против довоенного.851851 ИСЭ СССР. Т. 2. С. 381.
[Закрыть] Число голов скота упало примерно на 30 процентов. Железный плуг, получивший широкое распространение перед революцией, начал вытесняться старинной деревянной сохой.
В результате гражданской войны, голода и эпидемических болезней погибло не менее 8 млн. крестьян. Общий уровень крестьянского населения по сравнению с довоенным периодом снизился. В результате тотальной троцкистской пропаганды у части крестьянства была подорвана вера в народные основы, традиции, идеалы.
В самом начале 1918 года в России вводится всеобщая трудовая повинность.852852 Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства, 19 января 1918. Ст. 215.
[Закрыть] В этом же году взамен прежних удостоверений личности, паспортов выдаются трудовые книжки. Для так называемой буржуазии (понятие, трактуемое в то время, весьма расширительно, включая значительную часть крестьян и интеллигенции) под страхом тюремного заключения устанавливается обязательная явка на все работы, куда бы их ни послали местные власти. Не реже одного раза в месяц в трудовой книжке делается пометка о выполнении владельцами книжек возложенных на них общественных работ и повинностей.853853 Там же. 13 октября 1918. Ст. 792.
[Закрыть]
К концу 1918 года все граждане России теряют право на добровольный выбор труда и в случае необходимости могут быть переведены с одной работы на другую.854854 Там же. 10 декабря 1918, Ст. 905 (Кодекс законов о труде).
[Закрыть] Более того, допускается принудительный перевод из одной организации в другую больших групп работающих. В новом Кодексе законов о труде так и говорится: «Для исполнения срочных общественно-необходимых работ, если не находится достаточного количества лиц, желающих добровольно эти работы выполнять… можно постановить о переводе целой группы трудящихся из организации, где они работают, в другую организацию, расположенную в той же или иной местности». В порядке очереди их записи в Отделе распределения рабочей силы безработные могут принудительно направляться на работу в другую местность.
Таким образом, трудящимся, имеющим склонность к самостоятельному труду, на добровольной основе, навязывается принудительная система труда, выйти из которой человек не мог не только из-за угрозы тюремного заключения, но и еще в большей степени из-за угрозы голодной смерти. По крайней Мере в городах все источники получения продуктов питания были взяты новой властью в свои руки. Продовольствие распространялось по карточкам. Но, чтобы получить эту карточку, человек должен был быть официально прикреплен к какой-то работе. Если хочешь жить, другого выхода не оставалось, кроме как идти работать туда, куда тебя посылает новая власть. Таким образом, человек полностью терял свою свободу и становился всей своей жизнью и смертью зависим от воли новой власти. Если работа тебе не нравилась и ты отказывался от нее из чувства протеста – значит, ты терял право на получение хлебной карточки, а, следовательно, и право на жизнь.
В июле 1918 года петроградский комиссариат продовольствия вводит классовый паек для различных групп трудового и «нетрудового» населения.
4 категории пайков по «трудовому признаку»:
1 – для рабочих тяжелого физического труда,
2 – для остальных рабочих и служащих по найму,
3 – для лиц свободных профессий,
4 – для нетрудовых элементов.
Неоднократно поднимается вопрос о лишении пайков «кулацких» и «буржуазных» элементов, которые трактовались очень расширительно.
Развитие пайковой системы шло одновременно с жесткой централизацией оплаты труда в сторону всеобщей уравнительности и обезлички. Централизованное установление общеобязательных норм и систем оплаты с жесткой регламентацией условий труда возникло сразу же после революции. В 1919 году вводится единая для всей страны тарифная сетка с 35 разрядами и соотношением крайних разрядов 1:5. По первым 14 разрядам тарифицировались рабочие, а с 15 разряда – инженерно-технический персонал.