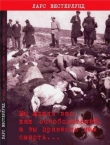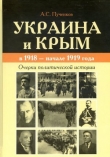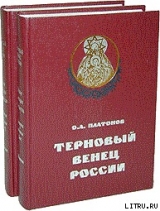
Текст книги "История русского народа в XX веке (Том 1, 2)"
Автор книги: Олег Платонов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 154 страниц) [доступный отрывок для чтения: 55 страниц]
Хорошо – кабы так; иногда я думаю (не говорю мечтаю, потому что мне, вкусам моим это чуждо, а невольно думаю, объективно и беспристрастно предчувствую), что какой-нибудь русский Царь, – быть может, и недалекого будущего, – станет во главе социалистического движения (как Св. Константин стал во главе религиозного – «Сим победиши!») и организует его так, как Конст(антин) способствовал организации христианства, вступивши первый на путь Вселенских Соборов. – Но что значит «организация»? Организация значит принуждение, значит – благоустроенный деспотизм, значит – узаконение хронического, постоянного, искусно и мудро распределенного насилия над личной волей граждан. Поэтому либерал (по выводам своим дурацким, а не основам, вполне верным) Спенсер с ужасом видит в социализме новое грядущее государственное рабство. И еще соображение: организовать такое сложное, прочное и новое рабство едва ли возможно без помощи мистики. Вот, если после присоединения Царьграда небывалое доселе сосредоточение Православного управления в Соборно-Патриаршей форме (разумеется, без всякой теории «непогрешимости», – которую у нас и не потерпят) совпадет, с одной стороны, с усилением и усилением того мистического потока, который растет еще теперь в России, а с другой – с неотвратимыми и разрушительными рабочими движениями и на Западе, и даже у нас (так или иначе), – то хоть за две основы – религиозную и государственно-экономическую можно будет поручиться надолго. Да и то все к тому же окончательному смешению несколько позднее придет».
Русский интеллигент, потерявший национально-религиозное чувство и ощущающий внутри свою духовную неполноценность вне веры в Бога, стремится на своем языке убедить себя в его существовании. Но так как это убеждение идет не от души, а от ума, его рассуждения о Боге – скорее лекции по философии, чем живое религиозное чувство. Истинная Вера всегда неотрывна от национального святоотеческого сознания и предания, передаваемого из поколения в поколение. Там, где вера отрывается от национального сознания, там она превращается в абстракцию, отвлеченное понятие, которое не может тронуть и зажечь человеческую душу.
Что стоят только интеллигентские мудрствования о Софии! Почти каждый русский «религиозный философ» считал своим долгом внести свой вклад в разработку этой темы, причем каждый по-разному. Получилась удивительная по своему абсурду и оторванности от живой веры система схоластических рассуждений о высшей мудрости, расположенной между Богом и человеком, а на деле не имеющей отношения ни к Богу, ни к человеку.
Оторванная от национальной жизни, философия нередко порождала философские нелепости. Идеал личности, по Соловьеву и Бердяеву, – некое двуполое существо – «цельная личность, сочетающая мужчину и женщину», соединяющая мужские и женские добродетели. Этот идеал полностью осуществим в Царстве Божием, в котором преображенные тела не имеют половых органов или сексуальных функций. Следовательно, по мнению этих философов, в Божием Царстве личности сверхсексуальны и не двуполы.
Для большей части интеллигентов, лишенных национального сознания, религиозные искания заканчивались отпадом от Православия, сопровождаемым его оголтелой и чаще всего примитивной критикой. Православие объявлялось ими оплотом реакции и отсталости, который необходимо разрушить. Так думала большая часть русских интеллигентов во второй половине XIX века. Разочаровавшись в Православии, эти люди, как правило, не переходили в другую веру, а становились самыми вульгарными атеистами. Вульгарный атеизм – характерная черта многих русских интеллигентов XIX века, Православие для них – мракобесие, а священники – обманщики и плуты. Религиозное искусство для них примитивно и недостойно внимания, ходить в церковь может только отсталый человек. Идет постоянная травля православных подвижников. В конце XIX века, например, интеллигенция ведет клеветническую кампанию против святого Иоанна Кронштадтского.
А он смело и глубоко обличает интеллигенцию, лишенную национального сознания. «Безумны и жалки интеллигенты наши, – говорит святой Иоанн Кронштадтский. – Они утратили по своему легкомыслию и недомыслию веру отцов своих, веру – эту твердую опору жизни нашей во всех скорбях и бедах, этот якорь твердый и верный, на котором незыблемо держатся жизнь наша среди бурь житейских и Отечество наше!»
«Как относятся наши интеллигенты, некоторые учителя и неблагонамеренные писатели, и многие учащие и учащиеся к святому и животворящему орудию нашего спасения – Кресту? – спрашивает русский святой и отвечает: – Они, по невежеству и легкомыслию, не хотят чтить Креста и не кланяются ему, и не считают его нужным для себя; значит, переучились и из света христианского вступили в непроглядную тьму бесовскую; возгордились сатанинскою гордостью и забыли Того, Кто, будучи Богом, „смирил Себя“ ради нас „до смерти и смерти крестной“, чтобы дать нам Собою образец смирения и терпения и пример послушания Богу и властям земным. Без веры, смирения, терпения и послушания никто не угодит Богу и не избегнет страшного правдивого суда Его – вечного огня и ужасного тартара. Но, впрочем, недоучки и переучки не верят и в личного, праведного, всемогущего и безначального Бога, а верят в безличное начало и в какую-то эволюцию мира и всех существ; верят бредням еретика Толстого и подобных ему безверов, а не Богу Истинному и потому живут и действуют так, как будто никому не будут давать ответ в своих словах и делах, обоготворяя самих себя, свой разум и свои страсти».
Святой Иоанн Кронштадтский обращается к «грешникам нераскаянным и еврейскому неверующему множеству» с призывом – покайтесь!
В каком положении, наставляет он их, явятся нынешние, прошедшие и будущие наши неверующие, интеллигенты называемые, и все декаденты – неверующие и злонамеренные писатели, сделавшие слово печатное орудием клеветы, обмана, соблазна, торговли и издевательства над всякой святыней и над благонамеренными людьми? Пред ними слишком будет действительно то, над чем они глумились, что они отвергали здесь, над чем издевались.
«Истинно, – повторяет русский святой, – близок день пришествия страшного Судии или суда над всеми людьми, потому что уже настало предсказанное отступление от Бога и открылся уже предтеча антихриста, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом, или святынею; тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь, – и тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих, и истребит явлением пришествия Своего того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи (и верят лжецу Толстому), да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду».9595 См.: Новые грозные слова отца Иоанна Кронштадтского «О страшном поистине Суде Божием, грядущем и приближающемся», 1906-1907 годы. М., 1993.
[Закрыть]
К концу века вульгарный атеизм уже не удовлетворяет всей массы русской интеллигенции, лишенной национального сознания, и рядом с ним возникает другая вульгарная разновидность отношения к религии – религиозное реформаторство и, в частности, предложение объединить Православие и католицизм при главенствующем значении последнего (В. Соловьев). Это выражало не меньше, чем у вульгарных атеистов, пренебрежение Русским Православием. Были также попытки к созданию новых религий, все они порождены духовным невежеством их создателей, представляли из себя чудовищную ересь и, естественно, терпели крах. Все эти искатели «религии сердца», «религии братства», «религии человечества», «религии богочеловечества» были по своей сути жалкими, беспочвенными людьми, не сумевшими устроить даже свою жизнь, и как щепки выбрасывались на задворки бытия. Но тем не менее некоторые из них оказывали влияние на молодежь. Так, основатель секты «богочеловеков» Маликов увлек за собой в США немало молодежи строить религиозную коммуну, которая, естественно, провалилась.
Отпадение от Православия значительной части правящего и образованного слоя (фактический отпад, не внешний, – внешне многие из них могли исправлять церковные обряды) привело к тому, что в конце XIX века главным оплотом православной веры был простой народ. Он продолжал верить так, как верили его предки. Однако неучастие в деле веры образованного слоя, его западный критический взгляд на Православие подорвали веру и в простом народе, который все в большей степени стал поддаваться западническим настроениям господ. Но и господа начинают менять свое отношение к религии, многие из них понимают свою религиозную ущербность, стремятся восстановить порванную связь с Православием. Однако стремления эти идут на западный манер в духе исканий «Философско-религиозного общества», в них чувствуется эстетство и высокомерное отношение к вере простого народа. Складывается парадоксальная ситуация: простой народ теряет веру, а образованные слои безуспешно ищут ее в каком-то религиотворчестве. «Христианство в России, как и повсюду в мире, – писал Н. Бердяев, – перестает быть народной религией по преимуществу. Народ, простецы, в значительной массе своей уходит в полупросвещение, в материализм и социализм, переживает первое увлечение марксизмом, дарвинизмом и проч. Интеллигенция же, верхний культурный слой, возвращается к христианской вере… Старый бытовой, простонародный, стиль Православия кончился, и его нельзя восстановить… И простая баба сейчас… стала нигилисткой и атеисткой. Верующим же стал философ и человек культуры». Бердяев проводит мысль, что в его время к самому среднему христианину предъявляют несоизмеримо более высокие требования, мол, верить по-настоящему может только ученый человек (И!). Это заблуждение очень характерно для интеллигенции начала XX века, вера для многих из них – предмет особой науки, который простому человеку недоступен. Православное мироощущение через добротолюбие и соборность остается вне внимания многих российских интеллигентов.
Русская интеллигенция перевернула понятия добра и зла. С ее легкой руки нетрудовые босяцкие элементы общества стали героями, а настоящие труженики – реакционным элементом.
Праздношатающийся человек без ремесла и дела, по-нашему, тунеядец, был для Руси явлением довольно редким. Такой человек мог жить либо на милостыню, либо воровством. Как закон, так и народное нравственное чувство сдавливало его со всех сторон, не давая развиваться. Именно поэтому на Руси таких лиц было сравнительно мало.
Но именно в этой нетрудовой и босяцкой среде рождалась и развивалась своя нетрудовая «босяцкая» культура со своим языком и фольклором и, естественно, неистребимым презрением к труду и народной морали.
В середине XIX века происходит в известном смысле сближение идеологии босячества и некоторой части российской интеллигенции, ибо те и другие стояли на основах отрицания народной культуры. Именно в этом сближении и сочетании родились большевистские воззрения на Русский народ.
Впрочем, в формировании этих воззрений приняли участие два сравнительно узких слоя российской интеллигенции, относящихся к «малому народу».
С одной стороны – слой людей, не знавших России, не понимавших ее богатейшей культуры, не чувствовавших родства с ней, видевших в ее истории только примеры своих национальных обид и утеснений. Причем любые ошибки царского правительства объяснялись представителями этого слоя отсталым характером Русского народа, его темнотой, дикостью и невежеством.
С другой – слой российских интеллигентов, сблизившихся с босяцкой нетрудовой средой, выражавших мировоззрение деклассированных элементов страны, по-своему романтизируя паразитические элементы общества (босяков, обитателей хитровых рынков и даже уголовных преступников, видя в них жертву социальной системы). В любой нации существуют паразитические элементы, не желающие работать и постоянно противопоставляющие себя творческому большинству. Любая нация всегда сдерживает рост этих элементов, пресекая их развитие. У нас же произошло иначе. Разочаровавшись в трудящемся крестьянстве, не принявшем чужую социальную философию, разрушение родных святынь именем европейской цивилизации, многие российские социалисты начали делать ставку на те малочисленные слои населения, которые, по их мнению, были более отзывчивы на «революционную пропаганду». Да и идти к ним далеко было не надо. В любом кабаке или ночлежке можно найти готовых «революционеров» (челкашей, обитателей хитровок, «романтиков дна»), всей своей жизнью отрицавших общественные устои. Именно с тех времен для определенной части российских социалистов деклассированные и уголовные элементы стали «социально близкими». Именно им были созданы условия наивысшего благоприятствования, и именно они стали опорой большевистского уголовного режима на островах ГУЛАГа под тем же названием – «социально-близких». Трудовой паразитизм деклассированных элементов воспринимался в подобной среде как героический социальный протест, нежелание работать – как своего рода забастовка, пьяное прожигание жизни – жертвенность за какую-то неосознанную идею.
Именно такую мысль несла пьеса М. Горького «На дне», которой так восхищались представители российского образованного общества. Лодыри, бездельники, уголовная шпана становятся положительными героями. Их немного, но вокруг них создается ореол жертвенности. Девяносто процентов населения настоящих тружеников-крестьян России представляются темной массой по сравнению с челкашами. И, о парадокс! – наступает момент – и о нравственных качествах русского человека начинают судить по этим деклассированным элементам, выдуманным «положительным героям». Дешевая романтика «дна» сбивала с толку даже выдающихся литераторов, заставляя видеть в представителях «дна» типичных выразителей трудовой России.
Так, например, И. Бунин писал:
«Ах, эта вечная русская потребность праздника! Как чувственны мы, как жаждем упоения жизнью, – не просто наслаждения, а именно упоения, – как тянет нас к непрестанному хмелю, к запою, как скучны нам будни и планомерный труд».
Создателем мифа о героической сущности презираемых народом челкашей, певцом «романтики дна» и восхваления социально вредных элементов стал Максим Горький.
Важно отметить воззрения «романтиков дна» на русскую культуру труда. Они обуславливаются общим отношением к народу – его «жуткой темноты», «невежественности», «культурного идиотизма». И вот вывод: «…русский человек в огромном большинстве плохой работник. Ему неведом восторг строительства жизни и процесс труда не доставляет ему радости; он хотел бы – как в сказках – строить храмы и дворцы в три дня и вообще любит все делать сразу, а если сразу не удалось он бросает дело. На Святой Руси труд… подневолен… отношение (русского человека) к труду – воловье». Этот антирусский вывод стал точкой отсчета для теоретических построений российских социал-демократов, задав заранее ложные предпосылки – мол, русские лентяи, – их еще надо учить работать, учить добросовестному отношению к труду и умению жить вообще.
Горький предлагает еще целый ряд обобщений такого рода. Все беды не в том, что народу навязывают чужой ему уклад жизни и формы хозяйствования, а в том, что русские не умеют добросовестно работать. «Костер зажгли, – пишет Горький, – он горит плохо, воняет Русью, грязненькой, пьяной и жестокой. И вот эту несчастную Русь тащат и толкают на Голгофу, чтобы распять ее ради спасения мира… А западный мир суров и недоверчив, он совершенно лишен сентиментализма… В этом мире дело оценки человека очень просто: вы… умеете работать?… Не умеете?… Тогда… вы лишний человек в мастерской мира. Вот и все. А так как россияне работать не любят и не умеют, и западноевропейский мир это их свойство знает очень хорошо, то нам будет очень худо, хуже, чем мы ожидаем…»
Глава 14
Русские среди других народов. – Антирусские националистические движения. – Изменники-самостийники.
В царствование Николая II на территории России жило около 140 народов и народностей, объединенных Русским народом (включая малороссов и белорусов) на началах Русской цивилизации. Русское государство не эксплуатировало нерусские народы, входившие в его состав, а предоставляло им значительную помощь и поддержку, создавая равные для всех экономические условия существования. Россия, строго говоря, не являлась империей в прямом смысле этого слова. Если, скажем, Британская или Германская империи жили за счет грабежа и эксплуатации окраин и колоний, постоянно богатея за их счет, то в Русском государстве многие окраины жили за счет центра и щедрости Русского народа, имея равный доступ ко всем богатствам Российского государства и практически бесплатно получая военную защиту.
Обладая высоким чувством национального достоинства, русские никогда не считали себя выше других народов, терпимо и с пониманием относились к проявлению национальных чувств других народов.
Отношения Русского народа и его вождей к другим народам, населяющим Россию, строились на началах справедливости и признания их национальных обычаев, традиций и благоприобретенных прав. В царствование Николая II продолжали сохраняться юридические нормы, действовавшие еще до вхождения нерусских народов в состав России. В польских губерниях действовал Кодекс Наполеона, в Полтавской и Черниговской губерниях – Литовский статут, в Прибалтийском крае Магдебургское право, у народов Кавказа, Сибири и Средней Азии нерушимо сохранялся целый ряд местных законов и обычаев.
Николай II был противником русификаторской политики среди народов, живущих в России. В этом плане он расходился со многими государственными деятелями его царствования, в частности с М.Н. Катковым и К.П. Победоносцевым. Стабильность державы, считал он, создается не насилием, а духовным и хозяйственным превосходством государственного народа, создавшего мощное духовное и хозяйственное пространство, притягивающее к себе не за страх, а за совесть.
По мере движения Русского народа на восток и юго-восток его доля в общей численности населения снижалась. Национальное ядро русской государственности сужалось, а в отдельных регионах качественно размывалось под влиянием непрерывного антирусского натиска, чаще всего инициируемого западными странами.
Если в середине XIX века удельный вес Русского народа в общей численности населения России составлял примерно 75%, то присоединение к России Средней Азии и некоторых кавказских областей уменьшило удельный вес русских до 65,5% (1897 год). В годы царствования Николая II доля русских в населении практически не изменилась.
Наибольший удельный вес русских в общей численности населения наблюдался в Западной Сибири (88,7%) и в Европейской России (80,0%), а наименьший – в Средней Азии (8,9%), в Прибалтийском крае и Финляндии (6,7%).
Основная часть русского населения сосредоточилась на площади между Днепром и Чудским озером на западе и Волгой и Мариинской водной системой на востоке. В этом промежутке русские насчитывали 90% населения. Исключение составляли губернии: С. Петербургская – 82,5%, Саратовская – 83,1%, Пензенская – 83,1%, Таврическая – 70,9%, Симбирская – 62,2%.
Национальный состав населения России в 1910 году (процентов)9696 Ежегодник России, 1910. СПб., 1910. С. 66-67.
[Закрыть]

К северу основного сосредоточения русской национальности русские смешивались с финнами, на северо-западе – с литовцами, поляками и евреями, на юго-западе – с евреями, поляками.
На юго-востоке и востоке русская национальность соприкасалась с многочисленными народами монголоидной расы, которые по численности населения стояли на втором месте в Русском государстве (11,0%).
Большой удельный вес (6,2%) в населении России составляли поляки, заселявшие в основном привислинские губернии, хотя в незначительном числе они встречались во всех губерниях Европейской России.
Польский народ, потерявший свою государственность в XVIII веке, был одним из главных источников формирования антирусских сил. Вокруг Польши плелся сложный клубок запутанных интриг. Отношение многих поляков к Русскому народу было неприязненное, недоверчивое, а порой просто враждебное. В польских губерниях существовало большое количество организаций, в том числе масонских, имевших антирусскую направленность и финансируемых из-за рубежа. Тайные польские организации действовали даже в чисто русских губерниях. Например, в Киеве с 1903 года существовала националистическая организация польской учащейся молодежи под названием «Полония», выдвигавшая сепаратистские цели. «Полония» получала денежную поддержку из-за границы, и прежде всего из Австрии.
После поляков по удельному весу в населении России следовали финны (4,5%). Их отношение к русским было более сдержанно, чем отношение поляков, но по своей сути не менее враждебно. Финляндия, имевшая конституционную автономию, нередко пользовалась дарованными ей русскими Царями правами для поддержки государственных преступников. На ее территории скрывались политические бандиты, размещались революционные террористические центры. Финские националисты были злейшими врагами Русского государства.
Как справедливо отмечал К. Леонтьев, политический национализм народов, входивших в состав России, был не что иное, как «видоизмененное только в приемах распространения космополитической демократизации». Недаром еврейские, польские, литовские, финские националисты являлись членами масонских лож – главной мировой космополитической организации.
Украинское самостийничество было искусственным, инспирированным Западом, движением узкого круга лиц, ненавидевших Россию. Оно реально не имело национальной базы, было не народным, а опиралось на кучку полонизированной или германизированной интеллигенции. Из-за отсутствия национальной основы это движение, как справедливо отмечалось русским историком Н. Ульяновым, страдало комплексом неполноценности. Для украинских самостийников главной заботой было доказать отличие «украинца» от русского. Придумывались нелепые теории, призванные обосновать отсутствие какой-либо степени родства между двумя частями одного великого народа. Теории эти носили откровенно русофобский характер. «Самостийники» договорились до того, что к славянам относятся только «украинцы», а русские же – смесь монголов, турок, азиатов.
В царствование Николая II появился целый ряд «обоснователей» самостийности Малороссии, самым известным из которых был профессор М. С. Грушевский, посвятивший свою жизнь сознательной фальсификации западнорусской истории.
Грушевский трактует историю западнорусских земель как беспросветное угнетение «украинцев» русскими. Переяславское присоединение к Москве – не подданство, а «протекторат», «украинцы» обмануты «москалями», царские воеводы и чиновники всячески помыкали «украинцами». Непосильные поборы и введение крепостного права – все дело рук «москалей».9797 Ульянов Н. Откуда пошло самостийничество. М., 1993. С. 31.
[Закрыть]
Грушевский образует партию, которую назвал «народно-демократической», с 1894 года он переселился в Галицию, став там председателем «панукраинского» Наукового товарищества имени Шевченко, поддерживаемого на деньги австрийского правительства. В Галиции Грушевский со своими соратниками ведет активную антирусскую работу, ходатайствует перед австрийским правительством о замене русской азбуки фонетической транскрипцией. Обоснование такой замены Грушевский объяснял с чисто антирусских позиций: «Галиции и лучше и безопаснее не пользоваться тем самым правописанием, какое принято в России».9898 Там же.
[Закрыть] Самостийники отказываются от общерусского языка, на котором была создана великая литература Пушкина и Гоголя, заменяя его простонародным малоросским жаргоном. В опалу попадает даже используемый в церковном служении тысячу лет церковнославянский язык, который тоже предполагают заменить «украинской мовой».
Судьба Грушевского – судьба типичного изменника в России. В 1914 году он был уличен в сотрудничестве с врагом, арестован военными властями и должен был быть сослан в Сибирь. Однако по ходатайству либерально-масонских кругов ссылка в Сибирь была заменена высылкой в Москву (!).
Российское леволиберальное движение смотрело на «украинское» самостийничество как на естественного союзника в борьбе с коренной русской властью. С их легкой руки осуществлялось покровительство сепаратизма, издание в Москве и Петербурге откровенно антирусской литературы. В Петербурге были напечатаны многие сомнительные сочинения Грушевского, в Москве в будущем печально известный Петлюра издавал перед первой мировой войной самостийническую газетку, которая пользовалась успехом у российской интеллигенции. Еще раньше, свидетельствует Ульянов, либералы, такие, как Мордовцев в «Санкт-Петербургских ведомостях», Пыпин в «Вестнике Европы» защищали «украинский» язык и все самостийничество больше, чем сами сепаратисты. «Вестник Европы» выглядел украинофильским журналом.9999 Там же. С. 45.
[Закрыть] Те же либералы взяли под свою защиту злейшего врага России униатского иерарха Щептицкого, уличенного в измене, сношениях с неприятелем и грязных антирусских интригах. В целом самостийничество было неотделимо от русских революционных и либеральных партий.
Только немногие представители российского образованного общества отдавали ясный отчет об опасности самостийничества для Русской цивилизации. Так, П.Б. Струве предлагал «энергично, без всяких двусмысленностей и поблажек вступить в идейную борьбу с „украинством“ как тенденцией ослабить и даже упразднить великое приобретение нашей истории – общерусскую культуру». Струве, пишет Н. Ульянов, усмотрел в нем величайшего врага этой культуры – ему представляется вражеским, злонамеренным самое перенесение разговоров об «украинизме» в этнографическую плоскость как один из способов подмены понятия «русский» понятием «великорусский». Такая подмена – плод политической тенденции скрыть «огромный исторический факт: существование русской нации и русской культуры», «именно русской, а не великорусской». «Русский, по его словам, не есть какая-то отвлеченная „средняя“ из всех трех терминов (с прибавками „велико“, „мало“, „бело“), а живая культурная сила, великая развивающаяся и растущая национальная стихия, творимая нация…»
В начале XX века австро-венгерское правительство усилило работу среди русского населения в Галиции. Оно начало предоставлять большие субсидии «украинским» обществам, допустила в Сейм и Парламент значительное число «украинских» депутатов, а с 1904 года галицийские русины стали именоваться в австрийских документах как «украинцы». С 1905 года «украинские» («мазепинские») партии в Галиции, а также их отделения в России окончательно приняли идею «самостийной Малороссии». Речь шла об отторжении малороссийских губерний от России и о создании под скипетром Габсбургов «Украинского королевства». Определяющую роль в «украинском» («мазепинском») движении играло униатское духовенство, воспитанное в антирусском духе и руководимое злейшим врагом России Щептицким.