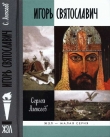Текст книги "Дорога на Тмутаракань"
Автор книги: Олег Аксеничев
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
4. Река Сюурлий – река Каяла
11–12 мая 1185 года
Музыка.
Звонкие и четкие приказы барабанов и бубнов, ведущих ритм. Соревновательный перезвон гуслей и домр, как колокольное многоголосье перед заутреней. Заунывье рогов и сопелей, расчетливым диссонансом вплетающееся в общий веселый шум, отдавало дань многотысячелетнему человеческому самоедству, стремлению в разгар разгульного празднества сказать либо сделать противоположное происходящему. Житель фараонова Египта, с трудом продирающий глаза после чудовищного смешения ячменного пива с молодым вином, по вкусу не отличающимся от уксуса, тыкался покрасневшим от пьянства носом в старательно исполненное изображение мумии, подсунутое бездушным рабом. Римский сенатор на своей вилле разворачивал папирус с изящными виршами Катулла, придерживая при этом серебряный кубок с пляшущими по нему скелетами. Memento mori. Помни о смерти. Отличайся от зверя, которому такие мысли недоступны. Слушай печальную музыку, когда тебе хорошо, и на контрасте еще полнее познаешь свое счастье.
Песня.
Сначала запевала. Самый голосистый или, возможно, просто самый смелый, которому и море по колено, особенно когда вода теплая. Да, голоса от природы нет, но главное – начать, бухнуться в обжигающий холод и стерпеть первые мгновения, когда тело протестует, а душу выворачивает наизнанку, а дальше помогут, поддержат, подхватят, и вот уже над безоблачным небом, накрывшим самобраной скатертью степной стол, летит слаженная песня, щедрая настолько, что и безголосому найдется свое местечко.
Танец.
Скоморошья чехарда, мельтешение рук и ног, красные лица с широко распахнутыми в песне ртами. Но – одновременно – незыблемый ритуал, где каждое движение предрешено и неизбежно, каждый жест значим и читаем, каждый танцор, как бы он ни был пьян, знает свое место и роль.
Таков свадебный пир в Степи. Так, мудро и безоглядно, веселились наши предки в XII веке. И кто сказал, что мы первые, испытавшие счастье на этом свете?
Владимир Путивльский со своей нареченной, дочерью Кончака Гурандухт, сидел на высоком рулоне белого войлока в основании длинного ряда ковров, уставленных едой и питьем, угощением, щедро предложенным вперемежку сидевшим русским дружинникам и половецким воинам. Разгоряченные недавно закончившейся схваткой, русские и половцы, не забывая подливать в вечно пустеющие кубки и чаши хмельные напитки, обсуждали подробности, со знанием дела смакуя особо удачные маневры и удары. О женихе вспоминали, когда заходила речь о его поединке с Овлуром, но такая забывчивость с лихвой компенсировалась высокой оценкой боя. Нет высшей похвалы для воина, чем от товарища по оружию.
Молодой жених, облаченный в парадный доспех, был схож с Георгием Победоносцем на иконе византийского письма, такой же стройный, с еле пробивающейся бородкой, золотистой, в цвет княжеского шлема и пластин, приклепанных на груди кожаной безрукавки. Его руки с тонкими пальцами, на которых еще не загрубела кожа, пока еще равно были привычны к рукояти меча и пергамену книг, но еще совсем не знали женского тела. В волнении от неведения они иногда мелко подрагивали, и юный жених старался тогда спрятать свои ладони от излишне пристальных взглядов родственников и гостей.
Сидевший по левую руку от жениха князь Всеволод Святославич, грозный Буй-Тур, косился пьяным птичьим глазом на племянника и похмыкивал с явным одобрением, пряча усмешку за вислыми усами и поднесенным к губам кубком. Курские кмети, следившие за своим господином с не меньшей любовью, чем жених за невестой, тотчас начинали горланить очередную величальную молодым, и пропорционально количеству выпитого пожелания становились все менее двусмысленными, окрашивая щеки Гурандухт румянцем.
Дочь Кончака была воистину прекрасна. Как описать красоту восточной женщины, кровь и плоть которой впитали лучшее от всех древних народов, переплавив в горниле чувственности разрозненные частицы прекрасного в цельный шедевр? Сравниться с женщиной Востока может лишь восточная поэзия, жаркая, как песок пустыни, и терпкая, как рассыпавшийся по ветру мешок пряностей.
Любимая так хороша!
Лицо светлей луны,
что в полнолуние взошла
и смотрит с вышины,
А плечи – смуглые чуть-чуть,
а кожа так тонка,
а губы ласковы, а грудь —
свежа и высока.
Омар ибн Аби Рабиа написал эти строки в Мекке за полтысячелетия до брачного пира путивльского князя, еще раз доказав скептикам, что настоящим поэтам Всевышний дарует способность провидеть будущее. Или писать так, что свежесть слов не потускнеет, подобно золоту, в веках – как знать… Осмелюсь ли истолковать Божественную волю?..
Гурандухт была уверена, что отец не оскорбит ее выбором жениха, и не испытывала сомнений, соглашаясь на династический брак с русским князем. Она готовилась к тому, чтобы стать своему нареченному примерной женой, но любви в ее сердце до этого вечера не было, только – долг. Но даже дочь великого хана ждет в мечтах своего принца, и Гурандухт повезло – она его встретила наяву. Князь путивльский стал лучшим в битве, он был силен, ловок, проворен, он был умен, что доказал на речной переправе, сумев опрокинуть половецкий заслон из заранее проигранной позиции. И он был красив. А еще – похож на Кончака, такой же светловолосый и голубоглазый. Такой же… надежный, Гурандухт заранее уверила себя в этом.
Теперь, на пиру, юная ханская дочь, сидевшая по правую руку от жениха, неотрывно смотрела на него, укрывшись занавесом длинных ресниц, не замечая, как переглядываются между собой отец и дядя нареченного, Игорь Святославич и Буй-Тур Всеволод.
К счастью, Гурандухт ни разу не поймала взгляд еще одного старого знакомого, нежданная встреча с которым и предопределила, возможно, ее судьбу. Лекарь и хранильник Миронег держался подальше от молодых, присоседившись к курским кметям, с которыми успел перезнакомиться в вятичских лесах. Выбрав себе место с внешнего края расстеленных по земле ковров, заменявших и скатерти, и столы, он исправно опорожнял наполненные вином чаши, улыбался, когда это было нужно, подхватывал песню не хуже прочих, но глаза прятал.
В глазах Миронега притаилась смерть. Гибель этих людей, так беспечно пирующих, не зная своей скорой участи.
А Миронег – знал. Его, последнего хранильника на Руси, посещали боги и сверхъестественные существа и делились сокровенным.
Даром прорицания, предвидения будущего, боги издавна наделяли людей, достойных особо жестокого наказания. Миронег ослушался богов и должен был расплатиться за это.
Печальное настроение Миронега заметил только один из присутствовавших на свадебном пиру, да и тот, собственно, был, что называется, гостем незваным, а оттого – излишне, быть может, наблюдательным. Болгарин Богумил тихонько сидел неподалеку от лекаря, бережно придерживая расписную глиняную чашу, до половины наполненную вином, и с интересом глядел на невиданное им действо. Сам же болгарин, признаться, никого не интересовал, сидит себе – да и пускай сидит, жалко, что ли, иначе могли возникнуть совершенно не нужные Богумилу вопросы. Отчего, к примеру, паломник только подносил ко рту чашу, так и не пригубив оттуда ни разу?
Среди пьющих трезвый – подозрителен…
А небо над пиршественной поляной темнело, чувствуя властное приближение вечера. Потянуло прохладой, остудившей излишне разгоряченных на пиру гостей.
– Время, – сказал сам себе Буй-Тур Всеволод.
Он поднялся, деликатно прозвенев кольчугой, которую так и не снял за день, по беспечности ли или от большого ума – не ведаю. Мягкие подошвы княжьих сапог прошелестели по траве за спиной жениха и затихли за невестой.
– Время, – громко сказал Всеволод, обращаясь к дочери Кончака.
Гурандухт вздохнула и закрыла глаза.
Буй-Тур Всеволод медленно приподнял накидку, лежавшую до того на плечах Гурандухт, расправил ее и подбросил невысоко над головой невесты. Присмиревшие гости с надеждой и тревогой следили за полетом невесомой ткани. Поверье говорило – как накидка ляжет, так и жить молодым. Жизнь ведь всяко поворачивается, кому прямо, как степь, а кому и комом, неприкаянным перекати-полем.
Плат падал ровно, словно его держали в воздухе невидимые руки. Вот он коснулся покорно склоненной головы невесты и мягко, ласково закрыл ее лицо и заранее подобранную косу. Гул одобрения, раздавшийся со стороны пиршественных ковров, заглушил для большинства шепот трубечского князя:
– Эка невидаль, да мы у себя в Курске, когда диких коней ловим, и не то проделываем…
Гурандухт, однако, расслышала и негромко фыркнула, принимая шутку. Через мгновение она уже всерьез поперхнулась, потому что Всеволод, продолжавший стоять у нее за спиной, потянул концы опустившегося покрывала на себя, плотно облепив им лицо невесты.
– Нет лица – нет человека, – громко, обращаясь ко всем, произнес князь. – Объяснить, братья, что это значит?
Хмельной гул можно было перевести как угодно, от согласия слушать пояснения до жизнерадостного посыла куда подальше оратора, мешающего благородным господам воинам наслаждаться дармовой выпивкой. Буй-Тур Всеволод выбрал первый вариант истолкования.
– Это значит, – продолжил князь, – что отныне у князя путивльского Владимира нет невесты… Нет!.. Потому что нехорошо, – добавил Буй-Тур, ядовито усмехаясь, – когда невеста есть у того, кто женат.
Под продолжительный хохот Всеволод сорвал накидку с лица Гурандухт, едва не задохнувшейся в бесплодных попытках продышаться сквозь хотя и тонкую, но плотную ткань. Безжалостно смяв накидку, Буй-Тур бросил ком на колени тихо сидящему жениху.
– Возьми! – приказал князь трубечский торжественно, словно то была не ткань, а драгоценное оружие. – И пусть мы, сопровождавшие сюда тебя либо невесту, станем последними, кто видел ее с непокрытой головой!
Со стороны половецких веж, стоявших, как казалось, пустыми и забытыми, раздалась заунывная песня. Чистые девичьи голоса пели на тюркском о прекрасной лебеди, покидающей навсегда свой стан… Подруги и служанки невесты, безмолвно, как требовал обычай, ожидавшие в юртах, вышли, чтобы забрать Гурандухт с собой и переодеть, как прилично замужней женщине.
Жених и невеста поднялись. Владимир Путивльский, продолжая держать в левой руке покрывало своей невесты, свободной рукой потянул книзу конец кожаного ремешка, удерживавший косу Гурандухт у затылка. Ремень легко подался, и тяжелый поток освобожденных волос опустился до пояса девушки.
У юного князя зашлось дыхание. Только что он первый раз прикоснулся к своей невесте, красивой настолько, что она казалась плодом воображения. Но разве у призраков волосы пахнут полынью? Может ли морок щекотать подушечки пальцев так, что сердце стремительно падает вниз, к примятому степному разнотравью, падает, и все не может долететь до низа, и падает, падает через щекочущую пустоту, наполненную до отказа щемящим чувством, и мчится наверх, заставляя кружиться голову, и падает… Господи, как же это?!
– Коса, – прошипел, обращаясь к племяннику, Буй-Тур. – Коса…
Мальчик ошалел от происходящего, а обычай требовалось блюсти. И дядя, бывший главным распорядителем на свадьбе, обязан был прийти на помощь. Он уже испытал подобное, жизненный опыт – дело хорошее.
Пожившему на свете князю трубечскому и курскому по осени должно было исполниться тридцать лет.
С трудом разлепив запекшиеся от волнения губы, Владимир Игоревич сказал, обращаясь к невесте:
– Пока была одна, то и коса – одна. Теперь нас двое, и кос – тоже две. Принимаешь?
– Принимаю, – поклонилась жениху Гурандухт.
– Уррагх! – заорали гости.
Согласившись заплетать две косы, невеста передавала себя мужу. Волосы не обманешь, в них вся магия человеческого тела, поэтому из лысых и не получаются хорошие колдуны и волхвы.
Сопровождавшие Гурандухт девушки, примолкнувшие было, заголосили с новой силой. Не то чтобы их донимала печаль. Обычай! На глазах невесты показались слезы. Не то чтобы песня разжалобила – от счастья тоже плачут.
Весь обряд князь Игорь Святославич, отец жениха, просидел в молчании и без движения. Его время придет завтра, когда прибудет со своими воинами отец невесты, хан Кончак. Обычай требовал, чтобы отец жениха встретил отца невесты на подходе. «Твоя дочь взята моим сыном на копье!» – прозвучат грозные и страшные слова. Дальше – ристалище, затем – предложение выкупа за невесту и торг, итог которого предрешен заранее, согласно обычаю! Всех сокровищ, кажется, не хватит безутешному отцу для выкупа своей дочери у коварных похитителей. Однако можно будет договориться, чтобы она навещала родню в Шарукани или приглашала почаще папочку к себе в Путивль либо к тестю в Новгород-Северский.
Игорь Святославич волновался, как мальчишка, но не за сына, а, как ни странно, за себя. Неизбежный ритуальный поединок с Кончаком не сулил легкой победы, но и проигрывать хану после того, как Владимир Игоревич отличился во время боя за невесту, было бы зазорно.
Мысли о предстоящем ристалище прервал незаметно пробравшийся к князю воин, вернувшийся из боевого охранения.
– Князь рыльский скоро будет здесь, – сообщил он, наклонившись к уху Игоря Святославича.
– Хорошо. Давно ждем! – кивнул тот головой.
– Вам бы… того… со мной поехать, господин, – неуверенно проговорил воин, избегая смотреть в глаза своему князю.
– Что-то случилось? – насторожился Игорь.
– Вам бы со мной… – тоскливо повторил дружинник.
– Секреты? – с интересом спросил Буй-Тур Всеволод, деликатно оставивший жениха наедине со своими мыслями.
– Не понимаю, – ответил князь Игорь. – Что-то произошло у Святослава Ольговича, а он, – кивок на гонца, – не говорит.
– Не поверите, – грустно сказал дружинник и поник головой.
– Кто же словам в Степи верит? – удивился Всеволод Трубечский. – Вот делу – да, хотя тоже не всегда… Не размяться ли нам верхами, брат? А то как бы хмель головы не закружил.
– Возьми дюжину кметей, – приказал Игорь Святославич.
– Не беспокойся. У меня среди воинов множество любителей ночных прогулок по Степи.
– Ты поведешь, – заметил князь Игорь гонцу.
Тот покорно поклонился, понимая, что не только в проводнике нуждаются князья. Если в Степи их ждет ловушка – немыслимо, конечно, такое, брали-то с собой самых надежных, но вдруг, – то первым умрет тот, кто заманил в нее. Стрелы курских кметей летели быстрее, чем мог бежать любой конь, даже самых лучших кровей.
Заставив себя широко улыбнуться, князь Игорь Святославич помахал сыну рукой, вскочил в седло подведенного коня и повернул его прочь от ярко освещенного большими кострами места пира, туда, где в лунном свете отливали синеватыми огоньками кольчуги и шлемы курян.
Небольшой отряд скрылся в сгущающейся ночной тьме, не причинив душевного беспокойства пирующим. Половцы решили, что так требует русский обычай, чтобы родственники жениха оставили его одного. Мало ли затей приходит в голову после медовухи? Лишь бы шеи себе в темноте не посворачивали… Русским дружинникам все было ясно изначально. Половецкие девушки уж больно долго одевали нареченную путивльского князя, их явно следовало поторопить. А кто, скажите на милость, лучше курских кметей умеет заходить незаметно с тыла? Жалко, конечно, что взяли не всех, но, с другой стороны, там и девушек не так много…
– Люди целы? – спросил князь Игорь у Святослава Рыльского, как только обменялся с ним приветственными кивками.
– Целы, – улыбнулся молодой князь. – А царапины – не в счет. Говорят, до свадьбы заживет, так что долго ждать излечения не придется.
– Что случилось?
– Да вот… Нашли в степи подарки для жениха с невестой.
Державшиеся рядом с князем черниговские ковуи хохотнули.
– Что случилось? – переспросил Игорь.
Сердце захолонуло, предчувствуя недоброе. Мальчишка не соизмерил границы шалости. Степь не щедра на дары, и бесплатно здесь раздается одно – гибель.
– Незваных гостей отвадить довелось, – доложил князь рыльский, продолжая улыбаться. – На чужие земли без приглашения заявились.
– Теперь сами этой землей и станут, – подхватил в тон один из ковуев.
Снова смех. Немного истеричный, как и положено после недавнего боя, когда еще не прошла радость оттого, что выжил.
– Расскажи, брат, как геройствовал.
Голос Буй-Тура был спокоен и тих, и только Игорь Святославич, приметив немигающий взгляд, устремленный на князя Рыльского, понял, что даже не выдержка, чудо спасло молодого князя от удара плетью по лицу. Пальцы Буй-Тура Всеволода оглаживали рукоять плети нежнее, чем тело жены, такое бывало перед сечей, когда ладонь тянулась к мечу.
Святослав Рыльский рассказал, как сторожи наткнулись на становище половцев, занятых борьбой с напавшими на них бродниками, как рыльские дружинники с ковуями вместе ударили в спину тем и другим, как в разбитой веже нашли богатую добычу. И – удивительно, братья! – обошлось не только без убитых, даже без тяжелораненых, так, порезы.
Князя Святослава не смущало, что на поле не сечи даже, резни, остались непогребенными трупы половцев. Обошлось без убитых с нашей стороны, а у противника… то не в счет, так ведь, братья?
– Где Ольстин? – тихо, по примеру брата, спросил Игорь Святославич.
– Я здесь.
Черниговский боярин подъехал поближе к князю северскому, остановил коня, степенно поклонился, перекрестился благочестиво, сказав:
– Слава Богу, добрались благополучно.
– Ты хоть ответь, боярин, зачем вы ввязались не в свое дело? На чужой земле невместно наводить порядок, если не просят того. Хан Кончак сам разобрался бы с чужаками. А теперь… Объясняться с ханом не ему придется, – Игорь указал на князя рыльского, – а мне. И учти, тебя с собой возьму, чтобы услышал все, что хан говорить будет!
– Не сердись на взыгравшую удаль молодецкую, князь, – просительно заговорил Ольстин Олексич. – Да заодно рассуди, что слово боярское против княжеского? Что капля против реки, так я разумею…
– Или не ковуи первые в бой ринулись? – заговорил Святослав Рыльский, понимая, что черниговец пытается всю вину за содеянное переложить на чужие плечи. – Поживиться доступным?
– Или рыльским дружинникам добыча не нужна была? – не полез за словом в карман Ольстин Олексич.
– Не достатка искал, чести! – горделиво сказал Святослав Рыльский. – Все прочее – суета!
– Ой ли… – тихо, но с расчетом, чтобы все расслышали, произнес черниговский боярин.
– Слово княжеское стали тверже.
Святослав Ольгович взял в руки богатую шубу, перекинутую до этого через луку седла, и бросил ее в дорожную пыль перед копытами своего коня.
– Вот цена добычи, – проговорил князь. – Надо будет – гати мостить ею буду через топи…
– Цену этой добычи мы еще не знаем, – грустно сказал Игорь Святославич и развернул коня.
Буй-Туй Всеволод и его кмети поступили так же.
– После свадьбы поговорим, – заметил он, стараясь, чтобы князь Игорь не расслышал этого. – С обоими. Герои…
– На свадьбу нас, я так понял, пригласили, – заметил после минутного замешательства Ольстин Олексич. – Едем, князь?
– Едем, – сказал Святослав Рыльский. – Хотя ума не приложу, за что на нас так взъелись?!
* * *
Кровь была всюду. На земле, пропитав ее настолько, что уже не впитывалась, свертываясь на поверхности зловонным студнем. На траве, пригнув ее тяжким грузом к смердящей земле. На остатках разбитых веж, как последнее клеймо хозяев на особо дорогих для них вещах.
Крови не было только на трупах. Она вся вытекла, словно страшась памяти, что хранили бездыханные тела.
– Что же это? Как же?.. – приговаривал Гзак.
Он давно спешился и вел своего коня на поводе. Привычное к боям животное пугливо поводило ушами, пораженное увиденным.
Не меньше удивлены были и дикие половцы. Видеть разоренные поселения было для них привычно. Сказать правду, они и сами очень даже неплохо умели это делать. Давно очерствели сердца и души, при взгляде на мертвых женщин и детей воины сохраняли спокойствие, в горячке боя рубишь всех, кто подвернется, тут не до нравственных мучений.
Удивляла беспричинная жестокость. Тела были искромсаны так, что зачастую сложно было даже разобрать, мужчина или женщина лежит в спекшейся от крови пыли. После боя нужно грабить, а не отрабатывать приемы рубки на трупах, от которых пользы уже никакой.
Или добыча оказалась так мала, что убийцы решили отомстить если не живым, так мертвым?
– Дорого далась победа, – заметил один из бродников, по примеру Гзака пешим пробиравшийся между трупов. – Вон сколько гридней навалено.
Действительно, вперемежку с телами половцев лежали тела русских дружинников, иссеченные саблями либо утыканные стрелами.
И это тоже удивляло. Русские не церемонились с телами врагов, но своих старались хоронить, не оставляя стервятникам. Что помешало сделать это здесь? Или спугнули? Тогда – кто?
Вернулись разведчики, кружившие вокруг разоренного стойбища.
– Мы нашли следы, – доложил один из них Гзаку. – Отряд небольшой, полусотни коней не будет.
– А у меня будет, – прошипел Гзак. – И я возьму богатую дань за каждую каплю пролитой здесь крови. Здесь не Русь, чтобы убивать просто так.
Гзак вскочил на коня и оглядел свой отряд.
– Отомстим зарвавшимся русичам?! – спросил-прокричал он.
– Отомстим!
– Да будет так! Ночью пойдем, утром их и накроем, полусонных.
Со следопытами во главе дикие половцы и бродники направились в погоню за отрядом русов, неведомым образом оказавшимся так далеко в Степи на погибель другим и, если удача будет с Гзаком, себе самим.
– Скажи, сын, – спросил Гзак, – как твой бог относится к мести?
– Он осуждает ее, – ответил Роман Гзич. – Он учит, что если тебя ударили по правой щеке – подставь левую.
– Дурак! Если тебя ударили по правой щеке – снеси башку тому, кто это сделал! Это – истина!.. Как и то, что ты – дурак вместе со своим богом!
Роман Гзич вспыхнул до корней волос, но промолчал. Следуя за отцом, он твердил про себя: «Подставь левую щеку… подставь… подставь…»
Только один всадник из орды Гзака не бросился сразу в погоню за ненавистными русскими. Это был высокий худой араб неопределенного возраста с длинным лицом, поросшим густой короткой бородой. Порванный в нескольких местах халат араба был когда-то дорогим и красивым, но это время давно стало историей.
Араб внимательно оглядел с седла залитое кровью стойбище, словно перед ним был товар на рыночном прилавке, бросил поводья, вытянул руки ладонями вперед и сказал на неведомом языке:
– Фтагн… Фтагн. Фтагн! Йяа! Фтагн-нгах айи, Ктугху!
Старый Бог, чье имя – Пламя, услышал призыв. Огненные языки сорвались с неба, упали к ногам араба и принялись метаться по земле в поисках пищи. Трещали, лопаясь от жара, нестерпимого даже для трупов, тела, причем огонь пожирал их с разбором, отдавая предпочтение погибшим русичам.
Да полно, трупы ли это? И были ли они когда-либо людьми?!
Разошедшаяся кожа открывала не внутренности, но серый порошок, схожий с мелко помолотой ржаной мукой. Страшные раны с запекшейся на них кровью, осыпаясь подобно пыли, ухмылялись на корчащихся от пламени телах улыбкой старца, потерявшего зубы; за ранами – темные провалы пустоты, вместо костей и мяса.
Так пропадал наведенный морок, оставляя реальность. Трупы убитых половцев.
– Ты здесь, Шуб-Ниггурат, Посланник Богов? – спросил араб на родном языке.
– Здесь, Аль-Хазред, раб одного из нас, – раздался глас из пустоты.
– Ступай в место Кадат, передай Старым Богам, что час близок!
– Передам, Аль-Хазред, раб одного из нас!
Шуб-Ниггурат исчез так же неожиданно, как и возник.
– Раб, – повторил Аль-Хазред. – Раб! Кто же тогда ты, Шуб-Ниггурат, Посланник Богов, если исполняешь повеления… раба?!
* * *
Той ночью в Степи было тихо. Не шипел ветер, не шелестела трава, не вскрикивали ночные птицы. Ночь поглотила звуки и упала оземь, переваривая их.
Тихо было в русских шатрах и половецких вежах; свадьба умолкла на время, собираясь с силами в ожидании нового дня и новых гостей.
Тихо было на реке Сюурлий, взбаламученной копытами десятков коней во время дневного ристалища. Течение прибрало поднявшуюся грязь и ил, осадив часть обратно на дно, отправив остальное вниз, к устью.
Тихо было от границ Руси до тмутараканских болот, от Лукоморья до Дона Великого.
Долго ночь меркнет. Уснул щекот соловьиный.
Тихо.
Смерть тоже любит тишину.
* * *
Дажьбог-Солнце в мае просыпается рано. А до рассвета предупреждает всех яркой полосой, сметающей тьму с линии горизонта.
Было время рассвета.
В русском лагере спали все, кроме неудачников, которым выпал жребий стоять в стороже. Смириться с жизнью часовым помогала мысль, что у них-то голова поутру болеть не будет, тому свидетели утренняя прохлада и ковши хмельной медовухи, поделившиеся содержимым со страждущими желудками.
Похмелье – черта не национальная, а географическая. Правда, в половецком лагере предпочитали бороться с бедой холодным кумысом, но тут уж не поспоришь, не только лицо, но и желудок у каждого – особенные.
Еще один человек проснулся перед зарей. Лекарь Миронег откинул край войлочной кошмы, в которую предусмотрительно завернулся ночью, укладываясь спать, отер лицо от осевших на него капель росы, присел пару раз, разминая затекшее тело, и направился к коню.
– Не спится? – сочувственно поинтересовался через зевоту один из сторожей.
– Нет, – ответил Миронег. – Поутру самый сбор трав, тут уж не до сна.
Привычно солгав, лекарь объехал сторожу и поскакал в степь. Дружинники привыкли к постоянным одиночным отлучкам Миронега, и даже самые недоверчивые вынужденно признали, что за пределами лагеря Миронег ни с кем не видится. Поэтому передать неведомому врагу секреты своего господина он не мог, даже если бы и захотел. Другие с некоторой завистью замечали, как хранит судьба одинокого всадника. Многим такие прогулки обходились дорого, ценой их были разбросанные по степи кости либо колодка невольника.
Миронег держал путь к красной полосе рассвета, задрапировавшей горизонт. Помните: «горизонт – это воображаемая линия»; помните – значит забудьте! Не прошло и часа, как Миронег доехал до горизонта, где твердь земная трется о твердь небесную, тот нижний небесный свод, что отделяет мир человеческий от мира духов.
Если знать путь, край света рядом.
Небесная сфера висела над головой Миронега, до нее при желании можно было достать рукой. Она немного покачивалась. Капли воды, скатываясь вниз, сочно шлепались на край земли, из-под него раздавались утробные вздохи одного из трех китов, на которых держится мир.
Причудливое смешение освещения этого мира с тем светом, который проникал с внешнего края небесной сферы, окрасило капли, орошавшие землю, антиохийским багрянцем. Здесь, на границе миров, зрение не обманывало, а созидало. Видишь красное – значит, тому и бывать.
Миронегу не нравился алый восход.
Он подставил руку под капель. Неестественно густая вода неспешным ручейком протекла через ладонь к нарукавным завязкам рубахи. Миронег поднес ладонь к лицу, понюхал, затем, сморщившись, лизнул.
Граница не лжет. Ты видишь красную жидкость. Но кто утверждает, что это – вода?
Кровь, пока свежая, тоже красного цвета.
Так просыпался вещий Дажьбог. В кровавом венце.
Миронег повернул коня обратно в лагерь. Но конь заупрямился и встал, отказавшись двинуться с места. Миронег поднял плеть, чтобы привести к покорности животное, но замер, услышав тихий нежный голос:
– Не конь виноват, а я. Меня тоже накажешь плетью, хранильник?
На прочных ветвях одинокого ясеня – по дороге к краю земли его не было, но это ничего не значило, дорога-то… непростая – сидела, свесив вниз босые исцарапанные ноги, молодая девушка. Лица ее было не разобрать из-за густой копны рыжих волос, но девушка не стала держать Миронега в неведении насчет своей внешности. Откинув волосы назад, она открыла веснушчатое лицо с огромными зелеными глазами, небольшим носиком и пухлыми чувственными губами.
– Ты удивлен, – поинтересовалась девушка, – откуда я тебя знаю, хранильник?
– Не удивлен, – сказал Миронег миролюбиво. – Здравствуй, Хозяйка. В настоящем облике, признаться, ты нравишься мне больше.
Богиня Фрейя удивленно моргнула голубыми глазами и спрыгнула с ветки ясеня вниз, чудом не зацепившись ни за что густыми волосами.
– Как узнал?
– Увидел, – сказал Миронег, и не понять было, говорит он серьезно либо насмехается.
– Волшебное зрение? Так умеют все хранильники?
– Спроси остальных, – печально сказал Миронег, зная, как и богиня, что он остался последним.
– Невежливо, – оценила предложение Миронега Фрейя. – Скажи, человек, отчего я терплю твою грубость?
– Терпением расплачиваются. Скажи сама, богиня, что во мне настолько ценно для тебя? За что платишь смирением?
– За твою наглость. – Фрейя усмехнулась, не желая говорить об этом серьезно. – Всему есть срок, хранильник. Пришло время выбора.
– Из чего прикажешь выбирать?
– Из жизни и смерти. Людям не дано совместить это в единое целое, что лишний раз говорит о вашей ущербности. Боги никогда не создали вас такими, если бы были трезвы…
– Непонятно говоришь, богиня, расскажи подробнее.
– Непонятно? Что ж… Жить тем людям, с которыми ты пришел в степь, осталось недолго, сутки, быть может, двое. Тебе решать, сложишь ты свою голову вместе с остальными или останешься в живых.
– И как же решать? Сказать тебе, быть может, что хочу жить, – и все сбудется?!
– Скоморошество… Слушай, хранильник, это воля богов, и не тебе изменить ее. Дорога на юг закрыта. Посмеешь отправиться по ней – умрешь. Ввяжешься в сечу – умрешь. Вернешься на Русь – останешься жив и здоров. Слово богов – нерушимо.
– Я заметил, – кивнул головой Миронег.
– Что решил, хранильник? – усталым голосом спросила Фрейя.
– Решил, – сказал Миронег. – Пропусти, богиня! Мне пора возвращаться.
Фрейя стояла, пристально разглядывая хранильника. В ее глазах отражался край небесной сферы, продолжавший сочиться кровью, и белки глаз казались покрытыми ржавчиной.
– Дай дорогу, богиня, – попросил Миронег.
– Гордец, – заметила Фрейя разочарованно.
И исчезла.
Маленький человеческий череп, давний подарок богини, лежавший в седельной суме, зашевелился, забился, сильно стукнул коня по ребрам. Конь недовольно фыркнул, переступил ногами на месте и тронулся в обратный путь.
Дорога назад была прямой и ровной. Истинный путь должен быть именно таким, не иначе. От линии горизонта к лагерю Миронег не встретил никого, что лишний раз говорило о том, как мало на свете тех, кто идет истинными путями.
Поэтому он целым и невредимым вернулся к стороже, рассредоточившейся по степи и пристально вглядывающейся вдаль.
– Случилось что? – поинтересовался Миронег.
– Пустяки, – осклабился один из дружинников. – Небольшие неприятности. Мы окружены дикими половцами, а так – ничего особенного. И как только вы прошли через их заслоны?..
– Повезло, наверно, – пожал плечами Миронег.
– Или пропустили? – спросил себя дружинник, глядя в спину лекаря. – Живы останемся – разберемся…