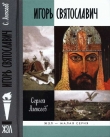Текст книги "Дорога на Тмутаракань"
Автор книги: Олег Аксеничев
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
– Ошибся, – хохотнул окончательно успокоившийся после недавней вспышки ярости хан. – Конечно же, я вспомнил! Ваш бог любил пьяных, однажды он даже превратил воду в вино. Скажи, боярин, он не может сделать это еще раз? Клянусь, если твой бог превратит любую из степных рек в винный источник – тотчас стану христианином!
Руки юноши, прислуживавшего хану за едой, дрогнули, и комки вареного несоленого риса рассыпались по ворсу ковра.
– Отец! – с горечью и укоризной сказал юноша, поставил прямо на землю блюдо с остатками еды и, вспыхнув, бросился прочь.
– Мой сын, – пояснил невозмутимый Гзак, смахнув крошки рядом с собой. – Был воин, а как крестился, стал словно девица красная. То не скажи, это не делай. От имени прирожденного отказывается, требует, чтобы его Романом звали, как ромея какого-то! Это с нашим-то разрезом глаз!
И Гзак жирными от мяса пальцами еще больше подтянул к вискам и без того раскосые глаза, став удивительно похожим на древние печенежские изваяния, стоявшие по степи. И снова хохотнул, довольный тягостным впечатлением, произведенным этой выходкой на ковуев, верных христиан, вынужденных терпеть все ради политических выгод.
Ухмылка Гзака сама собой превратилась в болезненную гримасу, которую самозваный хан собирался выдать за выражение повышенного внимания к собеседнику. Но, за неимением актерского дара, Гзак изобразил лишь безграничную гордыню и презрение к гостям. Ольстин Олексич остался невозмутим, в степи он повидал и не такое.
– Что ж, боярин, – сказал Гзак, – рассказывай, с чем пожаловал. Добрые ли вести от тебя услышу?
– Что считать добрыми вестями, хан?.. Как христианин, я осуждаю войну и убийство, а говорить нам придется именно об этом. Ответь мне, хан, остался ли в силе наш договор, заключенный ранее?
– Хан слова не меняет!
– И твои воины готовы выступить, когда придет время?
– Безусловно. Мне нужны только срок и место, дальше – мое дело!
– Тогда смотри!
Боярин Ольстин достал из-за голенища кривой засапожный нож и начал его острием набрасывать на вытоптанном клочке земли примитивную, но тем не менее ясную для собеседника схему местности.
– Вот это, – черниговец провел глубокую борозду, – граница русских земель и Половецкого поля. Мы где-то здесь, – укол острием ножа пониже борозды, – а вы – здесь, – еще один укол, левее. – Условленно, что куряне Буй-Тура должны выйти навстречу перед Сальницей, где будет переправа через Великий Дон.
– Здесь бы и ударить, – заметил Гзак, внимательно следивший за каждым движением ножа черниговского боярина.
– Не время, – покачал головой Ольстин Олексич. – Подумай сам, силы Кончака там, в часе-другом неспешной езды, а сам хан пойдет по пятам твоих воинов навстречу Игорю. Стоит ли рисковать, подставляя себя под двойной удар? Нет, наша удача впереди! Смотри дальше, хан.
От точек, показывавших положение русских дружин и половецких отрядов, Ольстин прочертил прямые линии, сомкнувшиеся в нижней части рисунка.
– Вот так, – хрипло и тихо сказал черниговский ковуй. – Вот так… Невесту нельзя похитить на землях отца; это оскорбление, смываемое только кровью. Кончаковна будет ждать жениха здесь, на Бычьей реке.
– Где? – не понял Гзак.
– Вы называете ее Сюурлий, – пояснил Ольстин. – Там хватит травы лошадям и воды для всех. Там ничейные земли. И там с юга и запада болота, так что сама природа устроила ловушку каждому, кто осмелится остановиться в тех местах без соблюдения особых предосторожностей. После пира бдительность сторожи будет затуманена винными парами, и тогда я подам сигнал к нападению…
Засапожный нож с силой воткнулся в землю, прямо туда, где пересекались две линии.
– Тогда Кончак заговорит иначе, чем раньше. – Гзак не отводил взгляд от торчащей из земли наборной рукояти ножа.
– Это ваш спор, и нас он не касается.
– Разумеется. Но он касается Кончака. – Гзак хохотнул. – Если, конечно, он не желает, чтобы касались его дочери, красавицы Гурандухт!
Хан громогласно расхохотался, словно сказал что-то очень смешное. Ольстин Олексич вежливо скривил губы в гримасе, означавшей улыбку.
– Мы пойдем за вами, как хвост за собакой, – сказал Гзак, вырывая нож из земли. – И клянусь, меня ничто не остановит! Ничто, боярин, слышишь? Если пойдете на попятный, я один сделаю все. Не отступлюсь.
Гзак быстро и сильно полоснул себя по запястью левой руки, и черная степная земля, прилипшая к лезвию засапожного ножа, изменила цвет, став еще темнее.
Есть оттенки черного, как есть ступени предательства. Но черный цвет всегда останется черным, как предатель – подлецом.
Вскоре черниговские ковуи, охватив защитным полукольцом своего боярина, галопом шли обратно, к русскому лагерю, тайно покинутому несколько часов назад. Ольстин Олексич думал, как неосторожно наносить себе раны за несколько дней до грядущего сражения.
А еще отчего-то вспоминалось Святое Писание, то место, где Господь спрашивает Каина: «Где брат твой, Каин?» А Каин отвечает: «Что я, сторож брату моему?»
Где брат твой, Каин?
Где твои братья, черниговский боярин Ольстин Олексич?
Или Господь в своем милосердии наложил заклятие на утробу твоей матери, не дав ей породить еще одного Каина?
Еще одного предателя и убийцу.
* * *
Днем люди отдыхали, ночью шли вперед. Луна с плачущим лицом тоскливо глядела вслед всадникам. Дробящиеся тени людей и коней беспокойно пластались по земле в предчувствии скорой смертной агонии, ожидавшей многих из них в грязевых болотах у Бычьей реки Сюурлий. Выбеленные луной лица бояр и дружинников походили на образа покойников, а поблескивающие то здесь, то там металлические иконки на шлемах казались припасенными заранее амулетами, облегчающими дорогу в мир иной.
Во вторую ночь была гроза. Боевые кони, привычные к грохоту битвы, все равно пугались, когда с громовым треском рвалась ткань небосвода и Перуновы всполохи бешеным пламенем приваривали небо к земле у недостижимой для смертного линии горизонта. Отсветы молний причудливо играли на перьях орланов, неотступно следовавших за войском.
Призрачной радугой всех оттенков серого цвета возгорались при электрическом освещении волчьи шкуры. Могучие хищники молча текли серебристыми ручьями по флангам русской дружины, терпеливо ожидая поживы. При каждом ударе молнии на волчьей шерсти высыпали небольшие голубоватые огоньки, и треск соприкасавшихся волосинок, казалось, призывал новую песню грома в небесах.
Когда гроза успокаивалась, гласом Божьим от низких облаков доносился орлиный клекот. «Все сюда, – захлебывались хищные твари. – Будет пир, будет праздник. И на разбросанных по Половецкому полю костях каждый ценитель падали найдет себе трапезу по настроению, блюдо по вкусу. Все сюда!»
А праздновавшие весну соловьи твердили свое. «Свадьба!» – пели соловьи, и тоненькие горлышки вздрагивали в такт каждой руладе. «Любовь», – слышался звонкий ночной щекот, засыпавший только под утро.
Любовь… Тоже – увы! – иногда гибельное чувство.
Утром на смену исчезавшим до темноты волкам приходили лисы. Хитрые и злобные, они не уживались среди себе подобных, напоминая поведением большинство людей. Но сейчас они держались большими стаями, бросаясь изредка прямо под копыта коней, визгливо тявкали, задрав окаймленные черными губами морды цвета свернувшейся крови. Бывалые дружинники, повидавшие степь, говорили, что лисы боятся красных щитов, притороченных к седлам, но веры им не было. Все чаще видно было, как воины делают знаки, отражающие злые чары, или хватаются за кресты или змеевики-обереги, висевшие на шее у каждого.
Русская земля, ты уже за шеломянем!
Шеломянь – водораздел рек, водораздел Дона и Днепра, говорят одни.
Шеломянь – старый могильный курган, похожий на шлем воина, утверждают другие.
Между русским воинством и Русью легла смерть. Как хотелось бы мне ошибиться, написать, что зловещие предзнаменования были просто неверно истолкованы, но…
Но мы с вами говорим о том, что было, а история, как известно, не терпит фантазий.
Выдумки оставьте иным музам.
Новый храм был схож с ящером из детских сказок. Вздернутый портал входа казался распахнутой пастью, поглощающей всех, кто, добровольно или по принуждению, заходил во внутренние помещения, еще не отделанные до конца.
Каменотесы исходили потом, капли которого едва не замерзали под холодным, по-настоящему зимним ветром, лелеявшим на своих крыльях отвратительные миазмы Меотийских болот. Каменотесы исходили ужасом, стараясь не смотреть на затянутых в черное надсмотрщиков, стоявших спиной друг к другу в центре храмовых залов. В скрещенных на груди руках они держали плети, где кожаные ремни переплетались для усиления удара со стальной проволокой.
«Это даже не Вавилонское пленение, брат Иосиф бен-Иешуа, – опасливо шептал один из каменотесов другому. – Это вернулись времена владычества фараонова».
«Это вернулись времена Содома и Гоморры, – тихо отвечал Иосиф бен-Иешуа. – И молю Господа, чье имя неизреченно, чтобы гнев его поразил нечестивцев, как в старые времена!»
Они молили о том, чтобы гнев Божий упал на город Тмутаракань, не подозревая, что это давно уже случилось.
Один из Старых Богов, чей древний истукан горделиво возвышался на залитом кровью пьедестале, пылал гневом, источая его в окружающее пространство, напитывая им не только населявших город людей, но и, казалось, самые стены.
Человек любит дом и ненавидит тюрьму. Но ведь все едино, стены есть везде.
Только разные – добрые и злые.
Тмутаракань стала городом злых стен.
2. Дорога на Каялу
8—9 мая 1185 года
Сгинули печенеги, но остались после них курганы и статуи. Так уж повелось, что память о народе, хоть она и не материальна, живет дольше, чем сам народ. Половцы гордились прошлыми победами над печенегами, и старики, греясь на солнце, рассказывали притихшей детворе, как они, когда сами были такими же молодыми, слышали об этом из уст участников сражений. Но замшелые, выветренные каменные изваяния, мимо которых с протяжным скрипом тянулись от кочевья к кочевью половецкие вежи, ничем не походили на грозного противника из народных легенд и преданий и назывались просто каменные бабы.
Хотя, присмотревшись повнимательнее, в руках древних статуй можно было различить мечи и кубки, вещи, свойственные мужчинам, а не женщинам. Но кто даст себе труд изучать старые камни, лезущие из степного чернозема, как чирьи на коже?
Степь живет настоящим, иначе и быть не может. Трава, тянущаяся вверх, не понимает, что земля, откуда она черпает склизкими корнями вещества, необходимые для роста, тоже был когда-то травой и корнями. Прах есть, и в него же и вернешься – осознание этого ужаса есть часть божественного проклятия, прозвучавшего при изгнании Адама и Евы из рая. Нельзя расти, зная, что все равно погибнешь. Нельзя, но мы ведь растем? Надеемся? Да минует меня чаша сия – это слова не Бога, человека.
Обернувшиеся на восток истуканы провожали давно ослепшими глазами небольшую группу всадников, спешивших по неведомым делам, не обращая внимания на полуденную жару и опасно притихшую степь. Некоторые статуи казались не настолько изъеденными временем, на их поверхности еще сохранились следы давней росписи, а у подножий белели кости недавних жертвоприношений. Эти изваяния обозначали места захоронений великих половецких воинов, и превратившиеся в камень герои с недоумением прислушивались к стуку подкованных копыт в неурочное для похода время.
Золотой шлем и пардус на алом стяге призывали любого в Половецком поле к осторожности. Ехал Буй-Тур Всеволод, а он не терпел препятствий. Ехали курские сведомые кмети, лучшие воины русского пограничья, прославившиеся гораздо раньше легенд американского фронтира. Ехали на праздник, женить юного князя путивльского.
Ехали на гибель… Только что же пророчествовать, подобно Диву на высохшем дереве? Стоит ли плакать по еще не снятым с плеч головам? Стоит ли плакать о смертях, давно затерявшихся на ломких пергаменных страницах старинных летописей?
Войны без мертвых не бывает, говорили наши предки. Они же утверждали, что меч губит многих, но еще больше – злой язык. Многие прошлись раздвоенным змеиным жалом по полку Игореву, залив зловонным ядом курганы павших воинов. И не плакать мы будем, уважаемый читатель, но пытаться восстановить истину.
С другой стороны, помните, на вопрос «Что есть истина?» Понтий Пилат так и не получил ответа. Не потому ли, что она для каждого из нас своя?
Курские кмети почувствовали войско намного раньше, чем увидели. Воздух был чист, даже вездесущая в степи пыль решила отдохнуть и отлежаться. Но все равно войско пахло, наполняя ленивый тихий ветерок пряной приправой конского и человеческого пота с кислым привкусом стали, привыкшей пить кровь.
Князь Всеволод обмотал нижнюю часть лица легкой льняной повязкой, до этого свободно свисавшей со шлема вниз на плечо, и присвистнул сквозь ткань. Кмети, по примеру своего князя спрятав лица, взвыли по-волчьи и перевели коней с быстрой рыси на галоп. Пыль встревоженно приподнялась с земли, в мгновение окутав небольшой отряд мутным облаком, но плотное переплетение льняных нитей она преодолеть не могла, и всадники продолжали свободно дышать через враз потемневшие повязки.
Войско Игоря Святославича было рядом. Легкий запах костров подсказывал кметям, что Игорь прибыл первым, встав лагерем где-то в дубравах по правому берегу Оскола. Туда они и повернули коней.
Но слух так же важен для воина на границе, как и обоняние. Кмети смогли даже через неумолчный перестук копыт уловить тихое жалобное поскрипывание с другой стороны.
Отставший обоз?
Странно. Телеги с доспехами и припасами обычно пускали вперед, чтобы не заставлять подвижные конные дружины поминутно останавливаться, поджидая неторопливые повозки. Кроме того, у русичей было принято смазывать чеки, удерживающие колесные оси, свиным жиром, что и ход делало легче, и избавляло от занудного раздражающего скрипа.
Скрипели половецкие телеги, чьи хозяева ценили и холили только боевых коней, ко всему остальному относясь с удивительным безразличием.
Всеволод потянул поводья, останавливая коня.
– Надо бы взглянуть, что за гости к нам пожаловали, – сказал он кметям. – Пусть двое съездят. Только тихо! Понадобится – за травинкой спрячьтесь, но себя не покажите!
Кони разведчиков ушли на тихой рыси, и полегшая прошлогодняя трава надежно заглушила удары копыт.
Всеволод Святославич оглядел своих кметей. Многие были еще очень молоды, и пробивающиеся бородки, не знакомые с бритвой, нелепо топорщились из-под шлемов во все стороны, еще больше разлохматившись от льняных пелен, предохранявших от пыли. Под редкими усами в улыбке поблескивали ровные молодые зубы. Дружинника веселит предчувствие боя, поэтому так и говорят – воинская потеха.
Разведчики вскоре вернулись, все так же на рысях, выскочив из неприметного оврага, как бесы из монастыря. Кмети были невеселы, видимо, вести, принесенные ими, добрыми назвать было нельзя.
– Плохо дело, князь, – сказал один из них. – Половцы в гости пожаловали.
– Что ж с того? К ним, собственно, и направляемся.
– Прости, князь, нескладные слова! Дикие половцы близко. На одной из веж мы заметили шатер Гзака, его не спутать, он один такой на всю степь.
– Гзак, – приподнял брови князь, так что его совиные глаза стали казаться еще больше. – Вот так чудо! Сам пришел!
– Давно не виделись, – заметил один из кметей, лаская оправленную в серебро рукоять половецкой сабли, явно не купленной, а захваченной в бою.
– Вежи посчитали? – спросил князь. – Сколько их там?
– Немного. Но на сотню воинов наберется.
– Действительно, немного. С такими силами Гзак не нападет.
С этим согласился и Игорь Святославич, которому Всеволод рассказал обо всем ближе к вечеру, когда куряне вышли к передовому охранению русского лагеря.
* * *
У Гзака действительно было мало воинов, но братья Святославичи знали далеко не все. По всему Половецкому полю на встречу с Гзаком шли за скрипучими телегами обозов новые отряды. Шли от Ворсклы и Малого Дона, шли от Посулья и Поморья, шли от Корсуни и Сурожа. Шли, получив весть о легкой добыче, малом отряде, самонадеянно углубившемся в глубь враждебных им земель.
Весть об этом принес им иссохший и высокий арабский купец, угодливо кланявшийся старейшинам родов, солтанам и ханам. Он представлялся как недостойный Абдул Аль-Хазред, и я готов поклясться, что во всех половецких племенах араб этот появился одновременно, словно мог по желанию размножиться.
Половцы мчались на битву, даже не задумываясь, зачем она им нужна. Что их влекло? Грабеж? Месть?
Или та черная злая сила, что растекалась все шире из восстановленного древнего святилища Тмутаракани?
* * *
Нежданный вестник беды прибыл и в Посулье, где зализывал раны после недавней стычки с киевскими дружинниками хан Кончак. Отряд берендеев во главе с боярином Романом Нездиловичем, предупрежденный подрабатывающими предательством хорезмскими купцами, свалился на половцев неожиданно, тихо вырезав сторожу.
Кончак успел отразить удар, но потерял много людей. Правда, хан берендеев Кунтувдый сказал много плохого боярину Роману, когда увидел, как мало всадников тот привел обратно в Торческ. Кончак дорого взял за каждого из своих погибших. Взял не золотом, кровью, как и требовал старинный обычай.
Но все же лагерь Кончака наполнился стонами раненых. Хан, все мысли которого еще недавно всецело были заняты приготовлениями к свадьбе дочери, думал теперь чаще о скором появлении с Игоревым войском лекаря Миронега. Половцы испытывали к нему странное чувство. Так обычно относятся к великим шаманам – надеются и боятся. Молчаливый Миронег заставлял дрожать от страха воинов, встречавших усмешкой стычку с любым противником. Они боялись, хотя русский лекарь никому не сделал не то чтобы плохо – больно.
Воины, уходившие в боевое охранение, готовы были из кожи вон вылезти, лишь бы не повторить ошибку погибших в бою с берендеями товарищей и не пропустить новое нападение. Поэтому одинокий всадник, появившийся со стороны Половецкого поля, не дождался дружеских эмоций. Окружившие его воины Кончака, поглаживая оперением стрел натянутые тетивы луков, без лишних уговоров препроводили подозрительного чужака прямо к хану.
Кончак медленно, неторопливо оглядел нежданного пришельца с ног до головы. Особо внимание хана привлек серебряный образок, висевший на кожаном шнуре поверх добротной ромейской кольчуги. Тюркская внешность незнакомца плохо сочеталась с почитанием христианских святынь, и Кончак решил обязательно прояснить судьбу православного амулета.
Заинтересовал хана и конь возможного лазутчика, мощный, высокий, но при этом с изящной шеей, выдававшей явную примесь арабских кровей. Таких коней выводили дикие племена, жившие в предгорьях Кавказа неподалеку от владений грузинской царицы Тамары, и стоили эти скакуны безумно дорого. Тут тоже не все ясно. Одно дело, если конь взят в бою или украден, иное – если куплен. Кончак не назвал бы и двух дюжин степняков, способных на подобные траты.
Да и сабелька у чужака тоже примечательная. Кончак понимал обманчивость простоты серебряной чеканки на узкой черненой рукояти. Так метили свои изделия только лучшие оружейники Дамаска, считавшие, и справедливо, что хороший булатный клинок не нуждается в драгоценной оправе.
– Привет тебе, незнакомец, – сказал хан Кончак. – Случай ли привел к нам, или дело заставило?
– Здрав будь, хан, – поклонился пленник. – И разреши поговорить без свидетелей. Иначе не решусь сказать всего, уж прости.
– Без свидетелей? Нужны веские причины, чтобы я захотел скрыть что-либо от своих воинов!
– Сочтешь ли ты такой причиной вот это?
Незнакомец прошептал несколько слов. Он говорил так тихо, что даже державшиеся поблизости телохранители ничего не смогли расслышать, хотя и старались.
Кончак высоко поднял брови.
– Это многое объясняет, – сказал он. – Что ж, пойдем поговорим.
– Великий хан, – вмешался один из телохранителей. – Сабля…
– Пустое, – отмахнулся Кончак. – Этот человек приехал сюда не для того, чтобы зарубить меня. Сегодня – не для того, – добавил хан, подумав.
Кончак отвел таинственного пленника, только что изменившего статус и ставшего гостем, в тень ближней дубравы, где никто не мог помешать их беседе.
– Мне кажется, Роман Гзич, что только особые обстоятельства могли толкнуть тебя на такой шаг, – сказал Кончак, убедившись, что остался наедине со своим собеседником. – Ты должен знать о том, какие отношения сложились у меня в последнее время с твоим отцом. Мне кажется, он не одобрил бы твой визит.
– Он убьет меня, если узнает об этом!
Кончак посмотрел на сына самозваного хана Гзака и понял, что это не иносказание. Юноша действительно рисковал своей жизнью, идя наперекор властному отцу.
– Итак, ближе к делу! Что произошло, солтан Роман? О чем ты хочешь мне рассказать?
Сын Гзака отметил, как хан Кончак обратился к нему. Солтан. Знатный половец. Боярин, как сказали бы на Руси; но не княжич. Обида проползла змейкой по позвоночнику, но Роман Гзич заставил себя смириться, как и полагалось примерному христианину в подобной ситуации. Кончаку несложно было разгадать, что творилось на душе у молодого человека, он понял, как непросто Роману обуздать гордыню. Сын Гзака выдержал испытание, и хан Кончак готов был ему поверить.
– Вы любили своего отца, хан? – неожиданно спросил Роман Гзич.
– Отца? – Кончак подумал. – Не знаю… Я почти не помню его, он умер, когда я еще был совсем мальчишкой. Вспоминаю ощущение полной защищенности рядом с ним… Когда я вырос, то понял, что он был великим ханом, и мне хотелось стать достойным его славы и памяти. Это лишь слова, я понимаю, но именно это я чувствую, и, поверь, не кривил душой, говоря об отце.
– А могли бы вы, только не примите, ради Бога, сказанное за оскорбление, предать… отца?
– Вот как разговор повернулся…
Хан Кончак прислонился к теплому шершавому стволу дуба, и несколько потемневших листьев, уцелевших еще с прошлого лета, упали к его ногам. Хан надолго замолчал, про себя осторожно подбирая слова. Он понимал, что от ответа зависело, будет ли с ним откровенен сын Гзака.
– Легче всего, – произнес наконец Кончак, – сказать твердое «нет», гордясь собой, таким честным и безгрешным. В конце концов, Тэнгри милостиво не позволил мне оказаться в положении, когда о предательстве близкого человека приходится думать как о чем-то возможном. Но я не могу быть уверен, что вся эта безгрешность, все принципы не поколебались бы при особых обстоятельствах.
Кончак пристально посмотрел на Романа Гзича. Тот не опустил лицо и не отвел взгляд. Только влага, набухшая на ресницах, выдавала, насколько ему тяжело.
– Страшно даже подумать, – продолжил Кончак, – насколько тяжело должно быть идти против собственного отца. Подумай еще раз, Роман Гзич, стоит ли это делать? Велика цена такого шага, вынесет ли это совесть?
– Совесть, – эхом откликнулся юноша. – Зачем Господь только дал ее человеку? Как быть, если жизнь обернулась так, что любой твой поступок, даже самый, казалось бы, оправданный, заведомо обернется грехом?.. По дороге к тебе, хан, я остановился напоить коня и внезапно понял, что не могу глядеть на собственное отражение… Я – предатель, хан! Неужели это лучшее, что мне осталось?..
– Возраст обычно высокомерен, – осторожно заметил Кончак. – Но разве не может случиться так, что сын лучше отца понимает происходящее и готов предостеречь родителя от серьезной ошибки? Спросим себя в таком случае, что же делать сыну, если отец глух к словам разума? Возможно, обратиться за помощью? Открыться тому, кто в состоянии удержать родителя на краю обрыва, куда тот стремится с верой в собственную непогрешимость? – Кончак перевел дух и продолжил, глядя на юношу своими пронзительно-синими глазами: – В другом сложность… Помощник, избранный тобой, может не только помочь отцу удержаться от необдуманного поступка. Он может, было бы на то желание, еще и подтолкнуть его к обрыву, о котором мы только что говорили… И только ты, солтан Роман, должен решить, достоин ли доверия тот, кому решил открыться.
– Доверие… – покатал слово на языке сын Гзака. – Странное чувство.
– Как любовь, – подхватил Кончак. – Непостижимо, отчего она просыпается и почему мы бываем так уверены в правоте своего выбора… Уверены – и все! И ошибки бывают, не без того…
Хан сорвал выросшую выше всех на свою беду травинку, пожевал ее крепкими желтоватыми зубами, ухмыльнулся через рыжеватые, уже тронутые сединой усы и сказал:
– Попробуй мне довериться, солтан Роман! В Половецком поле, без лишней скромности могу сказать, у меня громкая слава, и надеюсь, никто не осмелится заявить, что я нарушил законы чести. Вдруг и на этот раз у меня получится остаться хорошим?
Роман Гзич понимал, что Кончак оставил выбор за ним. Можно упросить хана не гневаться за напрасно потерянное время и откланяться, оставив Кончака в тягостном недоумении, а собственную совесть – в острых клыках стыда за собственного отца. Был и другой выход – рассказать Кончаку все. И навести, вероятно, все войско Черной Кумании на юрты отца, стать человеком, чье имя будут вспоминать только с проклятием… Или спасти Гзака от подобной участи?
Черная судьба была уготована на земле Роману Гзичу. Знать предначертанное не дано никому, кроме Бога, но чувствовать способен любой из нас. Солтан Роман должен сделать выбор, и этот шаг волен был спасти его душу или ввергнуть ее в самое мрачное место ада.
И Роман Гзич решился.
– Будь что будет, – обреченно выдохнул он. – Господь рассудит, был ли я прав, или все же… Господь судья!
Солтан Роман размашисто перекрестился и, словно это простое действие отняло у него все силы, тяжело, как мешок с мукой, опустился на траву возле старого дуба. Впившись пальцами в щеки, будто намереваясь наделать себе синяков, сын Гзака начал говорить. Голос его звучал невнятно, часто затихая до шепота, но настороженно прислушивавшийся Кончак не пропустил ни слова.
– Отец не желает свадьбы… Это безумие, но он полон надежд не допустить ее… Его ничто не сможет остановить! Кровь будет, много крови!..
– Свадьба? – Кончак ожидал иного, поэтому растерялся. – Чья? Твоя? Неужели, Роман Гзич, отец не разрешит, как требует половецкий обычай, тебе самому найти избранницу, достойную продолжить род?
Хан Кончак не любил вмешиваться в конфликты между родственниками, часто это заканчивалось многолетней кровной враждой и сеяло недоверие между родами на десятилетия. Но случая осложнить жизнь самому заклятому и презираемому из врагов в Половецком поле Кончак упустить не мог. Солтан Роман был достоин жалости и определенного уважения за свою отчаянную, хотя и очень наивную, детскую попытку разрешить конфликт с отцом. Но о какой жалости могла идти речь, когда интересы высокой политики смешивались в душе Кончака с чувством неутоленной – будем надеяться, пока еще! – мести.
Так что не прогневайся, Роман Гзич, но суждено тебе стать в руках хана Кончака тем оружием, которое отточенным острием поразит сердце беспокойного Гзака. Ложь и предательство ранят душу больнее, чем сталь, это знает каждый, у кого есть душа.
Роман Гзич склонил голову, спрятав лицо в высоко поднятых коленях. Слова юноши зазвучали еще глуше, словно шли из-под земли.
– Половцы моего отца и бродники уже в пути, – сказал он. – Поспеши, хан, если хочешь увидеть когда-нибудь свою дочь целой и невредимой! Жениха не спасти, сохрани невесту!
Кончак резким рывком оторвал солтана Романа от земли, прижал его к стволу дуба и прошипел, как змея перед нападением:
– Что известно о свадьбе моей дочери? Кто рассказал?
– Я не первый предатель в степи, – зашептал Роман. – А жених и его отец плохо разбираются в людях, раз собрались в поход с такими…
– Что задумал твой отец? Отвечай и помни о том, что я смогу отличить ложь от правды!
– Я не врать сюда приехал, – обиженно отозвался Роман. – Верные люди доложили отцу, что несколько русских князей отправились в Половецкое поле за невестой для путивльского князя. Свадебный отряд будет небольшим, чтобы не привлекать внимания, и разбить его будет просто еще и потому, что в разгар боя часть дружинников перейдет к нам. Так обещано, и отец поверил.
– Кто предатель? – Кончак заметил, что продолжает держать Романа едва ли не на весу, и отпустил его.
Юноша перевел дух, мотнул головой, окропив Кончака каплями густо выступившего из лицевых пор пота, и заговорил несколько громче и увереннее, чем раньше:
– Я знаю только одного, сам видел его на днях в лагере отца. Черниговский боярин Ольстин. Ковуй.
Кончак похолодел. Ольстину Олексичу были известны все подробности пути Игоревой дружины, знал черниговец и то, где будет со своими подругами ждать жениха дочь Кончака, прекрасная Гурандухт.
– Ковуев должна быть треть отряда, – пробормотал Кончак. – Если они переметнутся к твоему отцу, Игорь Святославич и его сын обречены.
– Отец надеется на хороший выкуп. На Руси в плену томятся наши родственники, настало время их освобождения.
– А моя дочь?..
Кончак спросил и тут же пожалел об этом. Все было и без того ясно. Ради спасения любимого ребенка хана можно без труда заставить сделать многое. Очень многое.
– Отец хочет оставить ее себе… Прости, хан…
– Зачем ты рассказал мне все это? Зачем ты вообще приехал?
– Погибнет много невинных, – с отчаянием сказал Роман Гзич. – Я должен удержать отца от бессмысленного кровопролития. Русичи обречены, с этим придется смириться. Но жизни половцев священны, а невесту должны сопровождать лучшие из лучших в Черной Кумании. Они, разумеется, будут сражаться за Гурандухт… Большая кровь прольется; я не хочу этого, Бог свидетель!
В те времена слово «расизм» еще не было в моде, беспокоиться о соплеменниках, не заботясь об остальных, считалось нормой жизни. Кончаку казалось, что солтан Роман говорит очень благородно, и это нравилось хану.
– Я благодарен тебе, Роман Гзич, – сказал Кончак. – Вот рука как знак клятвы в том, что отныне мои земли всегда открыты для тебя. Что бы ни случилось, для меня ты всегда будешь дорогим и желанным гостем. А пожелаешь, – хан пристально взглянул на Романа, – и соплеменником.
– Остаться? – переспросил Роман Гзич. – Не могу. Я должен вернуться к отцу. Теперь, хан, мы встретимся только на поле сражения. Там меня и рассудит Бог.
Солтан Роман еще раз благочестиво перекрестился.
– Понимаю, – кивнул головой Кончак. – Это… благородно!
На самом деле Кончак не понимал ничего. Зачем выкладывать планы своего отца его злейшему врагу, а затем возвращаться обратно, зная, что по пятам пойдет сильное войско с волчьей жаждой крови? Благородно, конечно, предотвратить бессмысленные убийства, но стоит ли спасать одни жизни ценой других?