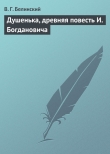Текст книги "История русской литературы XVIII века"
Автор книги: О. Лебедева
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 39 страниц)
Не испугайся, Фалалеюшка, у нас не здорово, мать твоя Акулина Сидоровна лежит при смерти. ‹…› А занемогла она. друг мой, от твоей охоты: Налетку твою кто-то съездил поленом и перешиб крестец; так она, голубушка моя, как услышала, так и свету божьего невзвидела: так и повалилась! А после как опомнилась, то пошла это дело розыскивать; и так надсадила себя, что чуть жива пришла ‹…›. Знать, что, Фалалеюшко, расставаться мне с женою, а тебе и с матерью, и с Налеткою, и она не лучше матери. Тебе, друг мой, все-таки легче моего: Налеткины щенята, слава богу, живы: авось-таки который-нибудь удастся по матери: а мне уж эдакой жены не наживать (363-364).
Характерный сатирический прием Фонвизина – зоологизация человеческих образов, определяет поэтику Писем к Фалалею на всех уровнях художественной структуры вплоть до синтаксиса. Сама конструкция фразы с попеременным использованием существительных жена, мать, собака и указательного местоименияона порождает колебание смысла и полную невозможность установить, к кому относится данное высказывание. По сравнению с прямыми отождествлениями человека и животного («как Сидоровна была жива, так отец твой бивал ее, как свинью, а как умерла, так плачет, как будто по любимой лошади» – 367) подобная лукавая двойная вибрация смыслов, несомненно, представляет собой более высокий уровень владения художественным словом. В определенной мере этот прием символизирует сам принцип работы с художественными текстами в макроконтексте новиковских изданий – принцип комбинации самостоятельных текстов в новое смысловое целое.
Наконец, подлинным апофеозом выступлений журналов Новикова по проблеме крепостного права является «Отрывок путешествия в *** И. Т.», предположительно принадлежащий перу А. Н. Радищева. В «Отрывке…», который можно рассматривать как первый эскиз будущего «Путешествия из Петербурга в Москву», просматривается характерный признак радищевской повествовательной манеры: трехкомпонентная структура мирообраза, который складывается из описания (очерковая бытовая картинка), аналитического элемента (авторский обобщающий комментарий) и эмоции (подчеркнутый субъективизм, патетические интонации в авторском повествовании). Именно эмоциональная насыщенность, открытое проявление авторского пафоса придает картине жизни крепостной деревни в «Отрывке…» и повышенное обобщающе-символическое значение – это образ России в целом – и философскую глубину аналитического исследования коренной проблемы русской жизни.
В «Отрывке…» подспудно затронуты все аспекты проблемы крепостного права, актуальные для русской публицистики 1769-1774 гг. Само описание деревни Разоренной скрыто содержит в себе экономический аспект проблемы. Нравственные последствия рабовладения для крепостных и крепостников, низведенных страхом и властью до уровня животных, очевидны в ряде эпизодов «Отрывка…»:
О блаженная добродетель любовь ко ближнему, ты употребляешься во зло: глупые помещики сих бедных рабов изъявляют тебя более к лошадям и собакам, а не к человекам! (295)
Вскоре после того пришли два мальчика и две девочки ‹…› и столь были дики и застращены именем барина, что боялись подойти к моей коляске. ‹…› Вот плоды жестокости и страха: о вы, худые и жестокосердые господа! вы дожили до того несчастия, что подобные вам человеки боятся вас как диких зверей! (297).
Но все-таки главный аспект проблемы крепостного права в «Отрывке…» – тот, с которого новиковские издания начинали ее обсуждение: это неприятие крепостного права как основы государственного устройства России с точки зрения правового сознания, руководствующегося просветительской концепцией естественного права. Этот уровень проблемы раскрывается в центральном композиционном эпизоде «Отрывка…», в так называемой «аллегории трех младенцев» – описании картины, увиденной путешественником в крестьянской избе:
Пришед к лукошкам, прицепленным веревками к шестам, в которых лежали без всякого призрения оставленные младенцы, увидел я, что у одного упал сосок с молоком; я его поправил, и он успокоился. Другого нашел обернувшего лицом к подушонке ‹…›; я тотчас его оборотил и увидел, что без скорыя помощи лишился бы он жизни ‹…›; скоро и этот успокоился. Подошед к третьему, увидел, что он был распеленан; ‹…› солома, на которой он лежал, также его колола, и он произносил пронзающий крик. Я оказал и этому услугу, ‹…› спеленал его ‹…›, поправил солому ‹…›: замолчал и этот (296).
Если бы автор «Отрывка…» остановился на этом описании, изображение трех покинутых в избе младенцев осталось бы просто бытовой картинкой, которая, безусловно, вызывала бы сочувствие читателя к обездоленным, но не превышала бы статуса частного жизненного факта. Но те размышления, на которые путешественника наводит зрелище мучений невинных младенцев, поднимают этот частный факт до высоты идеологического тезиса и философского обобщения:
Смотря на сих младенцев и входя в бедность состояния сих людей, вскричал я: – Жестокосердный тиран, отъемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги: приносит ли он о том жалобы? – Нет: он спокойно взирает на свои оковы. Чего же требует он? – Необходимо нужного только пропитания. Другой произносил вопль о том, чтобы только не отнимали у него жизнь. Третий вопиял к человечеству, чтобы его не мучили (296).
Так бытописательная картинка приобретает у Радищева смысл аллегорический: три младенца, лишенные средств к поддержанию жизни, становятся символом русского крепостного крестьянства, лишенного своих естественных прав русским гражданским законодательством. Юридическое, гражданское право – это гарант права естественного, законодательное обеспечение его осуществления для каждого члена общества. Но русское законодательство, отдающее жизнь и смерть, тело и душу крестьянина в полную власть помещику, лишает огромную часть нации ее естественного права.
Именно в этом выводе, который неуклонно следует из радищевской аллегории, заключается основной пафос «Отрывка…». Пожалуй, можно сказать, что «Отрывок…», единственная из всех публикаций сатирических изданий по крестьянскому вопросу, ставит его как политическую и юридическую проблему русской государственности, соединяет в одном тексте бытовой и бытийный, конкретный и абстрактный уровни русской реальности. Этот универсализм в постановке проблемы придает «Отрывку…» смысл кульминации в полемике сатирических журналов по крестьянскому вопросу. И эта кульминация является не только идеологической, но и эстетической, поскольку «Отрывок…» отличается и последовательностью публицистической мысли, и явным синтетизмом стилевых традиций, которые наметились в публицистике новиковских изданий и генетически восходят к старшим жанровым традициям русской литературы XVIII в.: сатирической и одической типологии художественной образности.
Одический и сатирический мирообразы в публицистике «Трутня» и «Живописца»
Обе центральные проблемы «Трутня» и «Живописца» – сатирическое обличение власти и крестьянский вопрос, впервые поставленный Новиковым в его журналах как проблема безграничной и бесконтрольной власти одних людей над другими, изначально глубоко и прочно связаны между собой как лицевая и оборотная стороны одного и того же понятия абсолютной власти, определяющего государственное устройство России и ее частный быт. Именно это понятие в своих бытовой и идеологической вариациях подспудно организует скрытую мысль изданий Новикова и материализуется в качественно новом с точки зрения своей эстетической природы сквозном образе «Трутня» и «Живописца» – тиране-помещике.
Эта контаминация двух разных эстетических сфер (ибо образ тирана находился до сих пор в компетенции высокой трагедии, а помещик безраздельно принадлежал сатирико-комедийной традиции) появляется уже в листе 6 «Трутня»:
Змеян увещевает, чтобы всякий помещик ‹…› был тираном своим служителям, ‹…› чтоб они были голодны, наги и босы и чтоб одна жестокость содержала сих зверей в порядке и послушании (61).
Характерной приметой этого образа является постоянная акцептация атрибутов высшей, почти божественной власти, ставящая между помещиком и царем, помещиком и божеством знак почти полного равенства:
Безрассуд ‹…› не удостоивает их наклонением своей головы, когда они по восточному обыкновению пред ним по земле распростираются. ‹…› Бедные крестьяне любить его как отца не смеют, но, почитая в нем своего тирана, его трепещут. ‹…› Они и думать не смеют, что у них есть что-нибудь собственное, но говорят: это не мое, но божие и господское (135).
Такое совмещение бытового и бытийного статусов властителя в одной литературной маске дает неограниченные возможности их ассоциативного варьирования и столь же неограниченную способность их к взаимной подмене, ибо полное тождество принципа самовластия и абсолютного произвола открывает над низшим уровнем власти высший и наоборот. Любопытно, что в развитии образа тирана-помещика на страницах «Трутня» и «Живописца» задействованы и обе стилевые традиции, с которыми он ассоциативно связан: сатирико-комедийный бытописательный и одо-трагедийный риторический мирообразы в равной мере окружают персонажей, воплощающих образ-контаминацию.
Ориентация на ораторское слово явственно обнаруживается в стилистике «Отрывка путешествия в *** И. Т.», в котором по правилам риторики выстроен ряд фрагментов, непосредственно касающихся проблемы тиранической власти помещика над крестьянами: в повествование о путешествии автора в деревню Разоренную вклинивается стилизованная под звучащее слово прямая монологическая речь, сложенная из риторических вопросов и восклицаний, обильно уснащенная аллегориями, архаизмами, инверсиями и повторами, не оставляющими никаких сомнений относительно той стилевой традиции, к которой она тяготеет:
О господство! Ты тиранствуешь над подобными себе человеками. О блаженная добродетель любови к ближнему, ты употребляешься во зло ‹…›. Удалитесь от меня, ласкательство и пристрастие ‹…›: истина пером моим руководствует! ‹…› Вскричал я: жестокосердный тиран, отьемлющий у крестьян насущный хлеб и последнее спокойство! Посмотри, чего требуют сии младенцы! У одного связаны руки и ноги; приносит ли он о том жалобы? – Нет, он спокойно взирает на свои оковы ‹…›. Помещики, – сказал я, – вы никакого не имеете попечения о сохранении здоровья своих кормильцев! (294-296).
Напротив, бытовой аспект проблемы дает на страницах «Трутня» и «Живописца» многочисленные пластические образы тиранов-помещиков, которые явно ориентированы на устное разговорное просторечие:
Что это у вас, Фалалеюшка, делается, никак с ума сошли все дворяне? ‹…› Что за живописец такой у вас проявился! Какой-нибудь немец, а православный этого не написал бы. Говорит, что помещики мучат крестьян и называет их тиранами, а того, проклятый, и не знает, что в старину тираны бывали некрещеные и мучили святых; ‹…› а наши мужики ведь не святые; как же нам быть тиранами? (336).
По сравнению с широко представленным на страницах «Трутня» и «Живописца» бытовым аспектом проблемы власти, который реализован в многочисленных сатирических персонажах – «тиранах своих рабов» и пластических нравоописательных картинах чрезвычайной стилевой яркости, идеологический аспект (т. е. применение понятия тирании к верховной государственной власти) занимает в журналах Новикова несравненно меньше места, что и понятно. Собственно, он возникает лишь единожды, в самом начале «Трутня», но этот ассоциативный перенос мгновенно освещает корень проблемы:
Госпожа Всякая Всячина написала, что пятый лист «Трутня» уничтожает. И это как-то сказано не по-русски: уничтожить, то есть в ничто превратить, есть слово самовластию свойственное; а таким безделицам, как ее листки, никакая власть неприлична; уничтожает верхняя власть какое-нибудь право другим. ‹…› сих же листков множество носится по рукам, и так их всех ей уничтожить не можно (69).
На обоих уровнях проблемы власти – бытовом и бытийном – тирания осмысляется как род болезни: не случайно и сама формула «тиран-помещик» родилась в знаменитых пародийных «Рецептах» и «Лечебниках» Новикова[89]89
О мотиве болезни власти в журналах Новикова и в «Недоросле» см.: Стенник Ю. В. Русская сатира XVIII в. Л., 1985. С. 330.
[Закрыть]. Мотив болезни высшего уровня власти особенно заметен в полемических материалах «Трутня»:
Совет ее [«Всякой всячины»] чтобы мне лечиться, не знаю, мне ли больше приличен, или сей госпоже. Она, сказав, что на пятый лист «Трутня» ответствовать не хочет, отвечала на оный всем своим сердцем и умом, и вся желчь в оном письме сделалась видна. Когда же она забывается и так мокротлива, что часто не туда плюет, куда надлежит, то кажется, для очищения ее мыслей и внутренности небесполезно ей и полечиться (69).
Констатация патологического состояния верховной власти в «Трутне» и «Живописце» влечет за собой естественную попытку постановки диагноза:
Для чего человек, который заражен самолюбием, ‹…› не берет он книги в руки? Он бы тут много увидел, чего ласкатели никогда не говорят (119-120).
Таким образом, болезнь верховной власти, диагностируемая как «неограниченное самолюбие» (неограниченное самовластие) имеет своими причинами невежество и склонность к лести. Что же касается болезни низшего уровня власти, то она однозначно диагностирована через симптом злоупотребления ею: формула, впервые высказанная устами Правдина, корреспондента «Трутня», без всяких изменений переходит и в журнал «Живописец»:
Тут описан помещик, не имеющий ни здравого рассуждения, ни любви к человечеству, ни сожаления к подобным себе, и, следовательно, описан дворянин, власть свою и преимущество дворянское во зло употребляющий (327).
В корне как будто иной болезни власти низшего уровня – то же самое невежество. Как гласит редакторское примечание Новикова к публикации «Отрывка путешествия в *** И. Т.», «‹…› не осмелился бы я читателя моего поподчивать с этого блюда, потому что оно приготовлено очень солоно и для вкуса благородных невежд горьковато» (298). Этот общий диагноз порождает в публицистике новиковских журналов мотив «худого воспитания» и его следствий: фигуры учителя, недостойного своей профессии и его «худовоспитанника» – ключевые в портретной галерее порочных персонажей «Трутня» и «Живописца».
Любопытно, что оба направления, в которых открывается патология русской власти, подтверждены и оттенены в новиковских журналах публикацией бесспорно фонвизинского текста. Если авторство «Копий с отписок», «Писем к Фалалею» и других материалов «Трутня» и «Живописца», атрибутируемых Фонвизину, представляется до некоторой степени дискуссионной проблемой, то «Слово на выздоровление ‹…› Великого Князя Павла Петровича» («Живописец», 1773; № 3-4) безусловно принадлежит перу автора «Недоросля».
Рекомендации Павлу Петровичу «быть властелином над страстями своими» и помнить, что «тот не может владеть другими со славою, кто собой владеть не может», конкретизируют понятие «страсти» самодержца очень четко: «Внимай одной истине и чти лесть изменою» (391). Слово «самолюбие» не произнесено, но недвусмысленно подразумевается, особенно в сопоставлении с панегириком Екатерине, который имеет не столько констатирующий, сколько рекомендательный характер: «Блаженна та страна, где царь владеет и сердцами народа, и своим собственным!» (389). На примере же отношений графа Н. И. Панина и его царственного воспитанника в «Слове» Фонвизина развернута идея истинного воспитания, соединяющего просвещение ума с воспитанием добродетельного сердца:
Но ты, который благим воспитанием вселил в него сие драгоценное нам чувство, муж истинного разума и честности превыше нравов сего века ‹…›! Ты вкоренил в душу его те добродетели, кои составляют счастие народа и должность государя! ‹…› Любя его нежно, насадя в душе его добродетель, просветя разум его, явя в нем человека и уготовляя государя ‹…› (390).
«Слово» Фонвизина, в сопоставлении с многочисленными сатирическими материалами «Трутня» и «Живописца», вновь актуализирует оппозицию бытописательной пластики отрицания и идеологизированной риторики утверждения. Для создания образа идеала в нем вновь мобилизованы установки панегирического ораторского слова; сама же добродетель явлена не в облике, но исключительно в сфере идеи и образа мыслей. В отличие от изобразительного слова пластической бытовой картины мира, слово речи Фонвизина имеет интеллектуально-идеологический характер и самоценно в своей выразительной функции формулировки принципов и понятий.
Так в публицистике новиковских журналов снова сталкиваются и противостоят друг другу два мирообраза, созданные разными художественными средствами: портретное бытописание факультативным изобразительным словом и ораторское говорение словом самоценно значимым.
Эскизные пластические образы бытовых звероподобных тиранов-помещиков и подспудный бытовой образ самовластительной тиранки-монархини, больных невежеством от худого воспитания и самолюбием (самовластием) от склонности к лести; господа-рабы и рабы-крепостные соседствуют в листах «Трутня» и «Живописца» с Правдиным, Правдулюбовым, Чистосердовым и т. п.; густой бытовой колорит «Копий с отписок» и «Писем к Фалалею» – с патетикой «Отрывка путешествия в *** И. Т.» и «Слова на выздоровление…», оригинальные прозаические сатиры – с панегирической ораторией и торжественной одой.
Если монарх у Новикова становится сатирически осмеиваемым и потому – совершенно бытовым образом, то образ частного человека в его нравственных и интеллектуальных свойствах поднимается до нематериальных идеологических высот, практически совпадая с его высоким словом. В сатирической публицистике «Трутня» и «Живописца» рождаются положительные герои екатерининской эпохи, защитник угнетенных Правдин и идеолог чести и добродетели Стародум. Сохраняя статус частных людей, эти герои выходят за пределы бытового мирообраза новиковских сатир: с чисто эстетической точки зрения они представляют собой вариацию одо-трагедийной типологии художественной образности.
Если теперь попытаться определить основное значение сатирических журналов Новикова для дальнейшей эволюции идеолого-эстетических факторов русской литературы XVIII в., то оно будет заключаться в следующем. Во-первых, это новое отношение к самой проблеме русской государственности и власти: именно Новиков как редактор «Трутня» и «Живописца» сумел впервые увидеть зеркальный отблеск ее уродства в уродливых лицах ее самых мелких и незначительных носителей. А отсюда уже остался один шаг к тому, чтобы за высокой идеей богоданной государственной власти рассмотреть искаженное гримасой чисто человеческого несовершенства частное лицо самодержца. И та простая истина, что монарх – человек, явилась русскому сознанию впервые в своем сатирическом варианте, хотя позже ей предстояло перейти в одический ряд.
Во-вторых, для подготовки поэтики русской литературы последующих лет неоценимое значение имел особенный, ассоциативно-непрямой способ выражения публицистической мысли специфически художественными средствами: компоновкой разнородных материалов, рождающей на стыке разных частных смыслов новый и обширнейший, – принцип, основанный на игре прямого значения высказывания с косвенно подразумеваемым, которая нередко превращается в игру утверждения и отрицания, обнаруживающую за одой и панегириком сатиру и хулу, претворяющую смех в слезы и творящую из жизнеподобной реальности абсурд, где все не то, чем кажется. Во многом подобная эстетическая изощренность – результат не зависящей от намерений редактора умственной эквилибристики, продиктованной социальным статусом и неограниченными репрессивными возможностями оппонента. Но своего эстетического смысла этот результат, тем не менее, не теряет: оба издания Новикова представляют собой текстовые единства абсолютно нового для русской литературы XVIII в. качества: не прямое декларативное высказывание, а косвенно-ассоциативное выражение авторской мысли, которая нигде не высказана, но с математической неизбежностью рождается в сфере рецепции, вне журнального текста и над ним из столкновения смыслов разных публикаций.
Наконец, в-третьих, это диапазон охвата русской жизни от крепостного Филатки до Екатерины II, от Безрассудов и Змеянов до Правдулюбова и Правдина, повязанных между собою одной и той же проблемой уродливой русской власти, под которой одни стонут, другие, осуществляя ее на практике, «секут нещадно», а третьи анализируют ее «употребление во зло» в ораторско-публицистическом слове, открывая глубинные причины ее уродливого тиранического характера. Все это сделало русскую сатирическую журналистику Новикова необходимым переходным звеном в национальной литературной традиции: колоссальный качественный эстетический скачок в литературе 1780-1790-х гг. немыслим без новиковских идеологе-эстетических открытий. И глубоко не случайно то, что двое писателей из плеяды гигантов литературы конца века, Фонвизин и Радищев, были сотрудниками новиковских журналов, а третий – Крылов, наследовал традиции новиковской публицистики в своих периодических изданиях.
Однако до того как станет очевидна эта эстетическая преемственность поздней прозы XVIII в. по отношению к сатирической публицистике 1769-1774 гг., аналогичный процесс взаимопроникновения бытового и бытийного мирообразов развернется еще в двух новых жанровых моделях русской литературы переходного периода: романе и лиро-эпической поэме, которые далеко не случайно оказываются параллельными на этой стадии жанрового развития русской литературы XVIII в. До того как русская литература обогатилась оригинальными романом и лиро-эпической поэмой в своих чистых жанровых разновидностях, синкретическая идея стихотворного эпоса, соединяющего роман со стихотворной формой, нашла свое воплощение в «Тилемахиде» Тредиаковского, открывшей эту линию жанровой эволюции русской литературы в первой половине 1760-х гг.