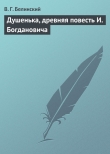Текст книги "История русской литературы XVIII века"
Автор книги: О. Лебедева
Жанры:
Литературоведение
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 39 страниц)
Силлабо-тоника индивидуального метра. Стихи ломоносовских метров
С 1735 г. Тредиаковский, осуществивший тоническую реформу силлабического стиха и выработавший свой собственный метр, начинает писать стихи этим метром. Приверженность к нему он сохранил на всю жизнь, хотя к 1750-м гг. он освоил ломоносовские метры, а к началу 1760-х разработал метрический аналог античного гекзаметра – шестистопный дактило-хореический стих.
Именно стихи, написанные собственным метром Тредиаковского, наиболее показательны для его индивидуальной поэтической манеры; в них сложились и основные стилевые закономерности лирики Тредиаковского, сделавшие его неповторимый стиль объектом многочисленных насмешек и пародий и послужившие главной причиной стойкой репутации Тредиаковского как плохого поэта.
Между тем, он поэт не плохой, а весьма своеобразный, с четкими (хотя и совершенно небесспорными) критериями нормы поэтического стиля. Изначально эти критерии были обусловлены тем, что Тредиаковский получил фундаментальное классическое образование в католической иезуитской коллегии. Как никто из своих современников он был сведущ в древних языках и широко начитан в латинской поэзии. В известной мере латинское стихосложение осталось для него на всю жизнь идеальной стихотворной нормой. И русские стихи, особенно стихи своего излюбленного метра, он пытался приспособить к этой идеальной норме, воспользовавшись законами латинского стихосложения[51]51
Подробнее об этом см.: Гуковский Г. А. Русская литература XVIII века. С. 70—74.
[Закрыть].
Первые стихотворения, написанные тонизированным «эксаметром хореическим» Тредиаковский приложил в качестве примеров нового стихотворства к своему «Новому и краткому способу ‹…›». Это прежде всего эстетический манифест «Эпистола от Российской поэзии к Аполлину», в котором еще раз перечислены заслуги Тредиаковского как реформатора русского стихосложения, «Сонет», две элегии (Элегия I «Не возможно сердцу, ах! не иметь печали» и Элегия II «Кто толь бедному подаст помощи мне руку») и еще несколько мелких стихотворений («Рондо», «Мадригал», эпиграммы). В этих текстах, относящихся к 1735 г., сложились основные особенности индивидуального стиля Тредиаковского.
Первое, что обращает на себя внимание в этих стихотворениях – намеренная затрудненность стихотворной речи, темнота смысла, отчасти реализующая классицистическую интерпретацию стихов как «украшенной речи» и «побежденной трудности», отчасти же являющаяся результатом ориентации Тредиаковского на нормы латинского стихосложения, которое не только допускало, но и требовало инверсии – нарушения порядка слов в синтаксических единицах. Инверсия – одна из характернейших примет индивидуального стиля Тредиаковского, которая главным образом и создает впечатление затрудненности стихотворной речи:
Девяти парнасских сестр, купно Геликона,
О начальник Аполлин, и пермесска звона! ‹…›
Посылаю ти сию, Росска поэзия,
Кланяяся до земли, должно что, самыя. ‹…›
Галлы ею в свет уже славны пронеслися,
Цесарем что, но давно, варвары звалися.
(«Эпистола от российской поэзии к Аполлину», 390-391).
Подлежащее, разрывающее ряд однородных членов (О Аполлин, начальник девяти парнасских сестр, купно Геликона и пермесска звона), инверсия подлежащего и сказуемого ([Я] посылаю ти, Росска поэзия, сию [эпистолу]), разрыв определяемого слова и определения обстоятельством образа действия, которое относится к сказуемому (кланяясь, что должно, до самыя земли) – все это типичные приемы инверсии в поэтической речи Тредиаковского, которая из-за них приобретает вид почти что иностранного текста, требующего перевода на обычный разговорный язык. Но именно это – максимальное отделение стихотворной речи от прозаической – и было целью Тредиаковского: его синтаксис – это полная стилевая аналогия его ритмической реформе стихосложения, преследовавшей цель принципиального расподобления стихотворного ритма и ритма прозы.
Приметой латинской нормы стихотворной речи была и исключительная любовь Тредиаковского к восклицательным междометиям, которые могли появляться в его стихах в любом месте, независимо от смысла стиха:
Не возможно сердцу, ах! не иметь печали;
Очи такожде еще плакать не престали
(Элегия I, 397)
Неисцельно поразив в сердце мя стрелою,
Непрестанною любви мучим, ах! бедою
(Элегия II, 399)
Счастлив о! де ла Фонтен басен был в прилоге!
(Эпистола…, 391).
Впрочем, эти междометия не только обозначали особую эмоциональную приподнятость стихотворной речи; у них было и еще одно, гораздо более практическое и, можно сказать, техническое назначение: подогнать стих к нужному ритму чередования ударных и безударных слогов. По мере овладения техникой стиха количество этих междометий у Тредиаковского заметно сокращается; в ранних же его силлабо-тонических стихах междометий и выполняющих те же функции вспомогательных частей речи («так», «что», «уж», союзов «и», расположенных без всякой синтаксической необходимости, глаголов-связок, местоименных форм и др.) настолько много, что это тоже существенно характеризует индивидуальный стиль Тредиаковского, не только намеренно усложненный, но и вынужденно многословный.
Характерным признаком латинского стихосложения является вариативность произношения слова: в стихах, где принципиально важна позиция долгого гласного, и в прозе, где она не имеет жесткой закрепленности, слова произносились по-разному с акцентологической точки зрения: поэтическое ударение в латинском слове во многих случаях не совпадало с реальным ударением. В случае с Тредиаковским это свойство латинского стихосложения отозвалось возможностью смещения ударения в слове. Согласно закономерности чередования ударных и безударных слогов в стихе, Тредиаковский считает возможным менять позицию ударения:
Тако дерзостный корабль море на пространном,
Вихрями со всех сторон страшно взволнованном ‹…›
Отдается наконец вихрей тех на волю
И в известнейшу корысть жидкому весь полю
( Элегия I, 397).
Милосердия на мя сын богини злится,
Жесточайшим отчасу тот мне становится
(Элегия II, 399).
И уже здесь, в этой ранней силлабо-тонике Тредиаковского, обозначилась, может быть, главная особенность его поэтического стиля, сослужившая ему как литератору самую плохую службу: безграничной свободе инверсии и безграничной свободе в обращении со смыслом и звуковым составом слова соответствует такая же безграничная свобода в словосочетаниях. Тредиаковскому ничто не мешает совместить в пределах стиха самый архаический славянизм с самым просторечным и даже грубым словом. Это свойство индивидуальной стилевой нормы Тредиаковского стало особенно заметно после того, как Ломоносов систематизировал открытия Тредиаковского в области русского стихосложения, и Тредиаковский, освоив ломоносовские метры, стал писать стихи в обеих поэтических системах – своей и ломоносовской.
В том случае, когда Тредиаковский пишет в системе ломоносовской метрики, он свободно и спокойно держится в пределах общепоэтических стилевых норм; так могли бы писать и Ломоносов, и Сумароков; это хороший усредненный поэтический стиль эпохи:
Воззрим сначала мы на всю огромность света,
На весь округ его, достигнет коль примета.
Воззрим на дол земли, на коей мы живем,
По коей ходим все, где смертными слывем (213).
Но как только Тредиаковский начинает писать стихи своим метром, так сразу появляются все характерные приметы его индивидуальной стилевой нормы: инверсии, многословие, вспомогательные слова, стилевые диссонансы в словосочетаниях:
Всем известно вещество грубых тел тримерньгх,
Нет о бытности его сцептиков неверных.
В веществе том самом, из которого весь свет,
Праздность токмо грунтом, действенности сроду нет (199).
От рамен произросли по странам две руки.
Сими каковы творим и колики штуки! (269).
Именно эта полемическая тенденция определяет своеобразие силлабо-тонической лирики Тредиаковского, усваивающей ломоносовские метры. Тредиаковский не мог не видеть, что за Ломоносовым, а не за ним пошла русская поэзия, что он и сам должен был освоить ломоносовские метры, чтобы остаться в литературе. И о том, что поэтического дарования Тредиаковскому на овладение ломоносовской системой вполне хватало, свидетельствует целый ряд силлабо-тонических текстов, относящихся к началу 1750-х гг. Будучи с формальной точки зрения безупречными силлабо-тоническими текстами, эти стихи предлагают вместе с тем и оригинальные жанровые варианты торжественной и духовной оды:
Ода благодарственная
Монархиня велика!
Зерцало героинь!
Не оных общих лика –
Ты всех верьх благостынь.
Тебе, с тимпаны стройно
Гласят трубы достойно (181).
Парафразис вторыя песни Моисеевы
Вонми, о! небо, и реку,
Земля да слышит уст глаголы:
Как дождь я словом потеку;
И снидут, как вода к цветку
Мои вещания на долы (185).
Постоянное стремление Тредиаковского к поэтическим экспериментам выразилось в этих и подобных им стихах в осознанном отталкивании от канона: меняя метрику и строфику торжественной и духовной оды («Ода благодарственная» написана трехстопным ямбом, а в «Парафразисе…» дан образец оригинальной пятистишной строфы с удвоением одной из рифмующихся строк), Тредиаковский добивался вариативности лирических интонаций оды, избегая ритмической монотонии, которой чреват жесткий формальный ломоносовский канон. В 1750-х гг. Тредиаковский переписал силлабо-тоническим стихом несколько своих ранних силлабических текстов, которые он считал особенно важными, в том числе и написанную в 1734 г. «Оду торжественную о сдаче города Гданска», которая на 5 лет опередила первую торжественную оду Ломоносова на взятие Хотина (1739) и, между прочим, послужила для Ломоносова образцом канонизированной им впоследствии десятистишной одической строфы. К 1750-м гг. торжественная ода Ломоносова уже четко определилась в своих жанровых и метрических признаках, но, тем не менее, Тредиаковский, переделывая свою гданскую оду и сохраняя ее строфику, демонстративно пишет ее не ломоносовским ямбом, а своим любимым хореем:
Кое трезвое мне пианство
Слово дает к славной причине?
Чистое Парнаса убранство,
Музы! не вас ли вижу ныне?
И звон ваших струн сладкогласных,
И силу ликов слышу красных;
Все чинит во мне речь избранну.
Народы! радостно внемлите;
Бурливые ветры! молчите:
Храбру прославлять хощу Анну (1734. С. 129).
Кое странное пианство
К пению мой глас бодрит!
Вы парнасское убранство,
Музы! ум не вас ли зрит?
Струны ваши сладкогласны,
Меру, лики слышу красны;
Пламень в мыслях восстает.
О! народы, все внемлите;
Бурны ветры! не шумите:
Анну стих мой воспоет (1752. С. 453).
Но слишком часто подобные эксперименты оканчивались плачевно для литературной репутации Тредиаковского: пока он держался общеупотребительного поэтического стиля, он писал нормальные стихи, средние или даже хорошие, но как только он пытался внести свою индивидуальную стилевую норму в уже устоявшуюся жанровую форму, он создавал очередной повод для остроумия Сумарокова или последующих поколений пародистов.
Так, одним из самых смелых жанровых экспериментов Тредиаковского является попытка перевести в чисто лирическую сферу поэтику ораторской торжественной оды – тоже полемическая акция против ломоносовской нормы. Используя метрику, строфику и архаизированную лексику торжественной оды, ориентированной на государственную политическую проблематику, Тредиаковский написал пейзажную оду «Вешнее Тепло», где довел до логического предела стилевые тенденции одического языка, максимально архаизированного по своему стилевому составу. Но если в ломоносовской оде архаизмы, лексически оформляющие абстрактную понятийную образность торжественной оды, смотрятся вполне естественно, то описательная пейзажная ода, тяготеющая к конкретно-изобразительной пластике, противится им и по самому своему жанровому определению, и по силе ассоциативной традиции русской литературы XVIII в., связывающей пластический тип образности с разговорным просторечием сатиры. Тредиаковский же явно перебрал по части славянизации одической лексики: соловей в «Вешнем Тепле» назван «славий», но его пение – «хлестом» («славий хлещет»), «хворостина» – «хврастиной»; усеченные формы славянизмов «благовонность» – «вонность» и «благоухание» – «ухание» рядом с неологизмом «вноздрять» (нюхать) производят впечатление почти что просторечных слов. И даже сочетания славянизмов выглядят таким же резким стилевым диссонансом, как сочетание славянизма с просторечным русизмом:
Исшел и пастырь в злачны луги
Из хижин, где был чадный мрак;
Сел каждый близ своей подруги,
Осклабенный склонив к ней зрак (353).
Уже у современников Тредиаковского подобные стихи и стилевые эксперименты вызывали чувства, далекие от восхищения. Однако же, как известно, от великого до смешного – один шаг; и в обратном исчислении – от смешного до великого – расстояние ничуть не больше. При всем своеобразии своей индивидуальной стилевой нормы Тредиаковский не остался без наследников. В своей статье «В чем же, наконец, существо, русской поэзии и в чем ее особенность» (1846) Гоголь, характеризуя стиль Державина, заметил: «Все у него крупно. Слог у него так крупен, как ни у кого из наших поэтов. Разъяв анатомическим ножом, увидишь, что это происходит от необыкновенного соединения самых высоких слов с самыми низкими и простыми, на что бы никто не отважился, кроме Державина»[52]52
Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 7 т. М, 1967. Т. 6. С. 373.
[Закрыть].
Однако, как мы видим, до Державина именно на это отважился Тредиаковский – и тот же самый прием, который у Тредиаковского слишком чреват комизмом, у Державина станет воплощением величия его поэтической манеры и мощи стиля. И позиция намеренно затрудненной речи тоже не осталась индивидуальным свойством Тредиаковского. Правда, не в поэзии, а в прозе ее подхватил Радищев, намеренно затруднивший стиль своего «Путешествия из Петербурга в Москву» огромным количеством лексических и синтаксических архаизмов – и, конечно, совершенно не случайно то, что в качестве эпиграфа «Путешествию…» предпослан стих Тредиаковского, обозначающий ту литературную традицию, наследником которой считал себя Радищев.
Переводы западноевропейской прозы. «Езда в остров Любви» как жанровый прообраз романа «воспитания чувств»
Другой важнейшей отраслью литературной деятельности Тредиаковского были переводы западноевропейской прозы. Его трудамиранняя русская повествовательная традиция обогатилась тремя переводами западноевропейских романов – «Езда в остров Любви» Таллемана (написан в 1663 г.), «Аргенида» Барклая (1621) и «Странствие Телемака» Фенелона (1699). В переводах Тредиаковского они увидели свет соответственно в 1730, 1751 и 1766 гг. Эти даты на первый взгляд свидетельствуют о том, что Тредиаковский безнадежно архаичен в своих литературных пристрастиях: разрыв между временем создания текста и временем его перевода на русский язык составляет в среднем около века, и в то время, когда Тредиаковский перевел «Езду в остров Любви», вся Европа зачитывалась авантюрно-плутовским романом Лесажа «Жиль Блаз», а автор другого знаменитого романа – семейной хроники «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинг как раз дебютировал как литератор. Однако эта архаичность литературных пристрастий Тредиаковского – только кажущаяся. Во всех трех случаях его выбор строго мотивирован особенностями национального литературного процесса.
Несмотря на свою кажущуюся архаичность, выбор Тредиаковским «Езды в остров Любви» демонстрирует острое литературное чутье молодого писателя и точное понимание запросов современных ему читателей. Так же, как военно-морской и торговый флот был символом всей новизны русской государственности, политики и экономики, тяга к галантной любовной культуре Запада и новое качество национального любовного быта, отразившееся и в безавторских гисториях, и в любовных песнях Петровской эпохи, стала знаком новизны эмоциональной культуры русского общества и показателем процесса формирования нового типа личности, порожденного эпохой государственных преобразований. Энциклопедия любовных ситуаций и оттенков любовной страсти, которую роман Таллемана предлагал в аллегорической форме, была воспринята в России как своего рода концентрат современной эмоциональной культуры и своеобразный кодекс любовного поведения русского человека новой культурной ориентации. Поскольку это была единственная печатная книга такого рода и единственный светский роман русской литературы 1730-х гг., его значение было невероятно большим; как заметил Ю. М. Лотман, «Езда в остров Любви» стала «Единственным Романом»[53]53
Лотман Ю. М. Избранные статьи: В 3 т. М., 1992. Т. 2. С. 27.
[Закрыть].
Роман Таллемана написан в форме двух писем героя, Тирсиса, к своему другу Лициде; в них повествуется о путешествии, которое Тирсис в сопровождении Купидона совершил по острову Любви, о встрече с красавицей Аминтой и бурной страсти, которую она вызвала у Тирсиса; об измене Аминты и попытках Тирсиса утешиться в любви сразу к двум девушкам, Филисе и Ирисе, о том, наконец, как Тирсис покинул остров Любви, где он знал сердечную муку, и последовал за богиней Славой. Примечательно, что сюжет романа развивается сразу в двух литературных формах – повествовательной прозе и поэзии: всем перипетиям странствия Тирсиса по острову Любви неизменно сопутствуют стихотворные вставки.
География острова Любви тесно связана с разными стадиями любовной страсти: путешествуя от города к городу, посещая деревни и замки, идя вдоль берегов реки или озера, поднимаясь на гору, герой романа последовательно проходит все ступени любовного чувства: его путешествие начинается с местечка Малые прислуги, где Тирсис видит во сне Аминту и встречается с Купидоном; последний ведет его в Объявление, то есть объяснение в любви; однако по дороге они встречаются с Почтением, которое, упрекая Тирсиса в поспешности, ведет их в замок Молчаливости, где правит его дочь Предосторожность:
Сей, что ты видишь так важна,
Назван от всех Почтение;
Мать его есть Любовь кажна;
Отец – само Любление ‹…›
Сия ж, что видишь, другая, ‹…›
Предосторожность драгая (103).
В крепости Молчаливости Тирсис видит Аминту, и она догадывается о его любви, потому что на этой стадии любовного чувства влюбленные объясняются не словами, а глазами и вздохами:
В сей-то крепости все употребляют
Языком немым, а о всем все знают:
Ибо хоть без слов всегда он вещает,
Но что в сердце есть, все он открывает (106).
Догадавшись о любви Тирсиса, Аминта удаляется в пещеру Жестокости, возле которой поток Любовных слез («Сему потоку быть стало // Слез любовничьих начало» – 107) впадает в озеро Отчаяние, последний приют несчастных влюбленных («Препроводивши многи дни свои в печали, // Приходят к тому они, дабы жизнь скончали» – 107), и Тирсис близок к тому, чтобы броситься в это озеро. Но дева Жалость выводит Аминту из пещеры Жестокости, и влюбленные попадают в замок Искренности, где происходит объяснение. Далее путь ведет их в замок Прямыя Роскоши – апофеоз любви, где сбываются все желания. Но с вершины самой высокой горы, Пустыни Воспоминовения, Тирсис видит неверную Аминту с другим возлюбленным в замке Прямыя Роскоши. Его отчаяние пытаются умерить Презор (гордость) и Глазолюбность (кокетство); Презор взывает к его чувству чести и достоинства, а Глазолюбность посылает в местечки Беспристрастность и Забава, где можно любить без муки. В результате безутешный Тирсис, утративший Аминту, покидает остров Любви, следуя за богиней Славой:
Не кажи, мое сердце, надобно, чтоб Слава
Больше тысячи Филис возымела права ‹…›
Ты выграшь сей пременой: Слава паче красна,
Нежель сто Аминт, Ирис, Сильвий и всем ясна (123).
Таким образом, разные стадии любовного чувства, переживаемого Тирсисом на острове Любви, воплощены в разных географических пунктах, а персонажи романа – Почтение, Жалость, Досада, Честь и Стыд, Рок, Презор, Купидон – это аллегорические воплощения любовных эмоций. Последовательно встречаясь с Тирсисом и становясь его временными спутниками, эти персонажи символизируют в своих фигурах последовательное развитие любовной страсти – от зарождения любви до ее окончания. В тексте Таллемана идеальная, понятийная реальность эмоциональной духовной жизни воссоздана при помощи пластических воплощений абстрактного понятия в аллегорическом пейзаже (скала, пещера, озеро, поток) или аллегорической фигуре персонажа, характер которого определяется тем понятием, которое он воплощает (Почтение, Предосторожность, Жалость, Кокетство и др.). Таким образом, роман Таллемана оперирует теми же самыми уровнями реальности – идеологическим, или эмоционально понятийным, и материальным, пластическим, из которых складывалась целостная картина мира в эстетическом сознании XVIII в.
Еще одной причиной, определившей успех романа «Езда в остров Любви», была подчеркнутая сосредоточенность его сюжета в мире частных и интимных человеческих переживаний, как нельзя лучше соответствовавшая обостренному личностному чувству, характерному для массового культурного сознания начала XVIII в. Однако и здесь мы можем наблюдать характерную для эпохи двойственность: при том, что любовь как таковая – это чувство сугубо личное и индивидуальное, оно является и универсальным, общечеловеческим чувством:
Куды всякой человек в свое время шлется.
Стары и молодые, князья и подданны,
Дабы видеть сей остров, волили быть странны ‹…›
Разно сухой путь «оды ведет, также водный,
И от всех стран в сей остров есть вход пресвободный (101).
Следовательно, как это ни выглядит на первый взгляд парадоксальным, именно через культуру любовного чувства, при всей его частности и интимности, человек не только способен осознать себя индивидуальной личностью, но и способен отождествить себя с любым другим человеком – а это уже значит, что он поднимается до высоких общественных страстей.
Наконец, своеобразная литературная форма романа «Езда в остров Любви», написанного прозой и стихами, тоже не могла не привлечь внимание русского писателя и русских читателей. Двойное лироэпическое проигрывание сюжета «Езды в остров Любви» в эпическом описании странствий Тирсиса по материальному пространству вымышленного острова и в лирическом стихотворном излиянии любовных эмоций, которые в совокупности своей создают картину духовной эволюции героя, – все это придавало объемность романной картине мира, объединившей описательно-пластический и выразительно-идеальный аспекты литературного мирообраза. Так, в новой русской литературе появляется первообраз грядущей модели романного повествования, объединяющий два существенных жанрообразующих признака романного эпоса – эпоса странствий и эпоса духовной эволюции. А поскольку сюжет романа целиком сосредоточен в области частной эмоциональной жизни человека, то можно сказать, что перевод Тредиаковского предлагает русской литературе своеобразную исходную жанровую модель романа «воспитания чувств».