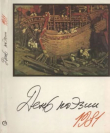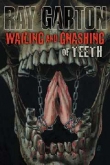Текст книги "Окно (сборник)"
Автор книги: Нина Катерли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
– Зайдите ко мне сегодня вечером, – не здороваясь, отрывисто приказал Эмиль.
– Сегодня вечером я занят, – холодно и твердо ответил Лаптев.
– Ах так. А если я, допустим, болен? Лежу один, некому сходить в аптеку за лекарством?
Голос был провокационно-издевательским, сильным и звучным. Болезнью тут и не пахло.
– Повторяю, я занят.
– Чем, позвольте вас спросить?
Это было уже прямое нахальство. Надо ставить точку. И Лаптев тихо произнес:
– Вот что, уважаемый эскулап: а не пошли бы вы… Если вам обязательно требуется плата, я пошлю вам бутылку коньяка Камю. Бандеролью.
В трубке раздались отрывистые короткие гудки.
– Кого это ты послал? – осведомился подошедший Рыбаков. – Крут, батюшка, крут. В голосе прямо – железный металл.
Лаптев кратко объяснил, что привязался какой-то шиз и набивается в друзья, малопримечательная история, а вот другое дело – сегодня показывают фильм, надо быть на студии к шести часам.
Фильм оказался посредственным, а знакомый артист играл в нем просто плохо – напыщенно и фальшиво. Однако пришлось говорить комплименты и пить после просмотра водку.
На обратном пути, уже у самого дома, Лаптев Задумался и чуть не наткнулся на слепого. Слепой был маленький и тщедушный, в затюрханном пальтеце и шапчонке, наехавшей на самые глаза. Он медленно и как-то совсем неслышно двигался вдоль дома, шаря рукой по стене. Обычной в таких случаях палки, которой стучат о мостовую, у него не было, поэтому Лаптев, шагавший довольно быстро, чуть не сбил его с ног. Но, слава богу, в последний момент заметил и отпрянул, даже лица не успел разглядеть, мелькнуло что-то бледное, маленькое, как бы даже размытое. Мелькнуло – и пропало. Лаптев, не сбавляя шагу, прошел мимо. И вдруг, отойдя на несколько шагов, вздрогнул. Содрогнулся от непонятно откуда идущего тревожного ползучего чувства.
«Может, я его видел раньше? Нет. Не помню. Да и какая разница – видел или нет. Ладно. Сейчас – вывести собаку, потом посмотреть еще раз доклад и спать. Завтра ехать».
Но противное ощущение не исчезало, скреблось, как мышь, ползало, до самой ночи шуршало и хрустело челюстями и только во сне отпустило.
9
Пропала собака. Это было непостижимо – вечером Лаптев вывел ее перед сном; когда вернулся, Антонина Николаевна уже спала – света в ее комнате не было, – Ефим, как всегда, запер входную дверь на задвижку и крюк, а утром открыл глаза и не увидел Динки. Ее не было на обычном месте в углу, и Ефим решил, что псина кусочничает в кухне при Антонине. Однако соседка все еще спала, а собаки не оказалось ни в коридоре, ни в кухне, ни в ванной комнате, куда Лаптев заглянул уж так, на всякий случай. Тогда он подумал, что старуха ночью взяла собаку к себе и теперь вконец избалованное животное валяется у нее в ногах на кровати. Успокоившись, он начал бриться, как вдруг услышал из коридора голос соседки:
– Дина! Дина! Бака! Бача моя!
Через секунду в дверь постучали, и Антонина Николаевна, заглянув, горестно сказала:
– Не хочет. Я ей колбаски приготовила, а она не идет.
– Разве Динка не у вас? – удивился Лаптев.
Потом они искали собаку вдвоем. Заглядывали во все углы, в стенной шкаф – Антонина Николаевна боялась, что Динка заболела и забилась куда-нибудь: «Животные, знаете, не любят, чтобы видели, когда им плохо, это у людей все напоказ».
Очень скоро стало очевидно – в квартире собаки нет.
Лаптев сидел в кухне на табуретке, он уже опоздал на работу, надо срочно бежать, иначе будет скандал, на десять часов назначено совещание как раз по поводу его завтрашнего выступления на конференции. Напротив стояла, скрестив на груди руки, Антонина и, глядя на него с отвращением, говорила:
– Вы явились вчера поздно ночью, где-то, конечно, выпили, не спорьте, вы это делаете все последнее время, пошли с собакой гулять и потеряли ее. Не спорьте!
К ужасу Лаптева, старуха вдруг начала рыдать, у нее дергалась голова и тряслись руки, но времени на объяснения и утешения у него не было, он побежал на работу.
Собаку надо будет поискать вечером, наверняка бегает где-нибудь около дома. Но как она оказалась на улице? Антонина Николаевна так горячо обвиняла его… минуточку! Не слишком ли горячо?.. Эта ее привычка проснуться ни свет ни заря и выносить мусор…
Именно сегодня-то как раз и не хватало этой галиматьи с собакой! Вечером поезд, ничего не собрано.
– Нашли Динку? – вот был первый вопрос, которым встретила Антонина Николаевна вернувшегося после работы Лаптева. В вопросе звучала откровенная ненависть и не было смысла – прекрасно видела, что Ефим пришел один. А ведь перед этим он добросовестно обошел все соседние улицы и дворы, спрашивал мальчишек и пенсионеров – никто не видел рыжей собачонки с широкой плоской спиной.
Допрашивать соседку было глупо – как будто она признается! Так что пришлось Лаптеву с испорченным – очень кстати! – настроением гладить себе рубашку, собирать портфель, вспоминать, не забыл ли чего, – бритва тут, зубная щетка тут, папка с докладом… вот болван, чуть не оставил на столе!
Билет на «Стрелу» он аккуратно убрал в бумажник, туда же – приглашение на конференцию, пересчитал командировочные. Как будто все, а времени до поезда еще полно, сейчас восемь, а из дому выходить самое раннее в одиннадцать. И Ефим решил пойти поискать Динку еще раз. От Эмиля можно ждать чего угодно, да и старуха со свету сживет из-за этой собачонки.
В прихожей на столике, где телефон, он вдруг заметил записку. Разлапистым почерком Антонины там было выведено:
«Пока вы вчера пьянствовали, звонила ваша супруга. Будет звонить сегодня в половине одиннадцатого».
Ну, дела! Объявилась! Потрясенный Лаптев бросился назад в комнату, кинул пальто на диван и зачем-то выхватил из портфеля электробритву… Погоди. А что, собственно, произошло? Почему она? Узнала, услышала наконец про его дела на работе… но ведь она – в Свердловске… Да мало ли кто мог рассказать?.. Приехала к матери, а тут кто-то видел его на улице с киноартистом… Спокойно. Возможно, рассказали и про Наташку, был же он с ней тогда на просмотре, а такие, как она, сразу обращают на себя внимание. И тогда Светка… Возьмите себя в руки, Ефим Федосеевич! По крайней мере пусть эти руки не трясутся так мелко и противно. Никакого бритья! Это твой звездный час, и ты обязан встретить его как мужчина. Не сидеть тут с бритвой, уставясь на часы, а хладнокровно пойти и отыскать свою собаку, которую выпустила старая ведьма. Ты – руководитель научной темы, ведущий инженер… Но она же была в Свердловске…
Лаптев надел пальто и шапку, медленно – руки все-таки еще дрожали застегнулся на все пуговицы и твердой походкой вышел из комнаты. Когда он проходил мимо открытой двери в комнату Антонины Николаевны, оттуда громко сказали:
– Уезжаю к сестре в Шапки. На неделю. Квартира пустая, пусть обворуют, мне наплевать!
«Ну и катись!» – мысленно ответил Лаптев.
На улице шел густой вязкий снег, он сразу же залепил пальто и шапку, начал таять, и холодные струйки поползли по лбу и щекам. Лаптев шел наугад, даже особенно не глядя по сторонам, смешно было надеяться найти кого-нибудь в этой снеговой каше. Было уже около девяти, через полтора часа она позвонит. Ни одного вопроса он не задаст ей. Ни одного упрека. Спокойно выслушает…
И вдруг Лаптев понял, что идет к нему, к Эмилю. Все верно: вон за тем поворотом – переулок, где стоит дом в палисаднике. Мысли Лаптева болтались где попало, а ноги делали дело, вели его по единственному адресу, куда, скорее всего, прибежала заблудившаяся собака.
– Пожалуй, еще не захочет отдавать, будет нудить, что не уберег…
Когда он вошел в подъезд… там было так темно, лампочка не горела, свет падал только с улицы и, когда Лаптев открыл дверь, ему показалось он видит на каменном полу чуть заметные мокрые следы собачьих лап.
Он долго звонил, потом стучал. Не открывали. Где же этот больной страдалец? Вчера вон не мог в аптеку сам пойти… Может быть, спит? Лаптев взялся за ручку и тряхнул дверь, нажал плечом, и она вдруг открылась прямо в темную прихожую, из которой потянуло нежилым холодом.
– Есть кто-нибудь? – крикнул Лаптев.
Было тихо.
– Хозяин! – еще раз позвал он. Никто опять не откликнулся, но в глубине квартиры что-то как будто шевельнулось. Скрипнула половица, послышались шаги, и вдруг из темноты в глаза Лаптеву ударил белый свет карманного фонаря. Непроизвольно он прикрыл лицо ладонью, а когда отвел руку, фонарь уже светил мимо него на лестницу. Негромкий и совершенно незнакомый женский голос спокойно спросил:
– Что вам угодно здесь?
– Я ищу собаку. Вы не видели? Она могла прибежать сюда. Светло-рыжая, почти желтая, глаза…
Женщина молчала, и Лаптев тоже замолчал. Луч фонаря беспокойно рыскал по лестничной площадке.
– А где Эмиль? – спросил Лаптев.
– Что такое?! – надменно сказала женщина. – При чем здесь Эмиль? Вы кузнец своего счастья. И довольно с вас.
Полоснув Лаптева по лицу лезвием своего проклятого фонаря, она взяла его за плечо и с неожиданной силой толкнула с порога на лестницу. Дверь тотчас захлопнулась, грохнул засов, и Лаптев остался один в темноте и тишине.
«Все в том же духе, – с яростью подумал он, – опять мистерия: мрак, шаги в коридоре. И привидение с карманным фонарем».
Он вышел на улицу. Снег уже не падал, пахло весной. Пройдя палисадник, Лаптев оглянулся и вдруг увидел: а дом-то темный, света нет ни в одном окне. Он всмотрелся, напрягая глаза, – во втором этаже, там, где живет Эмиль, кажется, открыто окно. А в соседнем нет стекла. И внизу два окна забиты досками. Мертвый дом, назначенный на слом.
Но постой! Эмиль звонил вчера утром, велел прийти. А две недели назад я сам ему звонил, сюда, по этому номеру. И осенью заходил. А тут такой вид, будто все жильцы выехали год назад. Запустение… А та женщина?
И вдруг совершенно явственно услышал далекий собачий лай. Он шел из черной глубины оставленного дома, и Лаптев бросился назад. Прыгая через две ступеньки, он мгновенно взлетел на площадку, кинулся к знакомой двери и навалился на нее. Дверь не подалась. Тогда, не помня себя, почему-то дрожа всем телом, Лаптев изо всех сил рванул дверную ручку. Он колотил в дверь ногами, толкал ее, тряс, дергал. Наконец раздался сухой треск, точно отодрали прибитую гвоздями крышку посылочного деревянного ящика, дверь распахнулась, Лаптев бросился вперед и сразу ударился о что-то холодное и твердое. Застонав, он отпрянул, протянул руку, и она неожиданно уперлась в стену. Не веря себе, Лаптев полез в карман, нашел спички, чиркнул.
Старая кирпичная стена, глухая, тронутая плесенью. Спичка погасла.
Внезапно почувствовав страшную слабость и головную боль, Лаптев прислонился к этой стене, минуту стоял в темноте, машинально потирая ушибленный висок, а потом медленно стал спускаться. Голова болела все сильнее.
На улице он взглянул на часы, было десять, через полчаса позвонит Светлана, через час ему на поезд… Но она ведь может позвонить и раньше! Возможно, она звонила из Свердловска, междугородный разговор могут дать в десять сорок, а могут и в десять пятнадцать… А что, если Антонина Николаевна передумала ехать к сестре, на ночь глядя?.. Конечно, сперва: «Я не обязана вести переговоры с вашей бывшей женой», надо попробовать объяснить, что только всего и нужно – отложить разговор на полчаса. Неужели откажет? Это – вопрос жизни и смерти, она ведь не зверь в конце концов, собак вон любит, а тут – человек. Лаптев бежал через улицу к телефону-автомату.
Он бросил в щель аппарата две копейки, схватил трубку, прижал к уху и другой рукой потянулся к диску. Но номера набрать не успел. В утробе аппарата вдруг громко захрипело, как в старых стенных часах, которые готовятся отбивать полночь, Лаптев замер, держа палец в отверстии диска, а хрипение внезапно смолкло, и из трубки послышался голос:
– Ну что вам еще, Ефим Федосеевич? – голос был тихим и серым. – Не пора ли наконец оставить меня в покое? Ходите, ищете… Я устал и болен.
– Эмиль! – закричал Лаптев. – Эмиль, постойте! Где Динка?
– Нет у меня больше сил, поймете вы или нет. Пьян, если уж вам угодно, – тоскливо сказал Эмиль, – так что извините, если что не так. И, как честный человек, спешу довести до вашего сведения: болен я тогда не был. Сказал, чтобы… одним словом – тест. Не нужны мне ваши натужные визиты и беготня в аптеку с перекошенной физиономией. Все это – эрзац. Коньяк и ассигнации в коробках с конфетами. Тоска! А я имел в виду совсем другое. Быть благодарным – это счастье, Ефим Федосеевич, это – как любовь, простите за банальность… Да что вам говорить! Неудачник я, мистер Лаптев, карась-идеалист и последний романтик. Дурак, одним словом. Коллекционирую дырки от бубликов. Ну да ладно… А соседка ваша, которой вы в данный момент звоните, удаляется от нас с вами в вагоне электропоезда со средней скоростью восемьдесят километров в час.
– Где собака, Эмиль? Вы слышите? Где Динка?
– Вот кретин: «собака, собака»… А зачем она вам, собака-то? Некрасивая, старая, лапы короткие, похвастаться нельзя… А я опять проиграл. Вот и прощайте.
В трубке щелкнуло, звуки вальса «На сопках Маньчжурии» ни с того ни с сего хлынули в ухо ошеломленного Лаптева. Плавные и округлые, мгновенно заполнили они до краев стеклянную будку автомата. Ничего уже не пытаясь понять и объяснить себе, Лаптев вышел на улицу; он опаздывал, вскочил в первый попавшийся трамвай, проехал три остановки, подождал минуты две своего автобуса, не дождался, озяб и быстрыми шагами направился через пустой, заваленный снегом сад к набережной канала.
Незамерзшая вода была черной, белели покатые берега. Ветер усилился, тряс деревья, стоящие вдоль набережной, только что осевший на ветках снег пластами съезжал вниз.
Узкоплечая щуплая фигура внезапно выросла перед Лаптевым. Он стоял посреди тротуара, человек в нелепой шапке, нависшей, как сугроб, над маленьким бледным лицом. Вчерашний слепой.
Лаптев шагнул в сторону. Слепой – тоже. Безобразные голые веки были похожи на пельмени. Тонкий голос выговорил:
– Гора с горой не сходятся, Лаптев, а Магомет с Магометом – всегда сойдутся. Это – как закон.
И тут Ефим понял: он украл Динку, кто еще? Предлагал деньги, целые пачки, тысячи! Сам не понимая, что сейчас сделает, Лаптев рванулся к человеку, тот не шелохнулся, только распухшие веки медленно приподнялись и черные грустные глаза внимательно взглянули на Лаптева. Он сделал еще шаг навстречу этим глазам, поскользнулся, взмахнул руками и рухнул на тротуар. Правая нога неловко подвернулась, он дернулся от боли, скрипнул зубами. А когда, с трудом поднявшись, осмотрелся, никого поблизости не было, только осыпался с деревьев мокрый снег.
Медленно, прихрамывая на подвернувшуюся ногу, Лаптев двинулся дальше, и тут снова впереди что-то мелькнуло. Он не мог ошибиться – рыжая шерсть, острые уши, темные выпуклые, грустные глаза. Мелькнуло, опять мелькнуло… Он побежал, задыхаясь, хватая открытым ртом мокрый воздух, опять упал, ударился локтем, вскочил…
Не было впереди никого! Не было.
Тупой, тяжелый, как булыжник, порыв ветра внезапно ударил откуда-то сбоку, толкнул Лаптева в плечо, сбил с него шапку, и она, крутясь колесом, покатилась с берега вниз, к воде.
Лаптев сделал шаг с тротуара и тотчас провалился в мокрый снег по щиколотку. Шапка, на глазах погружаясь, уже плыла по черной воде. Чуть пошатываясь, ни о чем больше не думая, Лаптев брел к дому без шапки, в расстегнутом пальто. Останавливаясь, как старик, на каждой площадке, поднялся по лестнице, опустил руку в карман и тут же вспомнил, что ключ в бумажнике, что после той истории с дырой он всегда носил ключ в бумажнике – для верности.
Уже понимая, что сейчас произойдет, он полез в карман пиджака. Бумажника не было.
Бесстрастная, точно мертвая, выплыла мысль, что Антонины Николаевны нет, не будет до утра. И завтра не будет. А на часах уже десять тридцать пять.
За дверью зазвонил телефон. Лаптев вздрогнул. Телефон звонил непрерывными отчаянными звонками, истошно кричал, задыхаясь, точно на помощь зовет. И наконец, коротко всхлипнув, затих.
Все кончилось.
День рождения
– Мама! Да перестань, наконец, сосать воротник! И поднимись, я отодвину кресло!
Надежда Кирилловна начинает вставать. Она крепко упирается в подлокотники, и на руках сразу вспухают толстые синие вены. Теперь ухватиться за край стола, выпрямить спину. Ну, вот и все. Дочь Наталья двигает кресло в угол, смахивает с него невидимые крошки, оправляет на старухе платье.
– Все уже измято! – ворчит она. – Ничего нельзя надеть!
Старуха топчется, держась за стол, и тяжело дышит. Дочь Наталья берет ее за плечи, ловко втискивает в кресло.
– Мне не нравится это платье! – вдруг громко произносит старуха. Носить такое платье – дурной тон. Дай мне мой пеньюар!
– Мама! Прекрати свои капризы! Придут гости, нельзя тебе – в грязном халате.
Дочь ходит по комнате широкими шагами и все что-то стряхивает, передвигает, а Надежда Кирилловна водит за ней глазами.
«Какая она некрасивая. И… старая… – с удивлением думает Надежда Кирилловна. – Я не была такой в юности. Сколько ей лет? Я родила ее… в пятнадцатом году?»
– Сколько тебе лет? – спрашивает старуха.
– О господи! – Наталья ударяет тряпкой по блестящему боку ужасного нового буфета. – Хоть ради дня рождения – помолчи!
Старуха недовольно жует губами.
«Да-а… День рождения… Сегодня – мой день рождения. Из-за этого все. Это дурно сшитое платье. Кухаркино платье! И уборка. И коробка на столе. Коробку принес утром сосед, а Наталья сразу отобрала».
Старуха опять пытается встать.
– Ну, что еще?! Чего тебе не сидится? – кричит Наталья.
– Мой шоколад… – бормочет старуха, но тихо, чтобы дочь не услышала, и снова опускается в кресло. Она устала.
Наталья обводит глазами комнату, кладет тряпку и снимает передник.
– Ничего не трогай, – хмуро говорит она матери, – я – за хлебом. Где моя сумка?
Сумка стоит за старухиным креслом. Старуха протягивает руку, нащупывает застежку «молнию» и двигает ее взад-вперед. Потом смотрит на сумку и тихо смеется.
«Молния» похожа на Натальин рот – вот что! Если Наталья злится, она, когда говорит, так же не до конца разжимает губы, только сбоку. Старуха чуть-чуть приоткрывает застежку.
– Что же ты молчишь? Я ищу, а она молчит. Играет! О боже мой!
Старуха испуганно задергивает «молнию», складывает руки на животе и зажмуривает глаза, будто спит. Но на самом деле она видит из-под век, как дочь берет из ящика письменного стола кошелек, как шагает к двери своей некрасивой походкой.
«Совершенно невоспитанна. Не умеет себя держать, оттого и женихов нет», – думает старуха.
– Натали! – зовет она, но дочь исчезает за дверью.
«Почему не взяли ей хорошую гувернантку? Какой она была, маленькая? Не помню! Ничего не помню».
Память – как плотный, липкий ком: только ухватишь какую-то ниточку, потянешь, а та, точно резиновая, вырвется, и нет ее. Старухе кажется, что Наталья всегда была такой, как сегодня, – высокой, костистой, старой и злой. Многие годы исчезли там, внутри плотного серого кома. Там Натальино детство и юность, там – совсем недавнее, вчерашний день.
«Но ведь я – не такая? В этой комнате, среди уродливой мебели, которую так любит Наталья, я – не такая. Почему?»
Старуха морщит лоб, медленно думает, шевелит на коленях опухшими пальцами.
Петелино. Дом на холме. Два пруда – большой и маленький. В маленьком вода покрыта ряской, там живут головастики. Их можно ловить сачком. Вечером в саду очень темно и пахнет маттиолой. Она некрасивая – мелкие крестообразные лиловые цветочки. Рояль на террасе и мамин голос. И Муся, сестра, красавица. На гимназическом балу Муся всегда в первой паре…
Старуха опять начинает возиться в своем кресле, боком выползает из него и – от стола к книжной полке, от полки – к спинке стула, от стула… Вот он, шкаф. Висят друг за другом в затылок одинаковые безвкусные Натальины платья. Старуха сдвигает их в угол. Не здесь. На полках – стопки белья, какие-то свертки. Коробки нигде нет. Руки дрожат. Стопки клонятся набок, рушатся. Где же коробка?
– Выбросила. Она могла, – шепчет старуха и начинает вытаскивать вороха одежды. Обеими руками. С полки – на пол. И еще на пол! А нижнюю полку не достать. Она пытается опуститься на корточки, ноги не слушаются, и старуха грузно садится перед шкафом среди смятого белья. Коробка! Никуда она не делась! Письма лежат, аккуратно перевязанные ленточкой. Эти – от Сержа. Как их много! Дерзкий мальчишка! Вообразил, будто… ну да бог с ним… От Анастасии. Анастасия умерла. А это – от Муси, все остальные – от Муси.
Старуха разворачивает письмо и читает. Очки ей не нужны, она прекрасно видит до сих пор. Она читает внимательно, несколько раз возвращается к началу, смеется чему-то, потом становится грустной, опускает письмо и долго сидит неподвижно…
– Нет! Я с ума сойду! Это просто невыносимо! – в голосе Натальи слезы. – На двадцать минут вышла – и на тебе!
По полу в беспорядке раскиданы ее рубашки, кофточки, полотенца. Мебель сдвинута. Посреди комнаты опрокинутый стул. Матери в кресле нет. Она сидит, согнувшись, у письменного стола и что-то пишет, даже не обернулась на Натальин крик. Наталья идет к столу.
«…Не печалься, родная моя Мусенька, – читает она, – все минует. Ведь ты еще так молода. В университет примут тебя непременно, верь мне. Желаю тебе, дружок, всего…» Карандаш падает и катится по столу. Старуха роняет голову на грудь.
Серый плотный ком вдруг начал пухнуть, раздулся и треснул посередине. И сразу в раскрывшуюся трещину хлынул день, синий и яркий, заблестели стекла террасы, полезли пахучие ветки, горько пахли и тыкались в лицо мокрые грозди черемухи, а щель делалась все шире, открыла дорогу к часовне и дальше, к лугу, за которым холмы, поросшие сизым лесом, а за холмами и вовсе неизвестно что, и это прекрасно, потому что сегодня мне исполнилось семь лет, и все еще впереди будет – и за холмы пойдем с Мусей ягоды искать, и в Петербург зимой поедем, а там – елка.
Серого кома и вовсе не стало, не стало и комнаты, где съежился в углу безобразный Натальин шкаф, съежился и притих, потому что такой безобразный. А мамин голос все пел и пел, и рояль плескался, как море тогда в Ялте, а потом и море тоже было здесь – шумело, дышало, поднималось и падало.
Наталья подхватывает мать под мышки и переваливает в кресло. Она бредет по комнате; тяжело дыша, поднимает раскиданные по полу вещи и кое-как запихивает в шкаф. Моря она не видит. Ни пруда, ни холмов – ничего. Зато она видит в зеркальной дверце шкафа свое отражение и усмехается, некрасиво кривя рот. Потом выходит из комнаты, но вскоре возвращается, неся перед собой вазу с цветами. Цветы невзрачные – мелкие лиловые крестики. Сейчас они свернулись и кажутся увядшими, но вечером раскроются, и тогда комната наполнится терпким горьковатым запахом.
Наталья ставит вазу на обеденный стол.