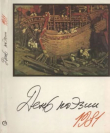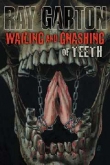Текст книги "Окно (сборник)"
Автор книги: Нина Катерли
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 15 страниц)
– И красотки же все – обалденные, – рассказывал жигулист.
– У них конкуренция там, – веско предположил Фирфаров, и все согласились, что да, конкуренция, а что же – среди всех профессий в капстранах она имеется, и среди этой тоже.
Так они беседовали во дворе, серьезные мужики, дымили «Союз-Аполлоном», даже Николай Павлович закурил для такого случая, а трактор в это время стоял в своем углу с молчащим мотором и выключенными фарами – спал.
Но через два дня все-таки разразился скандал.
Только Фирфаров, отдохнув после обеда, уселся с журналом «Наука и жизнь» в кресло, как в дверь позвонили. Звонок был противный, так звонила только Полина-дворничиха. Некогда он первый и единственный раз в жизни вовремя не заплатил за квартиру, и она тут же явилась скандалить и звонила таким же вот визгливым бесконечным звонком. Фирфаров открыл дверь. Конечно же, это была она, вся багровая, – не то кирнула, не то от злости.
– Сейчас убери безобразие, не то штраф в двадцать четыре часа! проорала дворничиха и, повернувшись, стала злобно спускаться по лестнице, а Фирфаров побежал за ней. Так они и выскочили во двор – Николай Павлович в пижамных штанах и выкрикивающая бессмысленные угрозы дворничиха.
Посреди двора зияла пасть Болотина.
– Говорил я – его этот драндулет, – заквакал Болотин, увидев Фирфарова и показывая на забившийся в угол трактор. – Скажешь – нет? Ты! Че-е-ек с одной большо-ой буквы!
Стоило Фирфарову показаться во дворе, как трактор радостно засиял фарами и затарахтел.
– Вот! Вот так и кажно утро! А меня-то мучают, меня-то терзают: кто это людям спать не дает? Убирай бандуру, а то завтра в товарищеский суд! завизжала Полина.
– Да при чем же здесь я, товарищи, – нарочно очень тихо и спокойно сказал Фирфаров и повернулся к трактору спиной. – Смеетесь, что ли? Я «Жигули» покупаю, все знают…
Но трактор, этот идиот, металлолом чертов, выполз из угла, развел пары и остановился рядом с Фирфаровым. Тут Фирфаров увидел одного из жигулистов. Усмехаясь, тот шел прямо к нему через двор, а подойдя, сказал, не вынимая рук из карманов своей пижонской куртки:
– У вас же есть гараж, коллега. Поставьте свой транспорт туда, и инцидент исчерпан.
– Испорчен! – загоготал Болотин. – Удавится – не поставит!
И Фирфаров не выдержал. Щеки его побелели, подбородок задрожал. Не помня себя, он изо всех сил пнул железную подножку и больно ушиб ногу. От боли и от обиды слезы подступили к его горлу, и он закричал тонким голосом:
– Что это такое в самом деле?! Что вы пристали к чеаэку! Не мой это транспорт! Не мой! Не знаю – чей! И знать не хочу! Он посторонний, посторонний!
И вдруг во дворе стало темно.
Погасли фары, замолчал мотор. В полной тишине трактор двинулся к воротам, беспомощно рыская в темноте, два раза наткнулся на стену, но все-таки нашел дорогу и выкатился на улицу, будто кто-то толкал его сзади в спину.
– Как же… – забормотал Болотин, – куда это он, на ночь глядя? Эй, друг! Стой, слышь!
– Он же слепой, пропадет! – вдруг закричала дворничиха и побежала в подворотню.
Пожав плечами, Фирфаров медленно вышел за Ней, игнорируя Болотина.
Трактор был уже довольно далеко. Приседая на правое колесо, он ковылял прямо на красный свет, кургузый и нелепый рядом со сверкающими легковыми машинами и важными автобусами. На мгновение туристский «Икарус» заслонил его, а когда проехал, трактора было уже не видно совсем.
Во дворе Фирфарова нагнала зареванная Полина.
– Зараза! – яростно сказала она и плюнула ему под ноги. – Наставили в кооперативном дворе гаражей! Все часткову скажу! За квартиру никогда не плотишь… тоже еще… чеаэк!..
Фирфаров хотел было поставить обнаглевшую дворничиху на место, но что толку связываться с полуграмотной бабой!
Мокрый холодный ветер дунул из подворотни, и он вдруг вспомнил, что завтра-то уже осень, первое сентября. Фирфаров постоял еще немного у ворот, поежился и пошел домой.
Безответная любовь
За ночь город стал другим. Это было похоже на возвращение. Через много лет, пустых и одинаковых, с длинными ожиданиями, ненужными разговорами, одинокими тусклыми вечерами, она вернулась вдруг на улицы, оставшиеся где-то далеко, в ранней юности, может быть, в детстве. На улицы, почти уже забытые и вот в это утро снова явившиеся вместе с солнцем, разбивающимся о стеклянные лбы трамваев; вместе с «классами», неровно начерченными на тротуаре и называющимися – ну, конечно же, господи, как она могла забыть! – «скачок».
Спрятали глаза и стали совсем незаметными ненужные сегодня «Булочная», «Рыба – овощи», какой-то непонятный «Гортранс». Зато розовая кукла в витрине игрушечной мастерской – подвальчика так и выглядывала, так и тянула к стеклу свои растопыренные руки.
А как улыбались, как все понимали мудрые, добрые собаки, вышагивающие на поводках рядом с хозяевами и дружелюбно покачивающие хвостами!
По реке плыла елка. Одним боком она вмерзла в льдину, с другой стороны торчали темные, голые ребра. Елка была похожа на акулий скелет. И на одном из ребер – синий шар, сверкающий, синий новогодний шар.
Девушка остановилась и проводила льдину глазами. Блестя на солнце, шар уплывал по реке в океан.
А что же случилось? Куда девался вчерашний город? Куда девались вчерашняя жизнь и она сама – вчерашняя?
Накануне вечером она зашла в комиссионный магазин, чтобы примерить парик. Говорят, в париках даже самые некрасивые девушки становятся похожими на кинозвезд.
Парики грудой лежали на прилавке – огненно-рыжие, белокурые, черные, седые.
«Примерю этот», – решила девушка и, оглянувшись, стала натягивать парик с длинной светлой челкой.
«Похожа на Иванушку-дурачка!» – она сняла белокурый парик и надела другой, с черными кудрями.
«А теперь – вылитая баба-яга! Нет, тут уж, видно, ничем не поможешь».
Девушка сдернула парик, чуть не разорвав его пополам, и подошла к продавцу. Облокотившись на прилавок, он читал какую-то толстую книгу.
– Что бы вы мне посоветовали купить в подарок… сестре, которая хочет хорошо выглядеть? – спросила девушка.
Вместо ответа продавец вдруг громко захохотал, затряс головой и, не отрывая глаз от книги, начал шарить в карманах. Найдя там носовой платок, он вытер им лоб и продолжал читать.
– Скажите, – девушка тронула продавца за локоть, – что у вас в этом свертке?
Продавец перевернул страницу и с недоумением взглянул на девушку.
– В каком свертке? В этом? Безответная любовь.
– Вы… шутите?
– Никогда не шучу на работе. И вообще не шучу, – он подвинул к себе книгу и снова принялся хохотать.
Девушка ждала. Когда хохот прекратился, она спросила:
– А счастливой у вас случайно не найдется?
Продавец оторвался от книги и несколько секунд молча рассматривал девушку.
– Случайно – не найдется, – медленно произнес он, – а на вашем месте я бы взял эту, тоже на дороге не валяется.
– А можно ее посмотреть? – она потянулась к свертку.
– Трогать и примерять не разрешается! Или берете – или нет, – и продавец снова уткнулся в книгу.
– Беру, – сказала девушка. – Сколько нужно платить?
Безответную любовь продал в комиссионном магазине сосед девушки, молодой человек, который жил с ней на одной лестничной площадке. Он мучился своей любовью почти целый год, похудел, перестал спать по ночам, растерял друзей.
– Хватит! – сказал он себе однажды утром. – Надо наконец начать жить, как нормальный человек. От этой проклятой любви – только бессонница. Лучше я продам ее, а взамен куплю себе… ну, хоть аквариум с золотыми рыбками. А летом поеду в отпуск к морю!
Она забыла уже, зачем так рано вышла сегодня на улицу. Может быть, из-за солнца? Оно светило прямо в окно, и это было совершенно необъяснимо – окно выходило на север.
Чудеса продолжались. Деревья голыми ветками писали по небу непонятные строчки, шофер такси, едущего навстречу, смеялся красному светофору, синий шар уплывал на льдине к неизвестным островам, а навстречу ей, от арки ворот, шел ее сосед.
– Доброе утро, – сказал сосед.
– Доброе утро, – ответила девушка, но вдруг задохнулась и почувствовала такую боль в груди, что ей пришлось даже остановиться.
У соседа было необыкновенное лицо. У него были такие глубокие, такие умные, такие необыкновенные глаза.
«Наверное, он очень застенчивый человек, – думала девушка, поднимаясь по лестнице, – он так быстро всегда здоровается и сразу уходит. И потом… Он живет совсем один, кто же готовит ему обед и убирает в квартире?»
Ночью ей не спалось. Иногда она забывалась на несколько минут, но тут же вздрагивала и открывала глаза.
«Что случилось? Ведь что-то случилось, но что?.. Сперва я купила… да, да… потом было это утро, и он шел мне навстречу».
Она вставала с постели и ходила босиком по комнате, прижав руки к груди.
Рано утром девушка побежала в магазин и купила молоко, творог и сыр.
«Что особенного?» – говорила она себе, подбирая с пола около кассы деньги, сыпавшиеся у нее из рук.
«Что особенного? – повторяла она, нажимая на звонок соседней квартиры и прислушиваясь. – Почему я не могу помочь человеку – ведь мы же соседи».
Дверь открылась. Он стоял на пороге и с недоумением смотрел на девушку.
– Вот… – пробормотала она, – возьмите. Я все равно ходила. Заодно…
– Спасибо, – произнес молодой человек растерянно, – я даже не понимаю… Впрочем, конечно же – большое спасибо! Подождите, я сейчас. Он скрылся за дверью, вернулся с кошельком и, аккуратно отсчитав деньги, протянул их девушке.
Раньше время казалось ей пустой огромной комнатой, где только изредка попадаются какие-то предметы, да и то – ненужные. Теперь каждая минута была заполнена. То стихами – сколько, оказывается, прекрасных стихов написали поэты, и все, ну почти все стихи – про него. И романсы, и песни, и даже героические симфонии – все, все про него.
А еще она узнала, что, оказывается, очень любит футбол и хоккей. Это выяснилось однажды вечером, когда из-за стены соседней квартиры послышался голос спортивного комментатора. Она включила телевизор и с тех пор не пропускала ни одного репортажа.
«Наверное, он болеет за этих, в темных футболках. Они очень хорошо играют, вон, как быстро побежал тот, высокий, – думала девушка. – И два маленьких, толстых, тоже симпатичные. А может, он болеет за светлых? Они так стараются, хоть им и не везет!.. Какое небо за окном, совсем летнее! Как он сегодня сказал мне: „Привет!“ – И побежал вниз через три ступеньки. Почему считается, что безответная любовь – несчастная? Я почти каждый день встречаю его или вижу из окна. Я могу думать о нем, сколько хочу».
Наступил июль, и молодой человек собрался в отпуск к морю.
В день отъезда, выйдя с чемоданом на улицу, где уже стояло такси, он вспомнил вдруг про свой аквариум.
«Кто же будет кормить рыбок?» – подумал он и, секунду помедлив, снова взбежал по лестнице и позвонил в квартиру соседки. Никто не вышел на звонок, и тогда, вырвав листок из записной книжки, молодой человек написал короткую записку, в которой просил девушку раз в день заходить к нему и бросать рыбам корм. Записку вместе с ключом он опустил в ее почтовый ящик.
Целый месяц каждое утро девушка на цыпочках входила в пустую квартиру. Сперва она только кормила рыбок, потом, заметив, что на столе и на корешках книг накопилось много пыли, стала убирать комнату, открывать форточку, подметать пол. Чтобы было уютнее, она принесла из дому цветы в горшках и расставила их на подоконниках. Каждый день она вынимала из почтового ящика газеты и складывала стопкой на шкафу.
«Сколько у него книг! Как много газет он получает, – думала девушка. Какой он умный и образованный!»
Однажды, возвращаясь вечером с работы, она увидела в окнах соседней квартиры свет. Бегом поднялась она по лестнице и, задохнувшись, остановилась на площадке.
«Нужно сейчас же вернуть ему ключ… Нет, пусть придет сам. Отдохнет с дороги, разложит вещи и придет».
В дверь позвонили часа через полтора. Сперва она никак не могла справиться с замком – руки не хотели слушаться. Молодой человек стоял на пороге, загорелый и улыбающийся. В руках он держал аквариум.
– Это – вам! – заявил он, входя. – И – большущее спасибо, квартиру просто не узнать!
Девушка молчала. Молодой человек шагнул в комнату и поставил аквариум на обеденный стол.
– Когда я сегодня утром вошел к себе, – продолжал он, смеясь, – я даже испугался сперва, думал – ошибся дверью. Вы и не представляете себе, что сделали для меня. Вы помогли мне принять одно очень важное решение.
– Какое? – тихо спросила девушка.
– Понимаете, там, на Юге, я познакомился с одной женщиной. И вот… одним словом, сегодня я понял, что без хозяйки дом – не дом. Я сразу пошел к ней… Что с вами?
– Ничего, – сказала девушка и опустилась на стул, – я рада за вас. Вы ее очень любите?
– Люблю? Не знаю. Эта игра уже не для меня. Просто нельзя ведь прожить всю жизнь одному.
– А она? Она любит вас? Она счастлива?
– Она – хороший человек. Одинокий. Ей нужен дом. Разве этого мало? А любовь – вещь очень обременительная. Она только разрушает душу, а взамен оставляет горечь и невыполненные обязательства. Конечно, у вас все еще впереди, и дай бог вам счастливой любви, ну, а не получится… Не получится, так лучше уж устроить свою жизнь, как полагается, чем не спать ночей из-за какого-нибудь шалопая… А рыбок – возьмите!
Девушка встала.
– Спасибо, – сказала она и погладила стеклянный бок аквариума, – пусть живут у меня, я уже привыкла к ним. И – поздравляю вас.
Обхватив аквариум обеими руками и прижавшись к нему лицом, девушка плакала. Слезы бежали по ее щекам и сползали по стеклу, точно дождь. Рыбы, сбившись в стаю, неподвижно стояли в воде, повернувшись мордами к лицу девушки.
– Не надо мне никакой любви! – всхлипывала она. – Он прав! Завтра же пойду в тот магазин, пусть забирают обратно!
Продавец узнал ее сразу.
– А-а, это вы? Принесли назад?
Не отвечая, девушка бросила безответную любовь на прилавок.
– Нет, нет, – продавец отодвинул сверток, – она слишком долго пробыла у вас, теперь у нее больше пятидесяти процентов износа.
– Что там такое? Может быть, мне подойдет? – раздался из глубины магазина знакомый голос, и девушка вздрогнула.
– Вам не подойдет, – посмотрите лучше на полке слева, там есть два прекрасных бронзовых канделябра, – ответил продавец и опять повернулся к девушке. – Молодой человек ищет свадебный подарок, – объяснил он.
Молодой человек продолжал возиться в полутьме за прилавком, а она вдруг заметила на стуле у стены его портфель, знакомый портфель с ручкой, обмотанной изоляционной лентой.
Продавец тем временем открыл книгу, лежащую рядом с ним на прилавке. Лицо его сразу стало грустным, углы рта повисли. Он читал, шевеля губами, вздыхая, иногда сокрушенно тряся головой.
Зажав безответную любовь в кулаке, девушка боком подвинулась к портфелю, протянула руку, но не достала и сделала еще шаг. Теперь портфель был у нее за спиной. Какой-то странный звук напугал девушку – опустив лицо в ладони, продавец всхлипывал. Не оборачиваясь, она нащупала застежку портфеля, одним пальцем надавила на замок и, приоткрыв портфель, мгновенно опустила туда сверток с любовью.
Плечи продавца вздрагивали. Из глубины магазина доносились шорохи и какое-то позвякивание. Крадучись, она вышла за дверь.
Она бежала по улице прочь от магазина. Бежать было легко – тело стало невесомым, как воздушный шар.
Бежать было легко, но глухой, неприятный звук, нарастая, раздавался откуда-то сзади, шел по пятам, приближался, а оборачиваться, она это знала, было нельзя. И обернулась. Сосед настигал ее странными, неестественными прыжками, заносящими его то вправо, то влево.
«Какое у него… безобразное лицо, – подумала девушка, продолжая бежать, – как искривился рот, а глаза пустые и неподвижные!»
Случайно взглянув в стекло витрины, она поймала в нем свое отражение и испугалась еще больше:
«Я похожа на него! У меня такие же глаза без выражения!»
Топот за спиной слышался уже совсем близко. Девушка бросилась за угол, в узкий незнакомый переулок, но, пробежав всего несколько шагов, внезапно остановилась. В конце переулка качал головой продавец. Он грозил ей пальцем. Он смотрел на нее пустыми неподвижными глазами. И такие же глаза уставились на нее из окон домов, из-за тюлевых занавесок, из-за толстых портьер, из-за марлевых задергушек.
Рыбы медленно шевелили плавниками и не двигались с места. Глаза их застыли. По стеклу аквариума протянулась узкая дорожка. Пробило полночь. Потом час. Потом два. Девушка все сидела, обняв аквариум. За окном прогремел трамвай.
Продавец узнал ее сразу.
– А-а, это вы? Принесли назад?
– Нет, – сказала девушка, – я только хотела узнать: счастливая любовь не поступила в продажу?
Продавец покачал головой, погрозил зачем-то пальцем и улыбнулся:
– Такой хорошенькой девушке незачем покупать себе любовь! – заявил он и захлопнул толстую книгу, лежавшую на прилавке. – Кстати, а что вы делаете сегодня вечером?
– Я не знаю, – устало ответила девушка, – мне нужно купить свадебный подарок. Может быть, у вас…
– Канделябры? – перебил ее продавец. – Ну конечно! Есть два прекрасных бронзовых канделябра. Я сейчас принесу.
Первая ночь
Как же, заснешь теперь, черта с два! До утра промаешься, прокрутишься, а потом целый день – с больной головой. Это надо ведь, приснится же такое!
В комнате была ночь. Будильник на стуле громко выплевывал отслужившие секунды, желтоватая полоска просвечивала между краями занавесок, значит, фонарь около дома еще горел. В открытую форточку ворвался лязг пустого трамвая, хлопнула внизу дверь парадной, и тотчас раздался гулкий басовитый лай – волкодава из пятого номера повели на прогулку.
…Что ему снилось, Кравцов в точности припомнить не мог, но что-то определенно жуткое. Вроде бы его помощник, этот охломон Потапкин, вместе с мастером Фейгиным собрались его, старшего обжигальщика Кравцова Павла Ильича, загрузить во вторую периодическую печь, поскольку на участке, видите ли, до конца смены не хватило товара, то есть кирпича. А в печке, между прочим – уж кто-кто, а Кравцов знал, сегодня на термопару смотрел, и не раз, – температура тысяча четыреста градусов Цельсия.
И главное, лежит Кравцов на рольганге и знает, что сейчас закатят в печь, а сделать – ну ничего не может: ни ногой, ни рукой не двинуть, помер, что ли? И до того стало ему обидно, что вот – как захотят, так они сейчас с ним и распорядятся, до того страшно, что заорал он, завыл во всю мочь, и сперва не было звука, а потом прорвало, точно лопнула какая-то пленка, и от рева своего Кравцов, задыхаясь, проснулся.
…Собака внизу опять залаяла, аж зашлась от злобы.
«Носят черти по ночам с кабысдохом, – подумал Кравцов, – маются люди дурью, натащили полон город зверья и держат в квартирах для собственного удовольствия, для забавы. Огромные псы, назначенные природой для охраны складов или жизни в степи при стадах, томятся в клетушках, валяются по диванам, ведь вот запретили им в сады, так они – ночью…»
Сердце постепенно унялось. Кравцов снова лег, поджал ноги и приготовился заснуть, но не получалось. Картина давешнего сна стояла перед глазами, вылезали всякие мысли насчет несправедливости: и верно ведь, живые, что захотят, то и делают над мертвыми, а какое право, может, те и не желают. Раньше были всякие завещания, последняя воля, а сейчас? Дураку ясно – не каждый усопший, кого волокут в крематорий, давал при жизни на это свое согласие. А теперь, когда ему, бедняге, слова уже не вымолвить, близкие родственники, обливаясь слезами, отправляют его в огонь. Хотя, если подумать, кладбище – тоже не сахар…
Он понял, что никакого сна не выйдет, и стал уже трезво вспоминать нудный вчерашний день, который и послужил, теперь понятно, поводом для ночной чертовщины.
Вчерашний день, воскресенье как раз накануне отпуска, Павел Ильич Кравцов, кочегар-обжигальщик термического цеха, провел на кладбище – ездил на могилу жены, – и там ему очень не понравилось. Кладбище это, несмотря на лето, траву и цветы, выглядело на редкость уныло и страшновато. Без души. Хотя – уныло, тут, вроде бы, понятно – что веселого может быть на кладбище? – однако Павел Ильич отлично помнил, что на деревенском погосте, где под синим, выкрашенным масляной краской крестом уже сорок лет лежала его мать, вовсе не было уныло. Грустно – это да, и мысли всякие в голову приходили, спокойные мысли, неторопливые и важные, а уныния или уж, тем более, страха – не было.
Там, на сельском этом кладбище, взобравшемся на сухой холм в километре от деревни, стояли молчаливые и строгие березы, кусты малины разрослись у ворот, в начале лета вспыхивали одуванчики, а осенью вылезали на песчаных дорожках никому не нужные маслята. От подножья холма далеко, до самого леса, лежало ржаное поле, узкая и прямая дорога к опушке, где виднелась деревня, разрезала его, как пробор в волосах. Летали над полем и над березами, медленно взмахивая крыльями, разные птицы, и верилось, что мертвым тут спокойно. И было не страшно, когда подумаешь, что вот и самому придется так лежать. Не то что здесь, среди одинаковых казенных памятников, сделанных из какого-то шлакобетонного материала.
Нет, он, Кравцов, на такое не согласен.
Видел он, правда, сегодня одно старинное надгробие, не похожее на стандартные эти памятники. Большой замшелый камень лежал среди высокой травы в стороне от дорожки, а на камне – ни имени, ни фамилии, ни дат рождения и смерти. Всего три слова: «Вотъ и все».
То, что собственную его жену, Анну Ивановну Кравцову, скончавшуюся три месяца назад, похоронили там, куда он сам-то не хотел, это Павла Ильича не очень расстраивало: во-первых, его лично вины тут не было, все решал не он, а женина сестра, вздорная старуха, а во-вторых, Анне Ивановне, при ее характере и способности на все быть согласной, наверняка без разницы было, где лежать.
Странно это, и признавать неловко, но смерть жены не причинила Кравцову того горя, которое нужно испытывать в таких случаях. Тридцать лет прожили, а вот померла, а он хоть бы что: ест, пьет, на работу ходит в термический цех, теперь вот отпуск взял – и никакой такой особенной тоски, уезжал ведь он каждый год один то в деревню, то в дом отдыха, и никогда от отсутствия рядом жены никакого неудобства не испытывал, но сейчас-то совсем другое дело… Притворяться Павел Ильич не умел, и родные объясняли себе и другим внешнее его спокойствие и даже равнодушие шоком и болезнью – о смерти жены Кравцов узнал, сам лежа в больнице, и не сразу, а через восемь дней после похорон. Говорили, что пройдет неделя-другая или даже месяц, и он очнется, затоскует от одиночества, и тогда – беда. Но вот уже три месяца прошло, а никакого одиночества и горя не получалось. Павел Ильич сам удивлялся своему бездушию, раздумывал, почему это так выходит, и понять не мог. Внезапная и неожиданная кончина жены казалась ему случайностью, дурацкой ошибкой, и он чуть ли не саму Анну Ивановну готов был обвинить в том, что не сумела без него дать смерти надлежащий отпор, как никогда никому его дать не умела. Смерть-то, ясное дело, в тот день приходила за ним и, не застав дома, прихватила старуху просто со зла. Павел Ильич лежал в тот момент в больнице Эрисмана, как раз с подозрением на инсульт, состояние средней тяжести, а тут супруга его, никогда на сосуды и вообще ни на какие хвори не жаловавшаяся, ни с того ни с сего помирает именно от кровоизлияния в мозг, помирает в тот момент, когда собирает сумку, чтобы нести ему передачу в больницу, так и находит ее через час соседка Антонина – лежащей на полу посреди опрокинутых банок и раскатившихся яблок.
Получалось, будто безответная и бестолковая – грех говорить, но против правды не пойдешь – бестолковая! – Анна Ивановна как бы прикрыла Кравцова от пули противника. Это она уж обязательно бы так сказала, если бы, например, он, Павел Ильич, помер вместо нее, любила выдумывать и болтать ерунду, хотя вообще говорила мало – боялась его. Но уж если скажет, так что-нибудь выдающееся. Кстати, не так задолго до смерти вдруг объявила, что, когда помрет, превратится в какое-нибудь дерево, потому что часто видит во сне деревья с высоты, и близкое небо, и птиц, которые ее не боятся. Что до птиц, то, правду сказать, они ее и так не боялись, особенно синицы и воробьи – вечно толклись на карнизе у окна, клевали от пуза пшено и хлебные крошки.
…Опять забухал под окном соседский кобелина, и из сада напротив тотчас ответил тонкий тявк – наверняка та, рыжая, коротконогая и толстая ничья дворняга, которую вот уже год выкармливали пенсионеры из окрестных домов. Анна Ивановна, покойница, разумеется, и тут была в первых рядах: собирала в коробку из-под ботинок какие-то кости, огрызки, недоеденную кашу и носила.
Нет, не дадут заснуть, до утра будут собак пасти! Павел Ильич снова сел на кровати, спустил ноги, нашарил тапки, поднялся и побрел закрыть форточку. Фонарь уже погасили, а может, он и не горел вовсе, к чему теперь фонари – светло.
Белая, как ее называют, а на самом деле сероватого цвета прозрачная ночь текла мимо окна вдоль улицы, текла издалека, от Ладожского озера, от Невы, бесшумно омывая тихие, с погасшими окнами дома Петроградской, сонные головы деревьев в саду напротив, цветущие кусты сирени, беззащитный автомобиль, одиноко брошенный на мостовой. Текла эта светлая легкая ночь к островам, к заливу, а где-то за восточной окраиной, за безлюдными, отточенными улицами центра, за грудами новостроек уже назревало новое утро.
Худая кошка, воровато поводя хребтом, перебегала пустую улицу к саду, на охоту за птицами шла, хищная тварь. Мелкие каблучки процокали по тротуару, вскинулся где-то короткий гудок буксира – тащит небось баржу или большой пароход, время такое, когда разводят мосты на Неве. Дунул ветер, и дерево в саду напротив махнуло Кравцову корявой веткой: «Ложись, мол, спать, нечего тут…»
…Теперь он лежал на спине и опять с самого начала внимательно вспоминал весь вчерашний день. После кладбища он ехал от Парголова в просторной электричке. Ехал, смотрел в окно, пока на Удельной не подсела к нему грузная и неопрятная старуха в синем рабочем халате поверх летнего платья в горох, в толстых, несмотря на жаркий день, коричневых рейтузах, зимних носках и разношенных мужских полуботинках. Кравцов заметил эту старуху, когда она еще шла по проходу, выискивая место, неуклюжая и какая-то неустойчивая, как будто кто-то нахлобучил кое-как верхнюю половину ее туловища на нижнюю. Мест в вагоне было сколько угодно, но уселась она, как нарочно, рядом с Павлом Ильичом и тотчас заговорила тягучим и громким голосом:
– Наташка Козырева, сука, встала, умылась, расчесалась, а ей уж на тарелке яичницу подают. Яичницу! А моя дочка мучается, как макаронина белая, звонит: мама, я ночевать сегодня не приду. А той – яичницу. Встала, расчесалась…
Кравцов поднялся и вышел в тамбур. Можно было и на Ланской сойти, даже лучше. А потом – трамваем.
…Что было дальше? Пил пиво у ларька, минут двадцать в очереди отстоял, а куда торопиться? Купил хлеба в булочной без продавца. Вот и все дела. Вечером еще посмотрел газету, включил телевизор – показывали какую-то симфонию, а по второй программе – постановку, кончалась уже. Павел Ильич телевизор выключил и решил лечь спать, по ящику этому редко что хорошее бывает, кроме программы «Время» и футбол-хоккея. Анна Ивановна, та еще всегда глядела «В мире животных» – детские игрушки.
Так и прошло воскресенье. Завтра – первый день отпуска.
…Что он вчера за весь день сказал-то? «Один до Парголова и обратно» да еще – «Одну большую». Это когда пиво пил.
Зато в прошлый отпуск болтовни было сколько хочешь. По графику Кравцов гулял в феврале, взял в завкоме бесплатную путевку на две недели в дом отдыха в Зеленогорск, жил там в двухместной палате с одним пенсионером, который мог рассуждать, рта не закрывая, с утра до самой ночи, и каждый раз, о чем бы ни начал, первые его слова были «моя полемика такая».
– Моя полемика такая, – говорил он за завтраком подавальщице, наливая себе из чуть теплого чайника кофе, – я всегда предпочитаю знать, что я ем и что я пью, чтобы иметь возможность своевременно обратиться к врачу. Вот я вас, девушка, и спрашиваю: как называется этот напиток – отвар из желудей или бульон от мытья посуды?
Подавальщица дергала плечом и отходила, нервно толкая вдоль столов тележку, заставленную тарелками с кашей, а Павел Ильич справедливости ради возражал этому… постой, да как же его звали?.. что за бесплатно можно и желудевого кофе попить. Но старик упрямо талдычил свое:
– Моя полемика такая: говорю, что думаю, не могу молчать, если вижу безобразие, а тут – безобразие, воруют кому не лень, ты посмотри, какие они сумки вечером домой тащат! Все – хоть повар, хоть судомойка!
После завтрака они с Кравцовым обязательно шли в вестибюль и выстаивали длинную очередь за газетами. Павел Ильич, как дома выписывал, так и тут всегда покупал «Ленинградскую правду». А Полемика набирал целый ворох – и «Известия», и «Неделю», если была, а больше всего предпочитал «Литературку».
– Правильно пишут, – внушал он Кравцову вечером после ужина, – среду надо оберегать. Вот, – он тыкал пальцем в газетный лист, – опять, смотри, отравили реку, сгубили рыбу. И что? Начальству – выговор, а завод заплатил штраф. Государство, значит, наказали. Нет, моя полемика такая: за безобразие бить рублем. Каждого по личному карману, не по государственному. Чтобы заинтересованность была и ответственность. Чтобы болели за дело, а не так. Моя полемика…
Кравцов соглашался с ним уже сквозь сон, но потом отключался, а старик еще долго небось проводил свою политинформацию. Он вообще-то ничего, неглупый был старик, хотя и болтун… Да как же, в самом деле, его звали, черт возьми? Через справочную свободно можно было бы найти, поговорили бы…
Старик… Кравцов поерзал, перевернул подушку, ставшую какой-то жилистой, и подумал, что и сам-то он, по правде, старик – пятьдесят девять, через год можно на пенсию, только кто его пустит из цеха, да он и сам не пойдет, что одному дома делать? Анна Ивановна, покойница, та вот нисколько не скучала на пенсии, выдумывала себе всякие дела, иногда довольно глупые: тогда, прошлый год, когда собирала его в Зеленогорск, целыми днями бегала по магазинам. И выбегала, дурища: рубашка финская, нейлоновая, галстук – польский, кофта шерстяная, называется «полувер» вообще черт-те чья. Вещи, безусловно, хорошие, как говорят, даже шикарные, но ему-то они на что? Два раза надеть в доме отдыха, в кино…
Кравцов тогда отругал жену, что говорить, крепко отругал, до слез. Она все повторяла:
– Я же – чтоб ты не хуже людей, там ведь всякие будут, и инженера, а ты еще интересный, молодой…