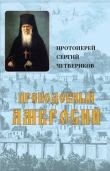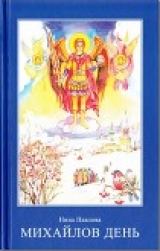
Текст книги "Михайлов день (Записки очевидца)"
Автор книги: Нина Павлова
Жанры:
Религия
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 23 страниц)
СИРОМАХА
Сиромахи – это бродячие афонские монахи, не имеющие постоянного места пребывания. На праздники они приходят в тот или иной монастырь и, получив свою толику пропитания, опять отшельничают, спасаясь каким-то особенным и неведомым миру путём.
В Оптиной пустыни была своя сиромаха – почти девяностолетняя монахиня Варсонофия, неутомимо странствовавшая с посохом от монастыря к монастырю. Всё своё имущество – две торбы на перевязи через плечо и одну в руках – она носила с собой. И было то имущество, что называется, мышиным счастьем – на дне торбы огрызки хлеба, а остальное – бумаги да поминальные записки, большей частью до того ветхие и дырявые на сгибах, будто их и вправду погрызли мыши. Приходила странница в Оптину обычно ближе к ночи и стучала посохом в окно: «Пустите ночевать». Кто-то пускал её в дом, а бывало, и не пускали, зная привычку монахини Варсонофии не спать ночами и молиться на коленях до рассвета. Ладно бы сама не спала, а то ведь начинала среди ночи будить спящих:
– Что спишь, соня? Прими во уме Суд грядущий и встань помолиться.
Будила она, замечу, настойчиво, а потому и ночевала временами где-нибудь в сарайчике, пристроив в изголовье свои драгоценные торбы. Торбами она необычайно дорожила, а вот тёплые вещи, какие давали ей зимой, теряла или бросала где попало.
Мать Варсонофия была девицей, постриженной в монашество ещё в молодости, а почему она странствует, никто не знал. Не от бесприютности, это точно. Рассказывали, что отец-наместник известной обители так возлюбил старенькую монахиню, что выделил ей келью в монастыре. Но мать Варсонофия в ней почти не жила – разве что в лютые морозы, а потом с лёгкостью птицы снова отправлялась в путь.
Раньше она бывала в Оптиной редко и только в глубокой старости осела здесь. Годы всё же брали своё – маршруты странствий становились короче, и на службе монахиня теперь сидела. Впрочем, сидела она и не на службе. Как придёт в пять утра в церковь, сядет на лавочке, разложив вокруг себя бумаги из торбы, так и сидит здесь до закрытия храма, перебирая свои записки. В трапезную она не ходила, не интересуясь едой. Угостят её чем– то – она пожуёт, а то достанет из торбы краюху хлеба, откусит кусочек и запасливо спрячет хлебушек обратно в торбу.
Жила мать Варсонофия по-монашески скрытно и лишь молилась над своими бумагами, пребывая вне мира и не замечая никого. Но в какой-то момент богослужения она убирала бумаги в торбу, шла ставить свечи к иконам, и тогда слоняющимся по церкви говорливым людям лучше было не попадаться ей на глаза. Обличала она за разговоры так – ткнёт говоруна посохом и изречёт:
– Положих устом моим хранило!
Потом тычок посохом доставался следующему, и опять гремел её голос, обличая нечестие:
– Да постыдятся беззаконующие вотще!
Смиренные в таких случаях смирялись. Благоразумные отмалчивались из уважения к старости. А вспыльчивые вскипали так, что однажды дежурный по храму сломал о колено её посох. Правда, потом дежурный покаялся, подарив монахине новый посох, и они сдружились так тесно, что стали уже сотаинниками. Словом, были в Оптиной люди, почитавшие монахиню как особенного Божьего человека.
И всё-таки странница настолько не вписывалась в нынешнюю жизнь, что иногда на неё жаловались батюшкам. Пожаловалась однажды и я, увидев, как мать Варсонофия огрела по спине нахального юнца. За дело, конечно. Нахальство юнца выходило уже за те пределы, когда он мог даже в храме оскорбить мать. Проучить нахала хотелось тогда многим, но тут все дружно осудили рукоприкладство. Мы ведь гуманисты, точнее, жертвы того смердящего «гуманизма», когда наших балованных деточек не то что пальцем не тронь, но и слова поперёк не скажи – надерзят. Рассказала я про рукоприкладство своему духовнику и спросила:
– Что делать?
– Терпеть, – ответил батюшка.
А терпеть-то и не пришлось, ибо мать Варсонофия вскоре умерла. Перед смертью она просила каждого, кто приходил к ней проститься, взять себе её торбы, набитые синодиками с именами усопших и записками о упокоении, чтобы после её кончины их продолжали читать.
– Это великая добродетель христианина – поминать усопших! – говорила она умильно и с надеждой заглядывала каждому в глаза.
Но люди стыдливо смотрели в сторону, и взять её торбы не решился никто. Это же десять или пятнадцать килограммов записок об упокоении и тысячи тысяч имён. Говорят, что эти многотысячные синодики об упокоении мать Варсонофия знала наизусть. Память у неё была феноменальная, а убедилась я в этом так. После смерти мамы я раздавала в храме фрукты и сладости на молитвенную память о ней. Раздала уже всё, когда заметила молившуюся в уголке мать Варсонофию. В сумке обнаружились лишь две помидоринки. Отдала я их монахине с просьбой помянуть мою маму Анастасию, а через пять лет она окликнула меня во дворе монастыря и сказала:
– А твою маму Анастасию помню и поминаю всегда.
Вот так, всего за две помидорки, она пять лет вымаливала мою маму.
А ещё вспоминается история с городским кладбищем Козельска. В годы гонений, когда закрыли монастыри, здесь хоронили оптинских монахов и шамординских сестер, но где чьи могилы – никто не знал. Архивы за давностью лет не уцелели, а надписи на могилах уничтожило время. И оптин– ские иеромонахи служили панихиды среди безымянных могил, поминая усопших словами: «Господи, Ты веси их имена».
Однажды осенью приехали на кладбище отслужить панихиду. Листопад украсил могилы золотистыми листьями клёнов и намёл на аллее большой ворох листвы. Вдруг этот ворох зашевелился, и из-под листьев показалась тщедушная весёлая монахиня Варсонофия.
– Мать Варсонофия, – удивились все, – ты что, на кладбище ночуешь?
– А меня покойнички любят,– ответила монахиня и тут же повела братию по кладбищу, показывая, где кто лежит.
Потом иконописцы Оптиной пустыни ещё не раз приезжали на кладбище, восстанавливая по указанию монахини Варсонофии надписи на могилах и слушая её рассказы о дивных подвижниках благочестия, пострадавших в годы гонений. Она их помнила, знала, любила и молилась ночами за них. Спящей её редко кто видел.
– Мать Варсонофия, – допытывались мы, – да как же ты выдерживаешь без сна?
– Покойнички помогают! – радостно отвечала она.
Как помогают, она не уточняла. Но из летописей известны, например, такие факты. В 1240 году на Русскую землю внезапно вторглось могучее шведское войско, а у благоверного князя Александра Невского была лишь небольшая дружина, и не было времени собрать ополчение. «Не в силе Бог, а в правде», – сказал князь перед боем своей малочисленной дружине. А на рассвете перед началом битвы дозорный Пелгусий увидел на реке судно, на котором поспешали на помощь князю Александру воины уже минувших веков во главе со святыми страстотерпцами Борисом и Глебом. Шведы были разбиты – и даже на том берегу реки, где не было ни одного русского воина.
А вот совсем недавняя история, рассказанная оптинским паломником военнослужащим Иваном. До армии Иван часто бывал в Оптиной и подружился здесь с иноком Трофимом (Татарниковым), убиенным на Пасху 1993 года. А потом на чеченской войне Иван с несколькими солдатами попал в засаду. Всех солдат расстреляли в упор, а Ивана боевики решили взять живьём, окружив его и подбираясь всё ближе. И тогда Иван сорвал чеку с гранаты, решив взорвать боевиков вместе с собой. Он уже возносил к Богу предсмертные молитвы: «Господи, прими дух мой», когда перед ним предстал инок Трофим и сказал как живой:
– Иди за мной.
Как убиенный за Христа инок вывел его из кольца боевиков, этого Иван не понимает до сих пор. Очнулся он в безопасном месте и уже тут перепугался, увидев, что держит готовую взорваться гранату, и стал, торопясь, обезвреживать её.
Тайна участия усопших в жизни живых сокрыта от нас, но мать Варсонофия знала о ней. Во всяком случае, она советовала инокиням из разорённой обители непременно поминать на панихидах сестёр, умученных в годы гонений:
– Они помогут, ещё как помогут!
А теперь на панихидах в Оптиной поминают монахиню Варсонофию. Смерть странным образом преображает человека в нашем представлении о нём. И юные озорники, которым доставалось, бывало, от монахини за шум и возню в храме, теперь утверждают, что гоняла она их «по справедливости», а вообще-то любила их. Наверное, любила.
И всё же усопших она любила больше живых – они ей были роднее и интереснее, потому что ТАМ уже всё НАСТОЯЩЕЕ. На земле душе тесно в суете сует, и давят заботы о тленном и преходящем. А там душа вольная, там жизнь духовная. Может, потому и странствовала она всю жизнь вне забот о тленном, забывая о житейских нуждах, как забывает взрослый человек о детских игрушках. А вера у монахини Варсонофии была, по сути, простая. Мы же просим на панихидах, поясняла она, чтобы наши усопшие молили Бога о нас. А это не пустые слова. Они действительно молятся о нас, помнят и любят. Всё земное перемелется, останется любовь.
Боюсь что-нибудь преувеличить, но монахиня с таким радостным воодушевлением относилась к усопшим, что после её кончины вспомнились строки, написанные моим другом поэтом Сашей Тихомировым. Умер он рано, а в предчувствии кончины писал:
Догадался по многим приметам,
Что идём мы на праздник большой:
Станем чистым и радостным светом,
Что у каждого есть за душой.
Что-то знала мать Варсонофия об этом нездешнем радостном свете. Похоже, знала.
ВОСПОМИНАНИЕ ЧУДА ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ ЕВФИМИИ
Сейчас мои друзья Серёжа и Ирина живут во Франции и, слава Богу, в достатке. Но я помню ещё те времена, когда после рождения пятого ребёнка они претерпевали нужду, проживая по соседству со мной в доме возле Оптиной пустыни. Это потом Серёжа стал профессором и доктором математических наук. А тогда ему, молодому учёному, платили такую нищенскую зарплату, что следовало бы уже в день получки становиться на паперть и стоять там с протянутой рукой.
На нужду Серёжа с Ирой не роптали, но жили в режиме строжайшей экономии. И сразу после получки Серёжа раскладывал деньги по конвертам: это на молоко, это на крупы, а это на пелёнки новорождённому Санечке.
– А Танечке? – спрашивала мужа Ирина. – Серёжа, пойми, ведь Таня голодает.
И Серёжа начинал перераспределять их скудный бюджет, отнимая что-то от молока и пелёнок, чтобы помочь голодающей Тане. Помогали они Татьяне годами. А мне было известно о Тане одно – после смерти мужа она осталась одна-одинёшенька и впала в такую депрессию, что не могла работать, голодала и несколько раз пыталась покончить с собой, попадая в итоге в психиатрическую больницу.
Впрочем, в болезни Танечки были те светлые промежутки, когда она снова начинала работать и даже хорошо зарабатывала. Таня была художницей и, говорят, талантливой. Во всяком случае, в салонах, торгующих произведениями искусства, её работы пользовались спросом и уходили, что называется, с колёс. Все радовались – Танечка выздоровела! А потом опять была попытка самоубийства, Таня снова попадала в больницу, а Серёжа с Ирой жертвенно помогали ей. Правда, с деньгами теперь стало полегче. Оказывается, наш Серёжа сделал открытие в науке и сообщил о нём в докладе на международном конгрессе математиков. А после конгресса его пригласили прочитать курс лекций в Америке и во Франции. Помню, как Серёжа вернулся из Америки и сказал:
– Нет, жить можно только у нас в Козельске.
Потом была Франция, но и после Парижа Серёжа утверждал, что жить в Козельске всё-таки лучше. Мы поддразнивали Серёжу за его любовь к нашему Козельбургу, он же Козельск, и одновременно понимали его. Русскому человеку, привыкшему жертвенно помогать ближним, трудно привыкнуть к той западной практичности, когда отец даёт сыну деньги исключительно в долг, а у мужа с женой свои отдельные банковские счета. Мы другие. Они другие. И в письмах знакомых, уехавших из России, встречаются грустные строки: «Эта жизнь не для нас, но для наших детей».
Впрочем, дело здесь, возможно, не в Париже или Козельске, но в том устроении Серёжи, когда он тяжело переживал разлуку с семьёй и боялся упустить детей. Ира в его отсутствие едва справлялась с ними, и только после возвращения мужа в доме снова водворялся тот порядок, когда утром и вечером все становились на молитву, по субботам готовились к исповеди, а в воскресенье причащались всей семьёй. Наконец, Серёжа был убеждён, что православие и невежество несовместимы, и много занимался с детьми. Уже в дошкольном возрасте Серёжины дети бойко говорили по-английски и в подражание папе любили математику.
Однако отечественная наука бедствовала, и нужда заставляла Сергея уезжать на заработки в Европу. А только жить друг без друга Серёжа с Ирой не могли. Ну, с Серёжей всё понятно – он влюбился в свою Ирочку с первого взгляда, а вот с Ириной было сложнее. Сейчас в это трудно поверить, но наша кроткая домашняя Ириша ещё в школе убегала из дома, бродяжничая вместе с «хиппи», а во время учёбы в художественном училище пропадала в тех компаниях, где курили «травку» и хлестали водку. Мама Иры была в отчаянии. А батюшка дал Серёже послушание – познакомиться с Ириной и образумить её, желательно женившись на ней. Слова о женитьбе были сказаны, возможно, в шутку, но ведь случается, знаю, и такое, когда опытному духовнику бывает открыто, что эти двое созданы Господом друг для друга и не смогут порознь жить на земле. Во всяком случае, семейное предание гласит – Серёжа явился знакомиться с Ириной в больницу, где она лежала тогда с пневмонией, и, влюбившись до беспамятства, сделал предложение руки и сердца в такой элегантной форме:
– Простите, но за послушание батюшке я должен жениться на вас.
Ириша тут же ловко запустила в жениха больничными тапками. В общем, год она швыряла в Серёжу различными предметами и даже после свадьбы, бывало, фыркала:
– Серёжа хороший, но такой положи-и-тельный. Ну, какая из меня жена?
Жена из Ириши была сначала никакая – каша у неё подгорала, а молоко убегало. Строгие деревенские старухи осуждали Иру за подгоревшие кастрюли, а, главное, за то непутёвое поведение, когда она могла танцевать со своими детьми под тёплым июльским ливнем, наслаждаясь этим праздником лета. Старухи даже предсказывали – бросит Серёга непутёвую Ирку. Но Сергей любил свою весёлую жену и никогда не променял бы её на ту рачительную хозяйку, что с утра до ночи драит свой дом, как матрос палубу, и душит почему-то смертельной скукой этот стерильный самодостаточный быт. Словом, вопреки предсказаниям старух, а также психологов, утверждающих, что любовь в браке с годами проходит, перерастая в дружбу или в злобу, у математика и художницы всё было иначе. Их привязанность друг к другу росла, и однажды наша Ирина без памяти влюбилась в собственного мужа.
Когда Серёжа уезжал за границу читать свои лекции по математике, Ириша, казалось, обмирала от боли, отсчитывая даже не дни, а часы до его возвращения. Однажды Серёжа не приехал вовремя из-за какой-то аварии на железной дороге. Сутки не было никаких известий. И на Ирину в это время было страшно смотреть – она слегла и шептала каким-то осипшим, не своим голосом:
– Я умру без Серёжи. Грех так думать, но я умру без него. Как же я понимаю теперь Танечку, и какая же это нестерпимая боль!
Вот тогда она и рассказала мне историю Танечки, историю того безумного брака, когда юная студентка Таня вышла замуж за «старика»-скандинава, приговорённого врачами к скорой неминуемой смерти. Правда, «старик» в свои пятьдесят лет выглядел молодо – этакий загорелый синеглазый викинг с выгоревшими на солнце волосами. Скандинав действительно был мореходом и много путешествовал по миру на своей яхте, собрав уникальную коллекцию произведений искусств. Он был, наконец, блестяще образованным человеком и защитил свою магистерскую диссертацию по иконописи Древней Руси. Но он умирал, оставляя после себя богатое наследство, и его приёмные дети (своих не было) обратились в суд, добиваясь признания своего отчима умалишённым и рисуя такую картину: умирающего и уже потерявшего разум человека окрутила наглая хищница, чтобы унаследовать его миллионы. Но Таня выходила замуж не за богатого, а за любимого, и муж по её настоянию отказался от своего имущества в пользу детей. Им было отпущено слишком мало времени на этой земле, чтобы тратить его на тяжбы о наследстве. Каждый день мог оказаться последним, и они прожили два года на краю смерти, не в силах надышаться своей любовью.
По словам Иры, именно благодаря мужу Таня стала самобытным художником, ибо все они в ту пору «модничали», подражая абстракционистам Запада, и, говоря словами классиков, донашивали старые шляпки, выброшенные Европой. Но Танин муж был влюблён в древнерусское искусство и привил эту любовь жене. Он возил её в Ферапонтов монастырь к фрескам Дионисия. А ещё его глазами Таня увидела то чудо русского Севера, когда белыми ночами под белёсым небом цветы вдруг начинают светиться яркими красками, а в предрассветные часы можно увидеть, как вокруг цветка, будто нимб, сияет ореол.
Словом, эта была история той большой любви, когда немыслимо разлучиться даже на миг. Разделяло супругов только одно – Таня была православной, а её муж католиком. По воскресеньям он уходил на свою католическую мессу, а Таня шла на литургию в храм.
После смерти мужа Таня будто умерла вместе с ним. И её горе перерастало в отчаяние от мысли – они с мужем разной веры, и им не дано быть вместе в той будущей жизни, где уже «несть болезнь и печаль», но есть единение в любви. После смерти мужа Таню преследовал один и тот же сон – её муж погибает в морской пучине, а вода грязная и чёрная, как нефть. Муж отчаянно кричит, призывая на помощь. Таня бросается к нему, но не может приблизиться. Их разделяла, она чувствовала, разная вера. И тогда Таня перешла в католичество, заведомо зная – это вера не спасительная. Но она готова была сойти даже во ад, лишь бы быть рядом с мужем и вместе с ним
А после перехода в католичество и начался тот ад, когда во сне и наяву Таню преследовал некий чёрный человек и тащил её за руку в бездну. Таня просыпалась теперь от собственного крика и билась насмерть с чёрным демоном, с силой вонзая в него нож. Позже я увидела искалеченную левую руку Тани и ужаснулась страшным сине-багровым рубцам.
– Это не самоубийство, а убийство чёрного человека в себе, пусть даже ценою собственной жизни, – сказал о болезни Тани известный психиатр, принявший позже сан священника. – Тут духовная болезнь, и нейролептиками её не вылечишь.
Так и вертелось годами то колесо, когда Таня выздоравливала, возвращаясь в родную ей с детства православную Церковь. Но тоска по мужу гнала её в костёл, и опять тащил её в бездну жуткий чёрный демон.
Увидела я Таню лишь через несколько лет, когда она приехала в Оптину пустынь и гостила у своей подруги Ирины. Признаться, меня удивила эта спокойная красивая женщина, преисполненная какой-то внутренней гармонии. От Иры я знала, что Таня давно уже порвала с католиками и с психиатрами больше дела не имеет. И всё-таки психиатрическая больница обычно оставляет на своих пациентах ту особую метку, что так или иначе обнаруживает себя. Тут никакой этой метки не было. Более того, Татьяна поражала такой ясностью и твёрдостью духа, что я даже засомневалась, а было ли с нею в действительности то страшное, о чём рассказывала Ира, или, может, что-то преувеличено?
– Нет, это было, – ответила Таня и, закатав рукав, показала руку в рубцах.
А ещё я помню, как мы возвращались с Танечкой из монастыря и шли через пестреющий ромашками луг. Ромашки в этот год были особенно крупные, и Таня в белом платье с букетом ромашек была похожа на невесту. Разговаривать было нельзя – Таня только что причастилась на литургии, и мы лишь молча улыбались друг другу. А Таня вдруг сказала счастливо:
– Знаете, какой сегодня день? Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной. Со мной в день её памяти было похожее чудо, но слишком личное – не могу рассказать.
На том мы и расстались. А потом мои друзья уехали во Францию, и Ира писала оттуда письма, вопрошая с отчаянием: «Неужто мы неверные?!» Оказывается, она прочитала или услышала от кого-то слова преподобного Амвросия Оптинского о том, что Господь изгонит неверных от Оптиной пустыни, останутся здесь только верные. Я таких слов у преподобного Амвросия не встречала и подозреваю, что это легенда. Но Ирина воспринимала сначала их переезд во Францию как изгнание из благодатной Оптиной в ту страну далече, где многое было чуждым по духу, и трудностей на первых порах хватало. Самое главное, не удавалось наладить отношения с их приходским священником, искренне не понимающим, зачем Ирине надо так часто исповедоваться и причащаться. Службы в их храме были редкими, а причащались в основном лишь Великим постом. Но Ирина вынашивала тогда своего шестого ребёнка – Ванечку и следовала правилу, данному ей духовным отцом: причащаться вместе с будущим Ванечкой еженедельно. Так она вынашивала всех своих детей и не понимала, как можно иначе.
Недоразумений на первых порах было так много, что Ира, бывало, «сбегала» из Франции и приезжала в Оптину за советом к своему духовному отцу – старцу схиархимандриту Илию. В один из таких приездов я спросила Иру о Танечке – как она и приходится ли им, как и прежде, помогать ей?
– А зачем помогать? – удивилась Ирина. – Танины работы хорошо покупают. Правда, она почти все деньги жертвует на храм и только храмом живёт.
Про чудо, случившееся с Таней в день памяти великомученицы Евфимии, Ира ничего не знала, но обещала при случае расспросить. А я после встречи с Таней не раз перечитывала житие великомученицы Евфимии, в честь которой Церковь установила особый праздник – Воспоминание чуда великомученицы Евфимии Всехвальной.
Произошло это чудо в 451 году на четвёртом Вселенском Соборе, проходившем в церкви, где находились мощи великомученицы Евфимии. Нашей Церкви тогда угрожала расколом ересь монофизитов. Сторонников монофизитов на Соборе было много, и переубедить их не мог никто. И тогда святитель Анатолий, Патриарх Константинопольский, предложил предоставить решение церковною спора Духу Святому через Его несомненную носительницу святую Евфимию Всехвальную. Православные святители и их противники написали своё исповедание веры на отдельных свитках и, открыв гробницу великомученицы Евфимии, положили оба свитка на её груди. Гробницу запечатали императорской печатью, приставив к ней стражу, и три дня обе стороны усиленно молились, наложив на себя строгий пост. Когда же через три дня в присутствии всего Собора открыли ковчег с мощами, то обнаружилось – еретический свиток лежал в ногах великомученицы, а свиток с Православным исповеданием святая Евфимия держала в правой руке и, как живая, подала его Патриарху. «После этого чуда, – говорится в житии великомученицы Евфимии, – многие из уклонившихся приняли Православное исповедание».
Таня тоже была уклонившейся от Православия, правда, в силу сугубо личных причин. Но история её болезни и выздоровления – это ещё одно свидетельство об истинности Православия. Конечно, в наш маловерный век никто уже не дерзает свидетельствовать об истине именем Духа Святого и утверждать решения Вселенских Соборов характерной подписью святых отцов: «Тако изволися Духу Святому и нам». Мы другие сегодня, но Господь и ныне всё Тот же, и «Духом Святым всяка душа живится». Здесь у каждого православного человека есть свой опыт духовных болезней и тех высоких мгновений жизни, когда душа вдруг почувствует дуновение Духа Святого, и жить без Бога уже не может, ибо мертвеет душа без Него.
Такой опыт был дарован рабе Божией Татьяне, и чудо, свершившееся с ней в день памяти великомученицы Евфимии Всехвальной, несомненно, связано с ним. Но что за чудо, не знаю, а спросить некого. Ирина с Серёжей, похоже, прочно осели во Франции, где Сергея сейчас готовят к рукоположению в сан священника, а его старший сын уже иподиакон.