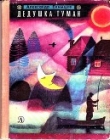Текст книги "Мой дедушка - застрелил Берию"
Автор книги: Николай Переяслов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 7 страниц)
Ты знаешь край, где все обильем дышит,
Где реки льются чище серебра,
Где ветерок степной ковыль колышет,
В вишневых рощах тонут хутора,
Среди садов деревья гнутся долу
И до земли висит их плод тяжелый.
Шумя, тростник над озером трепещет,
И чист, и тих, и ясен свод небес,
Косарь поет, коса звенит и блещет,
Вдоль берега стоит кудрявый лес,
И к облакам, клубяся над водою,
Бежит дымок – синеющей струею.
Ты знаешь край, где нивы золотые
Испещрены лазурью васильков,
Среди степей курган времен Батыя,
Вдали стада пасущихся коров,
Обозов скрип, ковры цветущей гречи,
И вы, чубы – остатки славной Сечи!..
Много в этих вдохновенных словах поэта напоминает мне родное село..."
Таким образом из этой пространной цитаты видно, что, несмотря на свою сугубо воинскую судьбу (шутка ли, с 1920 по 1985 год – в армии!), дедушка мой был вовсе не чужд лиризма, о чем, собственно говоря, он и сам несколько далее проговаривается, сообщая, что "почти каждый год получал похвальные грамоты за успехи в учебе и книги, много книг – собрания сочинений Пушкина, Лермонтова, Гончарова, Тургенева, Данилевского и Л. Толстого. Так, уточняет он, – я стал обладателем небольшой, но драгоценной для меня библиотеки. Книги были моими друзьями с тех пор, как помню себя. Им отдавал все свободное время. Перечитал почти всю нашу сельскую библиотеку, обменивался книгами со сверстниками. Читал в общем-то бессистемно, все, что попадется. Но в то же время, как я теперь понимаю, бессознательно искал в книгах ответы на жгучие вопросы, с которыми сталкивала жизнь, невольно сравнивал прочитанное с тем, что видел вокруг себя..."
Наткнувшись в его воспоминаниях на этот абзац, я был не то, чтобы удивлен, но в буквальном смысле слова поражен открывшимся мне неожиданно сходством: ну надо же, точь-в-точь – я! Просто поразительно, как мы с ним похожи, хотя ни разу в жизни не виделись, и я думаю, что он вряд ли даже и знал о моем существовании. Может быть, конечно, в письмах с малой родины кто-то из родных и сообщал ему время от времени о том, что у такой-то из его сестер родился внук, у такого-то брата – внучка (а мы с ним родились почти в один день: он – 11-го, а я – 12 мая, так что хотя бы по этой причине, думал я, он должен был обратить на меня свое внимание), но скорее всего мы для него были существами уже совсем иного (как теперь говорят виртуального) мира.
Не стану скрывать, где-то на самом дне души, словно затонувшие в океанской пучине пиратские сокровища, хоронилась до поры до времени мысль поехать после окончания десятого класса в Москву и, разыскав там деда, воспользоваться его помощью, как трамплином, для вхождения в иные, более высокие сферы жизни. Будучи, как и он, человеком читающим и мечтательным, я класса уже, наверное, с пятого, если не раньше, ощущал в себе некое неясное томление, накатывавшее на меня обычно весной, когда аромат цветущих садов и сирени смешивался с запахом тлеющих терриконов, и в ночной тишине с какой-то обостренной отчетливостью становился слышен перестук колес проезжающих где-то вдалеке поездов... Душа наполнялась непонятной тоской, мир начинал казаться тесным, как бабушкино подворье, сердце рвалось куда-то на простор, хотелось вскочяить на (последнего в селе) тонконогого коня и усакать на нем в большую жизнь, в столицу, в свое непредсказуемо заманчивое будущее...
Когда я учился в седьмом классе, от нескольких полученных в шахтострое черепно-мозговых травм и наложившегося на них многолетнего пьянства сошел с ума мой отец, который после очередного учиненного им скандала схватил подвернувшийся под руку молоток и проломил мне, маме и моей сестре Аньке головы. С учетом того, что по счастливой случайности (или Божьему произволению) он не нашел тогда в темноте чулана топор и вынужден был из-за этого убивать нас молотком, все произошедшее с нами в ту осень можно было считать настоящей удачей. Правда, из-за того, что по выходе из больницы нам не на что стало жить, сестра вместо продолжения учебы вынуждена была пойти работать в шахтную библиотеку, но в этом даже оказалась своя очевидная польза. Помимо своей скудной библиотекарской зарплаты, она теперь постоянно приносила в дом книги и журналы, и точно так же, как это делал в свое время невиденный мной дедушка, я "бессознательно искал в книгах ответы на жгучие вопросы, с которыми сталкивала жизнь, невольно сравнивал прочитанное с тем, что видел вокруг себя..."
Хотя, честно говоря, что я мог видеть вокруг себя, кроме шахт на горизонте да шахтеров на улицах? Быт городка был пропитан этой темой, как шахтерские спецовки угольной пылью, даже названия у нас были образованы исключительно по отраслевому признаку – улица "Шахтерская", кинотеатр "Шахтер", кафе "Шахтарочка", гастроном "Шахтерский", площадь Погибших Шахтеров, поселок Шахты № 3-3 бис, город Шахты, футбольный клуб "Шахтер", остановка Шахтинская... И только иногда, чуть ли уже не как модернизм – ДК "Горняк", микрорайон "Горняцкий", гостиница "Дом Горняка".
В шестнадцать лет, выволакивая семью из нищеты, я пошел работать на шахту "Краснолиманская" и проишачил на ней до своего поступления в институт целых три с лишним года, сначала – в качестве ученика электрика на поверхности, потом – подземным мотористом, электрослесарем участка шахты, а под конец – и на самой высокооплачиваемой и уважаемой должности горнорабочего очистного забоя IV разряда или, как писали сокращенно в нарядах – ГРОЗ. (На соседней шахте "Родинская" такая же точно должность называлась почему-то уже просто – рабочий очистного забоя, то есть РОЗ. Так что в нашем городке из-за этого образовались как бы две профессиональные касты – РОЗы и ГРОЗы, которые постоянно соперничали между собой по части темпов добычи угля и размеров заработков.)
Жизнь тащилась по единообразной и, казалось, навеки установленной схеме – отцы вкалывали на шахтах, устанавливая рекорды суточной добычи угля, после смены пили в пивной водку и говорили о работе, их сыновья кое-как учились в школе, получая там свои двойки-тройки, а после уроков пили после вино в клубной уборной, дрались между собой на танцплощадке, а на другой день встречались в больнице в очереди к одному хирургу и обсуждали подробности вчерашней драки.
Мне – это было скучно. Может быть, именно поэтому я начал писать стихи и посещать литературное объединение "Мрiя" (что в переводе с украинского означает "Мечта") при районной газете "Маяк", которое вел её сотрудник Владимир Антонович Гришко, писавший на украинском языке нескончаемые "Сонеты Партии" и отправлявший их по почте в Донецкий Обком КПСС. Из стихов на русском языке мне запомнилась его поэма-оратория в честь 300-летия города Днепропетровска, сквозь которую эдаким стибренным у Маяковского рефреном проходили слова "гиганто-домно-главый мартено-огне-сад".
А может быть, в основе моего импульса к сочинительству лежала и не одна только скука, а было это, так сказать, нашим родовым качеством – вон ведь и Кирилл Семенович, как упоминает о том в своих воспоминаниях в журнале "Военная мысль" полковник Ф. Д. Давыдов, несмотря на свою весьма плотную загруженность делами, довольно "часто выступает с интересными статьями в периодической военной печати". Да и бывший главный редактор газеты "Красная Звезда" Д. И. Ортенберг, и генерал армии Д. Д. Лелюшенко, и целый ряд других мемуаристов тоже указывали на тягу маршала Москаленко к литературно-журналистскому труду и на то, что он относился к печатному слову с большим почтением, "всегда находил время, чтобы перечитать труды В. И. Ленина по военным вопросам, заглянуть в книги по истории древних и современных войн, по стратегии, оперативному искусству. Пушкина, Толстого, Некрасова, Кольцова, Байрона, Шиллера, книги советских писателей читал запоем." С юности был знаком с классиком украинской литературы (тогда, правда, ещё молодым поэтом) Владимиром Сосюрой, который осенью 1917 года помог ему поступить в агрономическое училище, позже – дружил с Константином Симоновым.
В дневниковых записях последнего, кстати, сохранилась запись о посещении им командного пункта 38-й армии и встрече с К. С. Москаленко. Писателю было известно, что готовится наступление, он хотел узнать о нем более подробно и ради этого отправился на встречу с командармом. Москаленко хорошо знал Симонова, относился к нему с большим уважением, но раскрыть ему раньше срока план операции все равно не мог.
"...Днем, – записал в своем дневнике писатель, – я пришел к Москаленко с надеждой хотя бы примерно узнать, что предстоит, каков общий замысел операции... Но, к моему огорчению, вместо этого Москаленко целый час очень мило говорил со мной о литературе, сперва о Некрасове и Кольцове, потом о Новикове-Прибое и "Порт-Артуре" Степанова. Обо всем этом я с удовольствием бы поговорил с ним в другой раз, но вчера меня интересовала предстоящая операция, однако как раз о ней и не было сказано ни единого слова..."
Не стану утверждать, что аналогичная "литературная жилка" проявилась в членах нашего рода в массовом порядке, но какое-то смутное влечение к перу и бумаге сидело, по-видимому, во многих. Помню, как однажды в детстве мы с мамой и сестрой Тонькой зашли по пути к бабушке Доне к брату моего отца дядьке Мишке. Посмотрев перед выходом из дома недавно купленный и ещё не успевший надоесть (а тем более опротиветь, как сейчас) телевизор, я, все ещё пребывая в возбуждении от увиденного, спросил прямо с порога у его жены тети Мили, смотрели ли и они закончившееся около часа назад кино.
– Та у нас тут и без телевизора кино! – горестно кивнула она на ссутулившегося за столом мужа, который, с превеликими усилиями удерживая в руке карандаш, тщательно выводил что-то на повыдерганных из школьной тетрадки страницах.
Заглянув в несколько отодвинутых на край стола листов с забракованными началами, я прочитал:
"Цэ було в одна тысяча дэвятсот сорок трэтьому годи..."
"Цэ случилось прямо на моих глазах..."
"Цэ було у войну..."
– А шо то вин делае? – удивленно спросила тем временем мама у тети Мили.
– Кныгу пышэ, – вздохнула та и смахнула краем платка набежавшую на глаза слезу.
– Кныгу? – удивленно вскинула брови мама. – Про шо?
– "Про шо", "про шо"! – оторвавшись вдруг от своего труда, передразнил её дядька Мишка. – Про подвыг! – и с тяжелым стуком обрушился головой на стол, выбив при этом на пол листок с очередным недописанным зачином.
Быстро наклонившись, я поднял его из-под ног и прочитал:
"Про цэ знаю тилькы я. Цэ було так..."
Несколько лет спустя, не выходя из состояния постоянного алкогольного опьянения, он повесится под окнами своего дома, привязав электрический провод к перекладине приставленной к фронтону лестницы. И подвиг, о котором он собирался поведать миру, так и останется неизвестным.
Впрочем, как бы то ни было, но именно отсюда, со студии "Мрiя" и проводившихся на ней нудноватых занятий, включавших в себя помимо традиционного обсуждения наших рифмованных опусов ещё и навязанную Владимиром Антоновичем "Школу очерка" и другие чисто журналистские дисциплины, как раз и начался мой путь к должности главного редактора одной из известнейших в России газет (с которой я только что слетел из-за малейшей, можно даже сказать – ничтожнейшей опечаточки, заключающейся в потере всего-навсего одной-единственной буквочки!).
Ох, хо-хо, хо-хо, неисповедимы пути Твои, Господи...
А как все заманчиво начиналось! Мы ездили по окрестным шахтам, выступали во время пересменки перед шахтерами, читали свои стихи. После моего "Семеныча" ко мне подходили мужики, жали руки. Стихотворение хотя и посвящалось моему коллеге по забою Леониду Шинкареву, но было, по сути, о них обо всех – шахтерах как таковых:
...Рука с обушком нераздельна,
как в битве со сталью меча.
И снова по буквам, отдельно,
раздастся: "Семеныч! Включай!"
И все содрогнется от гула,
и зубья вонзятся в забой.
Какие там нынче отгулы?
Какой тут ещё выходной?!.
Эти примитивные в литературном отношении строки всегда вызывали сочувственный отклик, находили понимание аудитории. Еще бы! Это ведь были слова, под которыми мог подписаться каждый из слушающих...
Нашу "Мрiю" начали приглашать на областное телевидение, радио. Выходящая в Москве шестимиллионным тиражом газета "Социалистическая промышленность" (о, как в этом мире все взаимосцеплено! – именно та, которая впоследствии сменит свое название на "Всенародную кафедру" и главным редактором которой я стану после убийства Дворядкина, пробыв в этой должности вплоть до появления этой злосчастной опечатки...) поместила фотоснимок своего корреспондента, который он сделал, побывав на одном из наших занятий, – я там как раз стою в центре комнаты и, энергично размахивая рукой, читаю перед студийцами свои стихи.
А как-то весной, в канун дня Победы, нам выделили целый "Икарус" и провезли по местам боевых действий, показав, как происходило освобождение Донбасса от фашистов...
Не знаю, известно ли об этом нынешним донбассовцам, но если бы не полководческая инициатива маршала Москаленко и не его способность совершать неординарные (и откровенно смелые) для того сверхосторожного времени поступки, освобождение Донбасса могло оказаться гораздо более затяжным и кровавым, чем это было в реальности. Как он сам писал в книге "На Юго-Западном направлении", в ноябре 1942 года его начало беспокоить то обстоятельство, что в случае продвижения войск Юго-Западного и левого фланга Воронежского фронтов в глубь излучины Дона, они оказывались бы очень далеко от железных дорог, и из-за этого при наступлении в сторону Донбасса возникнут серьезные трудности с материальным снабжением войск. Чтобы предотвратить возможные перебои, считал он, было необходимо заполучить в свои руки рокадную (т. е. параллельную линии фронта) железную дорогу Воронеж – Ростов, часть которой пока ещё находилась на территории, занятой противником. А значит, нужно было срочно освободить её, нанеся удар в направлении Острогожска, Россоши и Кантемировки, что в данной ситуации как раз и могла взять на себя подчинная ему 40-я армия.
– Мы должны немедленно наступать в юго-западном и южном направлениях, чтобы очистить от врага участок железной дороги от станции Свобода до станции Миллерово, – обдумав план возможной операции, высказал он членам Военного совета армии свои соображения.
– Вот ты и доложи Верховному, – тут же предложили они, кивая на телефон. – Попроси активную операцию для нашей армии...
"Я задумался", – пишет в своих воспоминаниях Кирилл Семенович, и эта его тогдашняя заминка сегодня абсолютно понятно. Было бы странно не задуматься, когда тебе предлагают взять и обратиться к самому Сталину! Ведь от этого звонка мог измениться не только дальнейший ход военных действий на данном участке фронта, могла измениться судьба самого звонившего, и если бы знать, что именно в лучшую сторону! Кто знает, как отнесется вождь к этому звонку? Что он подумает о смельчаке? Посчитает его выскочкой? Умником? Слишком прытким?.. По тем временам это было не менее опасно, чем оказаться зачисленным во "враги народа". А если еще, не дай Бог, выпрошенная операция обернется неудачей?..
"...Обдумав все, – продолжает далее дедушка, – я подошел к аппарату ВЧ и попросил соединить меня с Верховным Главнокомандующим. Вместе со мной подошли К. В. Крайнюков (дивизионный комиссар) и И. С. Грушецкий (бригадный комиссар). Я ожидал, что сначала ответит кто-нибудь из его приемной. Придется доказывать необходимость этого разговора, а тем временем можно будет окончательно собраться с мыслями для доклада. Но в трубке вдруг послышалось:
– У аппарата Васильев.
Мне было известно, что "Васильев" – это псевдоним Верховного Главнокомандующего. Кроме того, разговаривать со Сталиным по телефону мне уже приходилось, да и узнать его спокойный глуховатый голос с характерными интонациями было не трудно. Волнуясь, я назвал себя, поздоровался. Сталин ответил на приветствие, сказал:
– Слушаю вас, товарищ Москаленко.
Крайнюков и Грушецкий, тоже взволнованные, быстро положили передо мной оперативную карту обстановки на Воронежском фронте. Она была мне хорошо знакома, и я тут же изложил необходимость активных действий 40-й армии с целью разгрома вражеской группировки и участка железной дороги, так необходимого для снабжения войск при наступлении Воронежского и Юго-Западного фронтов на Харьков и Донбасс.
Сталин слушал, не перебивая, не задавая вопросов. Потом произнес:
– Ваше предложение понял. Ответа ждите через два часа.
И, не прощаясь, положил трубку.
В ожидании ответа мы втроем ещё раз тщательно обсудили обстановку и окончательно пришли к выводу, что предложение об активизации в ближайшем будущем действий 40-й армии является вполне обоснованным. Это подтверждалось уже тем вниманием, с каким отнесся к нему Верховный Главнокомандующий. Однако, какое он примет решение, – этого мы, естественно, не знали. Одно было ясно: сейчас, в эти минуты, предложение всесторонне взвешивается в Ставке, и нужно терпеливо ждать ответа.
Ровно через два часа – звонок из Москвы. Беру трубку:
– У аппарата Москаленко.
Слышу тот же голос:
– Говорит Васильев. Вашу инициативу одобряю и поддерживаю. Проведение операции разрешается. Для осуществления операции Ставка усиливает 40-ю армию тремя стрелковыми дивизиями, двумя стрелковыми бригадами, одной артиллерийской дивизией, одной зенитной артиллерийской дивизией, тремя танковыми бригадами, двумя-тремя гвардейскими минометными полками, а позднее получите танковый корпус. Достаточно вам этих сил для успешного проведения операции?
– Выделяемых сил хватит, товарищ Верховный Главнокомандующий, отвечаю я. – Благодарю за усиление армии столь значительным количеством войск. Ваше доверие оправдаем.
– Желаю успеха, – говорит на прощанье Сталин.
Кладу трубку и, повернувшись к Крайнюкову и Грушецкому, определяю по их радостно возбужденному виду, что они поняли главное: предложение одобрено Ставкой. Подтверждаю это и сообщаю им все, что услышал от Верховного Главнокомандующего. Добавляю:
– Скоро и 40-я армия от обороны четырьмя ослабленными стрелковыми дивизиями и одной стрелковой бригадой перейдет к активным действиям в усиленном составе.
Новость производит на всех нас большое впечатление. Крайнюков и Грушецкий встречают её восторженно. И мне становится ещё радостнее от мысли, что этот необычайный день так тесно сблизил нас троих...
...Изложенные выше переговоры по ВЧ с Верховным Главнокомандующим происходили 23 ноября, – пишет далее Кирилл Семенович. – А несколько дней спустя по его поручению на командный пункт 40-й армии прибыл генерал армии Г. К. Жуков. Для меня это было подтверждением того, что Ставка не только заинтересовалась возможностями проведения наступательной операции на нашем участке, но и придавала ей важное значение.
К моему удивлению, Георгий Константинович был настроен несколько скептически. Не возражая против самой идеи проектируемого наступления, он, однако, считал, что при его осуществлении встретятся чрезвычайно большие трудности.
– Далась тебе эта наступательная операция, – говорил он, хмуро глядя на карту, разложенную перед ним. – Не знаешь разве, что перед тобой крупные силы противника, глубоко эшелонированная оборона с развитой системой инженерных сооружений и заграждений?
– Трудности, конечно, встретятся немалые, – отвечал я, – но все же вражескую оборону прорвем, противника разобьем..."
Несколько позднее, чем он предполагал это в своих планах, в ходе начавшейся 14 января 1943 года Острогожско-Россошанской наступательной операции, намеченная К. С. Москаленко задача была с лихвой осуществлена: оборона противника была прорвана, противостоявшая Воронежскому фронту на Дону между Воронежем и Кантемировкой вражеская группировка окружена, а к 27 января расчленена на части и ликвидирована. Участок железной дороги Лиски Кантемировка был освобожден от немцев, и 40-я армия вышла на рубеж реки Оскол, продвинувшись на западном направлении на глубину 140 км.
Но главное, что этот, казалось бы, вполне рядовой для пятилетней войны эпизод ещё раз подтвердил мне, что Москаленко – это действительно тот человек, который мог взять на себя смелость и осуществить физическое устранение Берии прямо во время заседания ЦК, исключив тем самым малейшую угрозу контрдействий не только с его собственной стороны, но и со стороны его возможных соратников. Из-за мертвого, как потом выразился Никита Сергеевич, бунтовать никто не станет...
Я даже думаю, что решение не дожидаться никакого суда, а застрелить Берию на месте, Москаленко мог принять и не по приказу недальновидного и непоследовательного Хрущева, а вполне самостоятельно, опираясь только на свой стратегический опыт и понимание опасности затеваемой ими акции (а точнее сказать – гибельности её возможного провала для всех, кто в ней участвовал). О том, что совершение тайных действий было ему не в новинку, красноречиво свидетельствует один из эпизодов уже упоминаемой нами выше Острогожско-Россошанской операции. Так, не сумев убедить командующего фронтом генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова в нецелесообразности проведения активных разведок на участке расположения 40-й армии (где передний край вражеской обороны был тщательно изучен, структура каждой пехотной дивизии, её вооружение, боевой и численный состав выявлены, места расположения командных и наблюдательных пунктов, а также точки нахождения огневых позиций артиллерии и минометов разведаны, и даже фамилии командиров частей и соединений известны), К. С. Москаленко решил сделать вид, что подчиняется приказу, а на деле организовал все так, как считал нужным сам.
"Поскольку наступление главных сил намечалось на 14 января, – пишет он в своих воспоминаниях, – значит разведку боем силами передовых батальонов нужно было провести 12-го. И вот, не посвящая командующего и штаб фронта в свои намерения, я распорядился – конечно, устно: к 12 января произвести смену войск на плацдарме, с тем чтобы дивизии первого эшелона заняли исходные районы для наступления; главным же силам быть готовыми в случае успешного продвижения передовых батальонов немедленно перейти в наступление.
Решение несколько рискованное, согласен. Ведь противник мог случайно обнаружить появление у нас на переднем крае новых дивизий. Однако этот риск не шел ни в какое сравнение с серьезной угрозой, которая могла возникнуть, если бы мы, проведя разведку боем, предоставили затем врагу двое суток для организации отпора нашему наступлению..."
Как видим, психологическая подоплека организации данной операции имеет абсолютно ту же логическую схему, что и акция в отношении Л. П. Берии. То есть: если возможные ответные действия противника таят в себе (пускай даже и теоретическую!) угрозу реальной гибели, то они должны быть исключены, даже если на это не имеется санкции сверху. Думаю, тут не одному мне понятно, что именно из этой логики исходил К. С. Москаленко, нажимая на курок своего пистолета в зале заседания ЦК КПСС 26 июня 1953 года. И это не было ни местью Берии за годы тотального страха, который не мог не переживать вместе со всеми советскими людьми и он, ни подвигом во имя народа. Он просто снимал этим "угрозу, которая могла возникнуть", если бы Берия оставался живым.
(О том, что дедушка был способен принять абсолютно самостоятельное, не только ни с кем не согласованное, но и противоречащее приказу свыше решение, говорят и другие эпизоды из его весьма неординарной биографии. Так, по воспоминаниям Д. И. Ортенберга, ещё накануне войны, зная о сосредоточении фашистских войск у нашей границы, он, выступая как-то на партийно-комсомольском собрании, без обиняков рубанул с трибуны несанкционированную правду: "Будет война! Надо ждать нападения немцев если не сегодня, то завтра-послезавтра". А потом ждал, что ему за это всыплют в лучшем случае по командной или партийной линии, а то и вовсе арестуют как провокатора и сеятеля панических настроений.
В другой раз, как пишет полковник Ф. Д. Давыдов, случилось так, что "во второй половине мая 1942 года противник силами 1-й танковой, 6-й и 17-й армий окружил и разгромил основную часть наших наступавших на Харьков войск Юго-Западного и Южного фронтов. Оказавшийся под угрозой окружения К. С. Москаленко, самостоятельно отвел свою 38-ю армию за реку Айдар, хотя это ему по тем временам и грозило тяжелой карой".
А то был ещё и такой случай.
В конце января 1943 года, 40-я армия, которой на тот момент командовал Москаленко, выдержав мощный контрудар врага, смогла удержаться на южном фасе Курской дуги. Отсюда после отражения июльского наступления она начала победоносное продвижение к Днепру. По замыслу фронтовой операции 40-я армия должна была действовать на второстепенном направлении фронта, прикрывая с севера главную ударную группировку. Но Кирилл Семенович, говорит Ф. Д. Давыдов, исходя из складывающейся ситуации, сумел сделать второстепенное направление основным, и командование фронта, видя эти успехи, вынуждено было усилить 40-ю армию вначале одним, а затем и вторым танковым корпусом, несколькими стрелковыми дивизиями и артиллерией...
И вообще, как пишут многие знавшие Москаленко по совместной службе, на фронте было хорошо известно всем о его личном бесстрашии и способности к немедленным активным действиям. Сам Сталин называл его за это "генаралом наступления".)
...В силу загруженности учебой (а также из-за обрушившейся на меня пестроты столичной жизни), во время пребывания в институте мое увлечение литературой отодвинулось на второй план. Я даже в институтской стенгазете не участвовал, хотя и сочинял время от времени потешавшие друзей припевки про однокурсников: "Железный Феликс есть у нас – такой же пидор, как и Стас, а Гена Чобанян – хитрее всех армян", – ну и в таком же духе про всю институтскую общагу (которая, кстати сказать, имела официальное название "Дом Горняка").
Опять возвратился к стихам я уже только в Донбассе, куда вернулся три года спустя, вылетев из института за "академическую неуспеваемость", заключавшуюся в несдаче зачетов по физкультуре, на которую я не ходил целых два курса, но что обнаружилось только под конец третьего. Собственно, в начале первого курса я было попробовал заниматься спортом, как остальные, но, пробежав пару кроссов, всколыхнул себе под пробитым батиным молотком черепом такую боль, что перестал и думать о подобных опытах. Показав преподавателю военный билет, где вследствие этой травмы мне была вписана четкая запись: "в мирное время не годен, в военное годен к нестроевой" и стояла соответствующая статья, я с полным правом перестал посещать уроки физподготовки и использовал это время для других, более важных дел – пил пиво в прилегающем к институту Парке культуры и отдыха имени А. М. Горького или готовился к каким-нибудь семинарам и коллоквиумам в какой-нибудь из пустующих аудиторий. И вдруг под конец третьего курса выплыло, что у меня нет ни одного зачета по физре! И началось та-ако-о-ое-е...
Я тыкал всем в нос свой военный билет, лепетал что-то про сотрясение мозга, но никто меня не хотел и слышать. Я говорил, что не могу пробежать и ста метров, чтобы потом не страдать от головных болей, а мне говорили, что надо сдать все пропущенные нормативы и отработать все кроссы за прошедшие два года, от одной мысли о чем у меня сразу же темнело в глазах.
Само собой, что встал вопрос о моем отчислении.
– Да что ты, в конце концов, телишься? – не выдержал, глядя на все это, один мой шебутной институтский приятель, которому я как-то проговорился о своем родстве с Москаленко. – Немедленно езжай к своему деду и расскажи обо всем случившемся.
– И чем он тут сможет помочь? – возразил я с сомнением в голосе. – Наш институт ведь не военный...
– Ну, ты даешь! – аж задохнулся друг от моего невежества. – Да ведь он же у тебя – маршал! Член ЦК КПСС! Депутат Верховного Совета! Да стоит ему только позвонить сюда, и наш поручик (так мы называли между собой ректора Горного института Владимира Ржевского) будет стоять навытяжку и отвечать: "Так точно! Будет сделано! Слушаюсь!.." Звони немедленно, если не хочешь вылететь!..
Но я – не позвонил.
Я помнил рассказ о том, как в свое время к нему приезжала одна из его племянниц (папина двоюродная сестра Светлана Кириченко), попросившая помочь ей поступить в МГУ.
– Вот тебе моя дача, – сказал на это Кирилл Семенович, – вот машина. Живи тут, готовься к экзаменам, гуляй по Москве... Но никуда звонить и ни о чем никого просить я не буду. Поступать ты должна сама.
Пожив два дня на маршальской даче, племянница оценила перспективу и, не будучи дурой, срочно возвратилась к себе домой в Днепропетровск и поступила там в Индустриальный институт, который не только с успехом закончила, но и осталась после окончания в нем работать. На одно поколение позже примерно с такой же целью к Москаленко приезжал и мой двоюродный брат Сашка Каравай, рассчитывавший на его содействие при поступлении в какую-то из особо элитных мореходок. Но результат был тот же – живи, ешь, пользуйся всем, что тебе необходимо для дела, но поступай самостоятельно.
Поэтому я и не позвонил. Я ведь как раз и дожидался все это время момента, чтобы встретиться с ним не беспомощным просителем, а хотя бы чуть-чуть на равных! Как же я мог прийти к нему на первую встречу в качестве – неудачника?
Ну выгонят, так выгонят, решил я. На следующий год приеду с хорошей характеристикой и восстановлюсь. И уж тогда сразу же отыщу его и представлюсь...
И, увидев на доске объявлений приказ о своем отчислении из института, я со спокойной душой собрал свои небогатые манатки и отправился в Донбасс.
Но ни через год, ни через два я в этот институт уже не вернулся. Сначала закружился в делах, друзьях и любовях, потом опять пошли косяками стихи, и диплом горного инженера начал казаться ненужным и даже обременяющим – зачем она мне, если, не пройдет и двух-трех лет, как я стану знаменитым поэтом?
Меня снова начала широко публиковать районная газета "Маяк", стихи зазвучали по областному радио, и в Красноармейском райкоме комсола мне было предложено стать комсоргом одного из ведущих угледобывающих предприятий района – шахты "Родинская", на которую я устроился работать по возвращении из Москвы. Надо сказать, что занять должность шахтного комсорга – это по тем временам была очень неплохое начало карьеры. Ведь помимо райкомовского оклада, руководителя шахтной молодежи обычно оформляли ещё каким-нибудь слесарем на самый лучший на шахте участок, и таким образом ему шел и подземный стаж, и весьма существенный шахтерский заработок. Ну и, само собой, к этому добавлялся авторитет в коллективе, близость к шахтному руководству и вытекающие из этого льготы, а также появляющиеся связи в партийных организациях района и даже области. Дорога комсорга, пролегающая через съезды ВЛКСМ и участие в загранпоездках по обмену опытом, неукоснительно выводила его в будущем прямиком в кабинеты райкома, а при некотором старании и благоприятных сопутствующих обстоятельствах – и обкома партии.