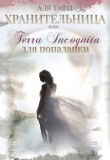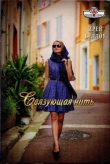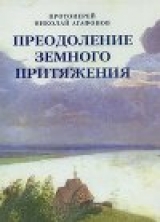
Текст книги "Преодоление земного притяжения"
Автор книги: Николай Протоиерей (Агафонов)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
– Ну что, Леха, спал ты, я вижу, плохо. К вечеру, даст Бог, дойдем до деревни, там поспишь.
Когда мы снова тронулись в путь, я его спросил:
– Гришка, ты не знаешь, чем комары в раю питались, до грехопадения человека? То, что животные друг друга не ели, это понятно. У нас дома кошка картошку за милую душу лопает. Так что я могу представить себе тигра, жующего какой-нибудь фрукт. Но вот чем комары питались, мне не понятно.
– Вижу, плохо вас, Леха, в семинариях духовных обучали, раз ты не знаешь, чем комары в раю питались.
– А ты знаешь?
– Конечно, знаю, – даже как бы удивляясь моему сомнению, ответил Гришка. – Комарик – эта тончайшая Божия тварь, подобно пчеле, питалась нектаром с райских цветов. Но не со всех, а только с тех, которые Господь посадил в раю специально для комаров и другой подобной мошкары. Это были дивные красные цветы, которые издавали чудный аромат, подобный ливанскому ладану, но еще более утонченный. Бутоны этих цветов были всегда наполнены божественным нектаром. И вся мошкара, напившись нектара, летала по райскому саду, издавая мелодичные звуки, которые сливались в общую комариную симфонию, воспевающую Бога и красоту созданного Им мира. Но после грехопадения человека райский сад был потерян не только для него, но и для всей твари. Бедные, несчастные, голодные комарики долго летали над землей в поисках райских цветов, но не находили их. Наконец они прилетели к тому месту, где Каин убил своего братца Авеля. А кругом на месте этого злодеяния были разбрызганы алые капли крови. И комарики подумали: «Вот они, эти райские цветы». И выпили эту кровь. Но через некоторое время они вновь жаждали пить кровь человеческую, и кинулись комарики на Каина, и стали его кусать и пить его кровь. И побежал Каин куда глаза глядят. Но не мог убежать от комаров и мошкары. И возненавидел Каин комаров, а комары и прочая мошкара возненавидели человека.
– Откуда ты взял эту историю? Об этом нигде не написано.
– Если бы, Леха, обо всем писали, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг.
– Ну а все-таки, от кого ты слыхал об этом?
– Я не слыхал, Леха, я сам догадался, что так именно и было.
К вечеру мы дошли до какой-то деревни, и Гришка, подойдя к одной избе, уверенно постучал в окошко. Занавески приоткрылись, а вскоре нам навстречу выбежала пожилая женщина и радостно заголосила:
– Гришенька, Гришенька к нам пришел, ну наконец-то, мы уже заждались! Проходите, проходите, гости дорогие!
После ужина Гришка распорядился:
– Ты вот что, Анька, Лехе постели в горнице, он – человек измученный, ему культурный отдых нужен, нам завтра опять в путь. А мне здесь у тебя тесно, пойду на сеновал, послушаю, о чем звезды на небе сплетничают.
– Ой, Гришенька, послушай да нам, глупым, расскажи, – сказала на полном серьезе Анна Васильевна, хозяйка дома, где мы остановились.
– Коли бы я умней вас, глупых, был, то, может, что-то и рассказал. А то ведь я слышать-то слышу, а передать на словах не умею, ума не хватает.
Третий день пути оказался для меня самым тяжелым. Я натер ноги до кровавых мозолей. Снял ботинки, пошел босиком по пыльной сельской дороге – стало гораздо легче. Но бедное мое сердце: оно, по-видимому, не выдержало такой нагрузки. Воздух перед моим взором вдруг задрожал и сгустился. Голос Гришки стал каким-то далеким. Перед глазами поплыли круги, а затем вдруг все потемнело и я провалился в эту темноту. Очнувшись, открыл глаза и увидел, что лежу на траве. Невдалеке от меня я услышал Гришкин голос, который с кем-то спорил и о чем-то просил.
– Нет, возьми вместо него меня, – говорил Гришка, – ему еще рано, а я уж давно жду. Нет, так нельзя, Гришку возьми, а Леху оставь. Лешку оставь, а меня возьми вместо него.
Я понял, что разговор идет обо мне, и повернулся к Григорию. Тот стоял на коленях, крестился после каждой фразы, преклонялся лбом до земли. Я догадался, что это он так молится за меня.
– Гриша, – позвал я, – что со мной было?
– Спать разлегся так, что не добудишься тебя, и еще спрашиваешь, что было. Пойдем, хватит лежать, уже немного осталось.
Я поднялся с земли, и мы пошли дальше. Я шел в полной уверенности, что молитва Гришки спасла мне жизнь. Только вот что означает «Гришку возьми, а Леху оставь», я не мог сообразить.
К селу Образово подошли уже к вечеру третьего дня пути. Я видел, как вся семья отца Михаила искренне радуется Гришкиному приходу. Меня они тоже встретили с радушием и любовью. Поужинали картошкой в мундире с солеными огурцами и помидорами. Гришка с нами за стол не сел, а взяв только две картофелины, ушел.
– Он никогда с нами за стол не садится, – пояснил мне отец Михаил после его ухода, – сколько его ни уговаривал, у него один ответ: «За стол легко садиться, да трудно вставать, а я трудностей ой как боюсь».
Уложили меня спать в небольшой комнате на постель с целой горой мягких пуховых подушек. Утром я проснулся, когда солнце уже взошло высоко. Матушка предложила чаю. Когда я спросил, где отец Михаил, она сказала:
– Да Вы садитесь, его не ждите, он никогда не завтракает. Сейчас ушел в сарай – клетки для кроликов мастерить.
– А где Гришка ночевал? – спросил я.
– Он всегда на чердаке ночует, в своем гробу спит.
– Как это – в гробу? – удивился я.
– Да, видать, вычитал, что некоторые подвижники в гробах спали, чтобы постоянно помнить о своем смертном часе и быть к нему готовыми, вот сам выстругал себе гроб и спит в нем.
Вечером мы все пошли на всенощное бдение в честь праздника Казанской иконы Божией Матери. Я помогал матушке петь на клиросе, а Гришка стоял недалеко от входа в храм по стойке «смирно», лишь изредка осеняя себя крестным знамением. Делал он это очень медленно: приставит три пальца ко лбу и держит, что-то шепча про себя, потом – к животу в районе пупка и опять держит и шепчет, затем таким же образом на правое плечо и левое. Когда запели «Ныне отпущаеши», он встал на колени. На следующий день за Божественной литургией Гришка причастился. Когда после службы пришли домой, Гришка сел вместе с нами за стол, чему были немало удивлены и обрадованы отец Михаил с матушкой. Правда, ничего он есть не стал, кроме просфорки, и попил водички из источника. Гришка сидел за столом, радостно глядел на нас и улыбался:
– А у меня сегодня день рождения, – вдруг неожиданно заявил он.
Отец Михаил с матушкой растерянно переглянулись.
– У тебя же день рождения в январе, – робко заметил отец Михаил.
– Ну да, – согласился Гришка, – появился на свет я в январе, а сегодня у меня будет настоящий день рождения.
Все мы заулыбались и стали поздравлять Григория, поддерживая шутку, за которой, мы не сомневались, скрывается какой-то смысл.
– Ну я пойду полежу перед дальней дорогой, – сказал Гришка после обеда.
– Куда же ты, Гриша, уходишь? – спросил отец Михаил.
– Эх, Мишка, хороший ты человек, да уж больно любопытный. Ничего тебе не скажу, сам скоро узнаешь, куда я ушел.
Отца Михаила ответ вполне удовлетворил:
– Ну что ж, иди, Гриша, куда хочешь, только возвращайся, мы тебя ждать будем.
– Я тоже буду вас ждать, – сказал Гришка и ушел к себе на чердак.
До вечера он с чердака так и не явился. Но когда Гришка не пришел на следующий день, отец Михаил забеспокоился и решил проведать Григория. С чердака он спустился весь бледный и взволнованный:
– Ушел Гришка от нас навсегда, – сказал он упавшим голосом.
– С чего ты решил, что он навсегда ушел? – вопросила матушка. – Он что, записку оставил?
– Нет, матушка, он здесь свое тело оставил, а душа ушла в вечныя селения, – и отец Михаил широко перекрестился. – Царство ему Небесное и во блаженном успении вечный покой.
Гроб с его телом мы спустили с чердака и перенесли в храм.
Отец Михаил отслужил панихиду. На завтра наметили отпевание и погребение. А ночью решили попеременно читать Псалтырь над гробом.
Вечером с отцом Михаилом мы сидели у гроба Григория, а матушка готовила поминки дома. Григорий лежал в гробу в своем стареньком двубортном пиджаке на голое тело и в заплатанных коротких брюках, из которых торчали босые ноги. Перед тем как нести Григория в церковь, я предлагал отцу Михаилу переодеть его.
– Что ты, – замахал тот руками, – он мне сам наказывал, как помрет, чтобы его не переодевали: «Это, – говорит, – мои ризы драгоценные, в костюме я буду походить на покойника Григория Александровича». – А ведь, думаю, он знал о своей смерти, когда говорил за обедом, что пойдет далеко.
– Он знал об этом, еще когда к вам шел, это ведь он за меня умер. У меня сердце в дороге прихватило, а он молился: «Возьми лучше Гришку, а Лешку оставь». Я тогда не понял, о чем он просит.
– Вот оно, какое дерзновение имеют блаженные люди, – вздохнул отец Михаил, – а мы, грешные, все суетимся, все чего-то нам надо. А человеку на самом деле мало чего надо на этом свете.
Первым остался читать Псалтырь я. Когда стал произносить кафизмы, то почувствовал необыкновенную легкость. Голос мой радостно и звонко раздавался в храме. Ощущения смерти вовсе не было. Я чувствовал, что Гришка стоит рядом со мной и молится, широко и неторопливо осеняя себя крестным знамением. Мне вдруг припомнилось, как увидел Гришку в первый раз, читающего на ходу книгу. Эти воспоминания ворвались в мою душу, когда я читал девяностый псалом: «На руках возмут тя, да некогда преткнеши о камень ногу твою», – это был двенадцатый стих.
Волгоград, февраль 2002 г. -
Самара, ноябрь 2003 г.
Нерушимая стена
60-летию Победы в двух величайших битвах —
Сталинградской и Курской – посвящается.
В День Победы, 9 Мая, настоятель и священники ушли после службы возлагать венки на холм Славы, а я задержался в храме, чтобы подготовить ноты к вечернему богослужению, и тут мое внимание привлек статный пожилой мужчина, вошедший в полупустой храм. По наградным планкам и ордену на лацкане пиджака в нем можно было безошибочно угадать ветерана Великой Отечественной войны. В одной руке он держал сумку, а в другой – букет цветов и как-то беспомощно оглядывался кругом. Затем он подошел к свечному ящику и стал разговаривать со свечницей. Она ему показала на дальний левый угол храма, где располагался канон с панихидным столиком. Купив свечей, он пошел в указанном направлении. Проходя мимо иконы Божией Матери «Нерушимая Стена», мужчина вдруг остановился как вкопанный, устремив взгляд на икону.
Я закончил разбирать ноты и спустился с хоров, чтобы идти домой, а он все еще стоял перед иконой. Когда я проходил мимо, то увидел, что по лицу ветерана текли слезы, но он, по-видимому, их не замечал. Мне вдруг захотелось подойти к нему и что-нибудь сказать утешительное. Подойдя к иконе, я встал рядом с ним. Когда он повернулся ко мне, я приветствовал его легким поклоном:
– С праздником Вас, с Днем Победы.
Я был в подряснике и он, по-видимому, принял меня за священника:
– Спасибо, батюшка. Скажите мне, пожалуйста, что это за икона?
– Я не священник, а регент церковного хора. Это икона Божией Матери, именуемая «Нерушимая Стена».
– Теперь мне все ясно, именно она была с нами на Курской дуге, под Прохоровкой.
– Расскажите, пожалуйста, это очень интересно, – попросил я.
– Как Вас зовут, молодой человек?
– Алексей Пономарев, а Вас?
– А меня Николай Иванович. Я приехал в ваш город, чтобы повидаться со своим боевым товарищем. Но немного опоздал. Мне сказали, что он недавно умер и похоронен здесь, на кладбище, недалеко от храма. Вот я и зашел в церковь, чтобы свечку поставить за упокой его души.
– На этом кладбище, – заметил я, – давно уже не разрешают никого хоронить. Но совсем недавно сделали исключение, разрешили похоронить нашего церковного старосту – Скорнеева Сергея Викторовича. Он тоже был ветераном Великой Отечественной войны.
– К нему-то я и ехал, да, видать, не судьба, – печально молвил Николай Иванович. – Вы меня, Алексей, не проводите к его могиле?
– Отчего же, провожу, у меня сейчас до вечерней службы время свободное. Кстати, Сергей Викторович всегда перед этой иконой во время службы стоял и молился.
Когда мы подошли к могиле, Николай Иванович, обнажив голову, бережно положил букет цветов на могильный холмик. А потом, снова надев свою кепку, козырнул по-военному:
– Спи спокойным сном, боевой мой друг, Сергей Викторович. Вечная тебе память.
Мы присели на скамейку рядом с могилой, и Николай Иванович разложил на столике, стоящем здесь же, у скамьи, нехитрую снедь: яйцо, пироги, хлеб и луковицу. Затем достал старую металлическую фляжку и две металлические же кружки.
– Слыхал, что покойника водкой не положено поминать. Но я не поминать, а хочу с ним выпить наши сто граммов фронтовых за Победу. Сейчас все из пластмассовых одноразовых стаканчиков пьют, а я не могу, вот специально кружки взял. Фляжка эта у меня еще с фронта осталась. Так сказать, боевая реликвия. У меня ее даже в школьный Музей боевой славы просили отдать. А что, и отдам, все равно скоро за Сергеем следом пойду.
Он разлил по кружкам и предложил выпить мне, но я отказался, сославшись на вечернюю службу. Тогда он поставил одну кружку на могильный холмик, а вторую, приподняв, торжественно сказал:
– За Победу, товарищ старший лейтенант!
Выпив, присел к столику и, закусив, молча сидел, не торопясь пережевывал хлеб с луком. Затем достал пачку «Беломора» и, вынув папиросу, так же молча, в какой-то углубленной задумчивости долго разминал ее между пальцев. Наконец, прикурив, сказал:
– Вы, Алексей, просили меня рассказать, что случилось под Прохоровкой на Курской дуге. Хорошо, я расскажу то, что никому еще не рассказывал. Пусть это будет исповедью солдата. Как Вы заметили, я – человек нецерковный, но Бога никогда не отрицал. А уж на фронте часто приходилось вспоминать о Нем. Атеистов на войне не бывает.
Школу я окончил перед самой войной. А уж как война началась, сразу в военкомат пошел записываться добровольцем. Меня послали на ускоренные офицерские курсы артиллеристов. А через шесть месяцев надели лейтенантские петлицы – и на фронт. Во время Сталинградской битвы я уже был командиром батареи в звании капитана. Горячие были дни: сегодня ты взводом командуешь, завтра – ротой, а послезавтра… один Бог ведает. Наш артиллерийский полк стоял чуть выше Калача-на-Дону, когда мы завершили окружение армии Паульса, которое немцы отчаянно пытались прорвать. Наводку орудий нашей батареи нам передавали из штаба полка по телефонной связи. В самый разгар боя получаю из штаба координаты наводки прицела: «Трубка минус пятнадцать». Шарахнули из всех орудий. Через пять минут на связи сам командир полка, кроет меня трехэтажным матом: «Ты что, – говорит, – сукин сын, под трибунал захотел? Так не дождешься. Я сейчас самолично приеду и тебя шлепну».
– Что случилось, товарищ подполковник? – кричу я в трубку.
– Ты еще, сучье вымя, спрашиваешь меня, что случилось? Ты же залпом накрыл два наших взвода пехоты.
Я передал командование заму и бегом к связистам в штаб полка. В голове стучит, бегу, как пьяный. Влетаю к связистам, а там сидят две молоденькие девчонки – одна грузинка, другая русская – и лясы точат с двумя бойцами. А по инструкции во время боя в помещении связистов строго-настрого запрещено быть посторонним. Вид у меня, наверное, действительно бешеный был. Этих двух бойцов как ветром сдуло. Девчонки ни живы ни мертвы сидят, на меня глаза вытаращили. Я спрашиваю их:
– Какую мне последнюю наводку передали?
– Трубка минус пятнадцать, – говорят они.
– Ой, – вскрикнула грузинка, – простите, ошиблись: не минус пятнадцать, а плюс пятнадцать.
– Ах, вы, стервы поганые, это же на полтора километра разница. Из-за того, что вы здесь шуры-муры да амуры крутите, я наших бойцов положил.
Вскидываю свой автомат, передергиваю затвор и очередью обеих… До сих пор вижу, как они в отчаянии свои руки выставили вперед, словно пытаясь загородиться ими от пуль. Бросил автомат рядом с ними. Вышел, сел на ящик из-под снарядов, и тут меня такое отчаянное безразличие охватило. Сижу, смотрю на все кругом, как в замедленной съемке. Схватили меня, повели на военно-полевой суд. Тогда эти дела быстро решались. Передо мной судили двух дезертиров, так им сразу лопаты выдали, чтобы могилы себе копали. Мне лопату не дали, только подошел один из тройки военно-полевого суда и сорвал с меня капитанские петлицы. Думаю: «Пусть срывает – главное, не расстрел». Короче, присудили мне штрафной батальон, практически та же смерть, но все же в бою. Здесь, в штрафбате, я и познакомился с лейтенантом Скорнеевым Сергеем Викторовичем. Он у нас был командиром роты. Если мы, рядовые смертники, были из осужденных за разные провинности, то офицеры, нами командовавшие, не были из проштрафившихся.
В это время готовилась грандиознейшая из битв в истории человечества – битва на Курской дуге. Нашей роте поручили во что бы то ни стало удержать одну высоту в районе Прохоровки. Окопались мы на высоте и ждем фрицев. Внизу нас ждут свои же загранотряды. Высота господствующее положение занимает, да еще справа от нас артиллерийский расчет расположился. Для дальнейшего наступления эта высота немцам ох как нужна. Бросили они на нас свои отборные силы.
Не помню, сколько нам атак пришлось отбить. Кто бы что ни говорил, но немцы – хорошие вояки, храбрые и дисциплинированные. Нелегко нам пришлось. Атака за атакой. И бойцов-то у нас уже почти не осталось, но мы каким-то чудом продолжаем держаться. Наконец, остались от всей роты только трое: наш лейтенант Сергей Викторович да нас двое на пулеметном расчете. Первым номером – бывший подполковник, а я у него вторым номером. Этот подполковник в штрафбат по пьянке залетел. Что-то натворил в части. Сам он мне рассказывал, что бабу они с одним штабным не поделили, вот тот ему и подсуропил.
Сидим, ждем последнюю атаку. Немцы почувствовали, что у нас уже не осталось бойцов, и с новой силой в атаку поперли. Мы их подпустили поближе и дали им прикурить из пулемета. Подзалегли они, и давай по нам из пушек долбить. Мама родная, всю землю рядом перепахали снарядами, а мы, слава Богу, живы. Я во время боя оглядываюсь назад, вижу – стоит женщина с поднятыми руками. «Вот тебе на, – думаю, – что за наваждение, откуда здесь женщина, уж не мерещится ли это мне?» Опять оглянулся – стоит. Да не просто стоит, а как бы своими ладонями, повернутыми к врагу, стену невидимую воздвигла. Вроде как бы немцы на эту стену натыкаются и назад откатываются.
Батарея, которая от нас справа стояла, умолкла. Видно, побили весь артиллерийский расчет. Тут «тигры» пошли, справа и слева высоту обходят. С левой стороны наши Т-34 выскочили. Что тут началось, такого я еще на фронте не видывал. Наши танки с ходу на таран «тигров» пошли. Железо на железо. Кругом танки горят, люди, как живые факелы, из них выскакивают, по земле катаются. Не поймешь уже, где наши, где немцы, все перемешались. Но их наступление на левом фланге захлебнулось. А справа «тигры» продолжают обходить, в тыл наших позиций устремились.
Я говорю: «Товарищ лейтенант, давайте сделаем рывок к батарее, может, там пушка какая целая осталась?» Он говорит: «Ты что придумал? Нам приказ здесь насмерть стоять, еще подумают, что мы отступаем, свои нас же и прикончат». Оглянулся я, а женщина, которая стояла за нами, вправо от нас переместилась, ближе к батарее. Тут лейтенант говорит:
– Пошли, ребята, будь что будет.
Рванули мы в сторону батареи. Прибегаем туда, а там уже немцы хозяйничают. Мы с ходу на них. Вначале очередью из автоматов, а потом врукопашную добили. Момент внезапности сыграл свою роль. Хоть их в три раза больше было, но всех уложили. Тут я взял инициативу в свои руки, лейтенант-то – не артиллерист. Разворачиваем мы одну уцелевшую пушку – и сбоку по «тиграм». Те тоже растерялись, им-то ведь доложили, что артиллерия противника погашена. Три «тигра» нам удалось сразу подбить. Четвертый по нам шарахнул. Меня контузило и легко ранило в левую руку. Смотрю, у моего первого номера осколком голову срезало: жуткая, скажу я, картина. Лейтенанту Сергею Викторовичу осколком ногу перебило. Лежит бледный, от боли землю зубами грызет. «Тигр» прямо на нас прет. Ну, все, думаю, конец. Взял противотанковую гранату и жду. Оглянулся, стоит та женщина над нами, мне легче на душе стало. Откуда-то появилась уверенность, что это еще не конец. Привстал я, метнул гранату в «тигра», под гусеницу угодил. Завертелся танк волчком. Тут и наши «тридцать четверки» подоспели.
Из госпиталя лейтенанта домой комиссовали, ногу пришлось отнять. А мне – реабилитация. Ведь в штрафбате – только до первой крови. Звание, конечно, не вернули, так рядовым до Берлина и дошел. А после войны решил своего лейтенанта разыскать. Да все как-то откладывал с одного года на другой. А тут, думаю, откладывать некуда, сердечко стало напоминать, что немного осталось по земле топтаться. В прошлом году нашел его адрес через ветеранские организации. Списались и решили встретиться в этом году на 9 Мая. Как видите, не дождался меня Сергей Викторович. Зашел в ваш храм, гляжу на икону, а на ней – та самая женщина, которая нас под Прохоровкой спасла. Оказывается, это Матерь Божия. Я, между прочим, тогда еще об этом подумал. Ну, мне пора, пойду потихоньку на поезд. Спасибо Вам огромное, молодой человек. Даст Бог, на следующий год приеду на годовщину Сергея Викторовича.
На следующий год я так и не увидел Николая Ивановича в нашем храме. Наверное, два фронтовых товарища встретились, но уже не в этом мире. Теперь каждый раз, когда я прохожу мимо иконы Божией Матери «Нерушимая Стена», останавливаюсь перед ней и молитвенно поминаю всех воинов, вставших нерушимой стеной на пути врага нашего Отечества под благодатным покровом Царицы Небесной.
Самара, ноябрь 2003 г.