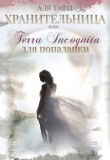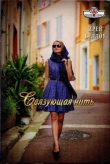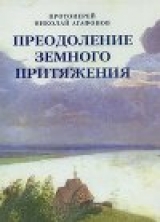
Текст книги "Преодоление земного притяжения"
Автор книги: Николай Протоиерей (Агафонов)
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 31 страниц)
«На реках вавилонских…»
В губкоме шло экстренное заседание. Обсуждали директиву ВЦИК об изъятии церковных ценностей. Выступал Иван Исаевич Садомский, первый секретарь губкома. Слушали его внимательно, понимая всю значимость данного вопроса для укрепления власти большевиков в молодой Советской республике. Иван Исаевич был старый большевик-ленинец. Годы подполья, ссылки и тюрем закалили характер этого несгибаемого революционера. Говорил он жестко, короткими фразами, словно гвозди заколачивал:
– Партия требует от нас решительных действий. В идеологическом плане церковь – наш главный враг. В стране разруха. В Поволжье голод. Мы должны воспользоваться этой благоприятной для нас ситуацией в борьбе с попами и монахами. Их надо уничтожать под корень. Раз и навсегда. Беспощадно истребить всех во имя мировой революции. Изъятие ценностей должно вызвать сопротивление церковников. Владимир Ильич требует этим незамедлительно воспользоваться, чтобы расстрелять как можно больше епископов, священников и монахов. Другой возможности у нас может не быть. Мы должны обсудить план выполнения этой директивы в нашей губернии. Какие будут предложения? Товарищи, прошу говорить коротко и только по существу вопроса.
Слово взял член губкома Петр Евдокимович Свирников:
– Товарищи, хочу проинформировать вас, что настоятельница женского монастыря игуменья Евфросиния уже приходила к нам с предложением помочь голодающим Поволжья и передать для этого все ценности монастыря, за исключением утвари, используемой для Евхаристии, попросту говоря, обедни. Она сказала, что в воскресенье в монастыре при всем народе отслужат молебен, и она сама снимет драгоценный оклад с Тихвинской иконы Божией Матери, чтобы передать его в фонд помощи голодающим, а народу объяснит, что икона и без оклада остается такой же чудотворной, так как в древности серебряных и золотых окладов на иконах вовсе не было.
После этого выступления поднялся невообразимый шум, многие повскакивали с мест. Раздались крики:
– Вот стерва, что удумала, поднять авторитет церкви за счет помощи голодающим!
– Товарищи, – кричали другие, – да это же идеологический террор со стороны церковников!
– Прекратить шум, – рявкнул Садомский, – заседание губкома продолжается. Слово имеет председатель ГубЧК товарищ Твердиковский Лев Гаврилович.
– Никакого идеологического террора церковников мы не потерпим, – сказал Твердиковский. – На любой террор ответим беспощадным красным террором. В данной ситуации нужно нанести упреждающий удар. В воскресенье мы войдем в собор и начнем изъятие церковных ценностей именно во время богослужения. Это должно спровоцировать стоящих в храме на оказание сопротивления. За саботаж декретам Советской власти мы арестуем игуменью как организатора контрреволюционного мятежа, а затем проведем изъятие всех церковных ценностей.
Матушка Евфросиния в сопровождении двух сестер направлялась в монастырский собор к Божественной литургии. Казалось, что эта пожилая, чуть располневшая женщина, хозяйка большой обители в центре города, вышагивает важно и гордо, с презрительной гримасой на лице. Но это было внешне обманчивое впечатление. На самом деле она с трудом передвигала ноги с распухшими от полиартрита суставами, поэтому при каждом шаге морщилась от боли, однако виду старалась не подавать. Даже идя на службу, она не могла отрешиться от тяжких дум. Зверское убийство митрополита Киевского Владимира и доходившие слухи о разгоне монастырей и убийствах монахов и священников внушали опасения, что их скоро постигнет такая же участь. Всю ночь она молилась перед иконой Тихвинской Божией Матери: «Да минет сия чаша нашу святую обитель». Только под утро задремала, и было ей во сне видение: ангелы Божии спускаются с неба на их монастырь, а в руках держат венцы. Она стала считать ангелов. К ней подошел какой-то старец и сказал: «Не считай, матушка, все уже давно посчитано – здесь сто восемь венцов».
Проснувшись, она поняла, что всех сестер ждет мученическая кончина. «Нет, не всех, – вдруг встрепенулась игуменья, – ведь в обители вместе со мной сто девять насельниц, а венцов в видении было сто восемь. Значит, кто-то из сестер избегнет мученического конца».
– Да будет на все воля Божия, – сказала матушка игуменья и, осенив себя крестным знамением, вошла в собор.
На Великом входе во время пения Херувимской матушка игуменья заплакала. Хор сегодня пел особенно умилительно. Звонкие девичьи голоса уносились под своды огромного собора и ниспадали оттуда на стоящих в храме людей благотворными искрами, зажигающими сердца молитвой и покаянием. Хор запел: «Яко да Царя всех подымим». В это время матушка игуменья услышала какой-то шум у входа в храм.
– Узнай, сестра, что там происходит, – обратилась она к монахине Феодоре, казначею монастыря.
Та вернулась бледная и дрожащим голосом поведала:
– Матушка настоятельница, там какие-то люди с оружием пытаются войти в собор, говорят, что будут изымать церковные ценности, а наши прихожане-мужики их не пускают, вот и шумят. Что благословите, матушка, делать?
В это время архидиакон на амвоне провозглашал: «Оглашенные, изыдите, елици оглашенные, изыдите…»
Матушка игуменья распрямилась, в глазах блеснул гнев:
– Слышишь, мать Феодора, что возглашает архидиакон? Неверные должны покинуть храм.
– Но они, матушка, по-моему, настроены решительно и не захотят выходить, – испуганно возразила Феодора.
– Я тоже настроена решительно: не захотят добром, благословляю вышибить их вон, а двери – на запор до конца литургии.
Через некоторое время в притворе собора поднялся еще более невообразимый шум, доносились звуки потасовки, потом раздался револьверный выстрел. Огромные металлические двери собора медленно, но уверенно стали сближаться между собой. Лязгнул металлический засов, и крики, уже приглушенно, раздавались за стенами собора. Архидиакон провозгласил:
– Встанем добре, станем со страхом, вонмем, святое Возношение в мире приносите.
В храме сразу восстановилась благоговейная тишина. Начался Евхаристический канон. На запричастном матушка игуменья передала повеление, чтобы сегодня причащались все сестры монастыря.
– Как же так, матушка Евфросиния, ведь многие не готовились, – пыталась возразить монахиня Феодора.
– Все беру на себя, – коротко ответила настоятельница.
В конце службы в двери начали колотить прикладами винтовок.
– Может, принести динамиту и взорвать двери к ч…й матери? – предложил полупьяный матрос с огромным синяком под глазом и в бескозырке набекрень.
Но в это время двери собора открылись. В проеме стояла матушка настоятельница, а за ней толпились сестры монастыря. Лицо игуменьи выражало спокойствие, а чистые ясные глаза смотрели на стоящих у паперти красноармейцев с сожалением и печалью. Но вот она сделала шаг, ударив своим игуменским посохом о каменные плиты собора, и взгляд ее уже выражал властность и уверенность. И все стоящие на паперти невольно расступились. Внизу ее ждал Твердиковский.
– Решением губкома за саботаж декретам советской власти и открытое вооруженное сопротивление ваш монастырь закрывается. Все его имущество передается в руки законной власти рабочих и крестьян. Зачинщиков сопротивления приказано арестовать.
Настоятельница, спокойно выслушав Твердиковского, сказала:
– Наше оружие – молитва да крест. Зачинщица всего – только я одна, больше никто не виноват.
– Разберемся, – коротко бросил Твердиковский. – Увести арестованную.
Матушка повернулась и поклонилась в пояс:
– Простите меня, что была строга с вами. Скоро увидимся. Бдите и молитесь, сестры мои.
Среди монахинь послышались всхлипы и причитания. Монахиня Феодора решительно вышла из толпы и тоже поклонилась сестрам:
– Простите и меня, я с матушкой игуменьей пойду.
Конвойные солдаты вопросительно глянули на Твердиковского: и эту, мол, тоже брать?
– Арестуйте ее, братцы, – закричал матрос с синяком, – это она всем руководила, когда нас выталкивали из собора, и, между прочим, мне самолично чем-то тяжелым двинула.
Уже когда монахинь вели к коляске, чтобы перевезти в тюрьму, матушка игуменья спросила:
– Чем это ты его, мать Феодора, двинула?
Та, засмущавшись, покраснела:
– Да так, что под рукой было.
– Что же у тебя под рукой было? – не унималась игуменья.
– Наша церковная печать, матушка, она же ох какая здоровущая да тяжелая.
– Значит, припечатала антихристу, – улыбнулась игуменья.
Конвойные с недоумением переглянулись, увидев, что монахини улыбаются.
После закрытия монастыря всех насельниц распустили. Но сестры не хотели уходить далеко и поселились рядом с обителью, на квартирах у благочестивых прихожан. Все верили, что монастырь еще откроют и матушка игуменья тоже вернется. И вскоре к своей радости они увидели на монастырских воротах объявление, которое гласило о том, что такого-то числа состоится собрание всех монахинь, желающих вновь нести послушание в монастыре. В назначенный день собрались все, радостные и взволнованные. Не хватало только игуменьи и матушки казначея да еще одной молоденькой послушницы. Все насельницы собрались в трапезной. Вошел Твердиковский:
– Здравствуйте, гражданки монахини. Советская власть решила вернуть вам монастырь, но вы должны также нам помочь. Нужно выехать в одно село и поработать в поле на уборке урожая. Сами понимаете: гражданская война, работников на полях не хватает. Ну, словом, все ли вы согласны?
Сестры радостно загомонили:
– Согласны, конечно, согласны. Нам лишь бы монастырь вернуть да снова Богу служить.
– Ну вот и хорошо, – сказал Твердиковский. – Ближе к вечеру прибудут подводы, поедем на пристань, а там – на барже по реке к селу. Прошу никого не расходиться.
Когда сестры погрузились в трюм баржи, двери за ними сразу заперли красногвардейцы. В углу сестры заметили двух женщин. Одна из них, лежа на соломе, стонала. Голова ее лежала на коленях рядом сидящей женщины.
– Кто вы? – спросила одна из монахинь.
– Я ваша игуменья, сестры мои.
Монахини с радостными криками кинулись к матушке настоятельнице.
– Тише, тише, сестры, мать Феодора умирает.
В это время баржа дрогнула и, увлекаемая буксиром, пошла вверх по течению реки. Через прорехи в палубе взошедшая яркая луна осветила трюм. Монахини увидели пустые глазницы игуменьи – она была слепа. И тогда они зарыдали во весь голос.
– Прекратите, сестры, потакать врагу рода человеческого. Время сейчас не плакать, а молиться.
Повинуясь властному голосу игуменьи, сестры умолкли.
– Все ли здесь насельницы? – вопросила настоятельница.
– Все, кроме послушницы Валентины, она поехала в деревню навестить родственников и не знала ничего.
– Теперь ясно, – сказала игуменья, – кому недостало венца.
Вдруг одна монахиня вскрикнула, а за ней еще несколько сестер:
– Вода, здесь проходит вода, мы все потонем! Матушка игуменья, что нам делать? Нам страшно.
– Молитва прогонит страх, сестры мои, не бойтесь, с нами Христос. Сестра Иоанна, задавай тон, пропоем псалом «На реках вавилонских».
Над тихой гладью ночной реки разнеслись полные скорби и печали слова: «На реках вавилонских, тамо сидохом и плакохом…»
Когда закончился псалом, матушка повелела петь панихиду.
– По ком, матушка, панихиду? – вопрошали сестры, хотя уже знали ответ.
– По нам, дорогие мои, по нам. Мы с вами идем к нашему Жениху, а Он к нам идет в полуночи, чтоб привести нас туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь безконечная.
Горячая молитва полилась из уст монахинь. Холодная вода полилась во все щели и пробоины баржи. Все выше и звонче раздавались голоса сестер. Все выше и выше поднималась вода в трюме.
– Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас, – пели монахини уже не одни, а вместе с ангелами, возносящими их души на небеса к Богу.
…Баржа скрылась под водой, а двум испуганным рыбакам, ставшим невольными свидетелями мученической кончины сестер, все еще казалось, что над водной гладью реки раздается пение: «Вечная память, вечная память, вечная память…»
Погиб при исполнении (Некриминальная история)
Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.
Евангелие от Иоанна, 15, 13
И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, – скажет, – и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголют премудрые, возглаголют разумные: «Господи! Почто сих приемлеши?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому их приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего…»
Ф. М. Достоевский. «Преступление и наказание»
Было уже десять часов вечера, когда в епархиальном управлении раздался резкий звонок. И только что прилегший отдохнуть Степан Семенович, ночной сторож, недовольно ворча: «Кого это нелегкая носит?», шаркая стоптанными домашними тапочками, поплелся к двери. Даже не спрашивая, кто звонит, он раздраженно крикнул, остановившись перед дверью:
– Здесь никого нет, приходите завтра утром.
Но за дверью бесстрастный голос ответил:
– Срочная телеграмма, примите и распишитесь.
Получив телеграмму, сторож принес ее в свою каморку, включил настольную лампу и, нацепив очки, стал читать. «27 июля 1979 года протоиерей Федор Миролюбов трагически погиб при исполнении служебных обязанностей, ждем дальнейших указаний. Церковный совет Никольской церкви села Бузихино».
– Царство Небесное рабу Божьему отцу Федору, – сочувственно произнес Степан Семенович и еще раз перечитал телеграмму вслух. Смущала формулировка: «Погиб при исполнении…» Это совершенно не клеилось со священническим чином.
«Ну там милиционер или пожарный, в крайнем случае сторож, не приведи, конечно, Господи, это еще понятно, но отец Федор?» – пожал в недоумении плечами Степан Семенович.
Отца Федора он знал хорошо, когда тот еще служил в кафедральном соборе. Батюшка отличался от прочих клириков собора простотой в общении и отзывчивым сердцем, за что и был любим прихожанами. Десять лет назад у отца Федора случилось большое горе в семье – убит был его единственный сын Сергей. Произошел этот случай, когда Сергей шел домой порадовать родителей выдержанным экзаменом в медицинский институт, хотя отец Федор мечтал, что сын будет учиться в семинарии.
– Но раз выбрал путь не духовного, а телесного врача, все равно – дай ему Бог счастья… Меня будет на старости лечить, – говорил отец Федор Степану Семеновичу, когда они сидели за чаем в сторожке собора. Тут-то их и застала эта страшная весть.
По дороге из института увидел Сергей, как четверо парней избивают пятого прямо рядом с остановкой автобуса. Женщины на остановке криками пытались урезонить хулиганов, но те, не обращая внимания, уже лежащего молотили ногами. Муж-чины, стоявшие на остановке, стыдливо отворачивались. Сергей, не раздумывая, кинулся на выручку. Кто его потом ножом пырнул, следствие только через месяц разобралось. Да что от этого проку, сына отцу Федору уже никто вернуть не мог. Сорок дней после смерти сына отец Федор служил каждый день заупокойные обедни и панихиды. А как сорок дней прошло, стали частенько замечать отца Федора во хмелю. Бывало, и к службе приходил нетрезвым. Но старались не укорять, понимая его состояние, сочувствовали ему. Однако вскоре это стало делать все труднее. Архиерей несколько раз переводил отца Федора на должность псаломщика, для исправления от винопития. Но один случай заставил Владыку пойти на крайние меры и уволить отца Федора за штат.
Как-то, получив месячную зарплату, отец Федор зашел в рюмочную, что находилась недалеко от собора. Завсегдатаи этого заведения относились к батюшке почтительно, ибо по своей доброте он потчевал их за свой счет. В этот раз была годовщина смерти сына, и отец Федор, кинув на прилавок всю зарплату, приказал угощать всех, кто пожелает, весь вечер. Буря восторгов, поднявшаяся в распивочной, вылилась в конце пьянки в торжественную процессию. С соседней строительной площадки были принесены носилки, на них водрузили отца Федора и, объявив его Великим Папой Рюмочной, понесли через весь квартал домой. После этого случая отец Федор и угодил за штат. Два года он был без служения до назначения его в Бузихинский приход.
Степан Семенович в третий раз перечитал телеграмму и, повздыхав, стал набирать номер домашнего телефона Владыки. Трубку поднял келейник Владыки Слава.
– Его Высокопреосвященство занят, зачитайте мне телеграмму, я запишу, потом передам.
Содержание телеграммы Славу озадачило не меньше, чем сторожа. Он стал размышлять: «Трагически погибнуть в наше время – пара пустяков, что весьма часто и происходит. Вот, например, в прошлом году погиб в автомобильной катастрофе протодиакон с женой. Но при чем здесь служебные обязанности? Что может произойти во время богослужения? Наверное, эти бузихинцы что-то напутали».
Слава был родом из тех мест и село Бузихино знал хорошо. Оно было знаменито строптивым характером сельчан. С необузданным нравом бузихинцев пришлось столкнуться и архиерею. Бузихинский приход доставлял ему хлопот более, чем все остальные приходы епархии, вместе взятые. Какого бы священника к ним архиерей не назначал, долго тот там не задерживался. Прослужит год, ну от силы другой – и начинаются жалобы, письма, угрозы. Никто на бузихинцев угодить не мог. Одно время за год три настоятеля пришлось сменить. Рассердился архиерей, вообще два месяца к ним никого не назначал. Бузихинцы эти два месяца, как беспоповцы, сами читали и пели в церкви. Только от этого мало утешения, обедню-то без батюшки не отслужишь, стали просить священника. Архиерей говорит им:
– Нет у меня для вас священника, к вам на приход уже никто не желает ехать…
Но те не отступают, просят, умоляют:
– Хоть кого-нибудь, хоть на время, а то Пасха приближается! Как в такой великий праздник без батюшки? Грех.
Смилостивился над ними архиерей, вызвал к себе бывшего в то время за штатом протоиерея Федора Миролюбова и говорит ему: «Даю тебе, отец Федор, последний шанс для исправления, назначаю настоятелем в Бузихино, продержишься там три года – все прощу».
Отец Федор от радости в ноги архиерею поклонился и, побожившись, что уже месяц, как в рот не берет ни грамма, довольный поехал к месту своего назначения.
Проходит месяц, другой, год. Никто к архиерею жалобы не шлет. Это радует его Высокопреосвященство, но в то же время и беспокоит: странно, что жалоб нет. Посылает благочинного отца Леонида Звякина узнать, как обстоят дела. Отец Леонид съездил, докладывает:
– Все в порядке, прихожане довольны, церковный совет доволен, отец Федор тоже доволен.
Подивился архиерей такому чуду, а с ним и все епархиальные работники, но стали ждать: не может такого быть, чтобы второй год продержался. Но прошел еще год, третий пошел. Не вытерпел архиерей, вызывает отца Федора, спрашивает:
– Скажи, отец Федор, как это тебе удалось с бузихинцами общий язык найти?
– А это нетрудно было, – отвечает отец Федор. – Я как приехал к ним, так сразу смекнул их главную слабость, на ней и сыграл.
– Это как же? – удивился архиерей.
– А понял я, Владыко, что бузихинцы – народ непомерно гордый, не любят, когда их поучают, вот я им и сказал на первой проповеди: так мол и так, братья и сестры, знаете ли вы, с какой целью меня к вам архиерей назначил?
Они сразу насторожились: «С какой такой целью?» – «А с такой целью, мои возлюбленные, чтобы вы меня на путь истинный направили». Тут они совсем рты разинули от удивления, а я дальше валяю: «Семинариев я никаких не кончал, а с детских лет пел и читал на клиросе и потому в священники вышел как бы полуграмотным. И, по недостатку образования, пить стал непомерно, за что и был уволен со службы за штат». Тут они сочувственно закивали головами. «И, оставшись, – говорю, – без средств к пропитанию, я влачил жалкое существование за штатом. В довершение ко всему моя жена оставила меня, не желая разделять со мной моей участи».
Как такое сказал, так у меня на глазах слезы сами собой навернулись. Смотрю, и у прихожан глаза на мокром месте. «Так бы мне и пропасть, – продолжаю я, – да наш Владыко, дай Бог ему здоровья, своим светлым умом смекнул, что надо меня для моего же спасения назначить к вам на приход, и говорит мне: «Никто, отец Федор, тебе во всей епархии не может помочь, окромя бузихинцев, ибо в этом селе живет народ мудрый, добрый и благочестивый. Они тебя наставят на путь истинный». А потому прошу вас и молю, дорогие братья и сестры, не оставьте меня своими мудрыми советами, поддержите, а где ошибусь – укажите. Ибо отныне вручаю в руки ваши судьбу свою». С тех пор мы и живем в мире и согласии.
На архиерея этот рассказ, однако, произвел удручающее впечатление.
– Что такое, отец Федор? Как вы смели приписывать мне слова, не произносимые мной? Я вас послал как пастыря, а вы приехали на приход овцой заблудшей. Выходит, не вы паству пасете, а она вас пасет?
– А по мне, – отвечает отец Федор, – все равно, кто кого пасет, лишь бы мир был и все были довольны.
Этот ответ совсем вывел архиерея из себя, и он отправил отца Федора за штат.
Бузихинцы вновь присланного священника вовсе не приняли и грозились, что если отца Федора им не вернут, то они до самого Патриарха дойдут, но от своего не отступят. Самые ретивые предлагали заманить архиерея на приход и машину его вверх колесами перевернуть, а назад не перевертывать, пока отца Федора не вернут. Но архиерей уже сам поостыл и решил скандала далеко не заводить. И отца Федора вернул бузихинцам.
Пять лет прошло с того времени. И вот теперь Слава держал телеграмму, недоумевая, что же могло произойти в Бузихине.
А в Бузихине произошло вот что. Отец Федор просыпался всегда рано и никогда не залеживался в постели; умывшись, прочитывал правило. Так начинался каждый его день. Но в это утро, открыв глаза, он почти полчаса понежился в постели с блаженной улыбкой: ночью видел свою покойную мать. Сны отец Федор видел редко. А тут такой необычный, такой легкий и светлый.
Сам отец Федор во сне был просто мальчиком Федей, скакавшим на коне по их родному селу, а мать вышла к нему из дома навстречу и крикнула: «Федя, дай коню отдых, завтра поедете с отцом на ярмарку». При этих словах отец Федор проснулся, но сердце его продолжало радостно биться, и он мечтательно улыбался, вспоминая детство. Видеть мать во сне он считал хорошим признаком, значит, душа ее спокойна, потому как в церкви за нее постоянно возносятся молитвы об упокоении.
Бросив взгляд на настенные ходики, он кряхтя встал с постели и побрел к умывальнику. После молитвы по обыкновению пошел пить чай на кухню, а напившись, расположился тут же читать только что принесенные газеты. Дверь приоткрылась – и показалась вихрастая голова Петьки, внука церковного звонаря Парамона.
– Отец Федор, а я Вам карасей принес, свеженьких, только что наловил.
– Ну проходи, показывай свой улов, – добродушно пробасил отец Федор.
Приход Пети был всегда для отца Федора радостным событием, он любил этого мальца, чем-то напоминавшего ему своего собственного покойного сына. «О, если бы он прошел мимо, не осиротил бы своего отца, сейчас бы у меня были бы, наверное, внуки. Но так, значит, Богу угодно», – мучительно размышлял отец Федор.
Петьку без гостинца не оставлял, то конфет ему полные карманы набьет, то пряников. Но, конечно, понимал, что Петя не за этим приходит к нему, а уж больно любопытный, обо всем расспрашивает отца Федора, да такие вопросы иногда мудреные задает, что и не сразу ответишь.
– Маленькие карасики, – оправдывался Петя, в смущении протягивая целлофановый мешочек с дюжиной небольших, с ладонь, карасей.
– Всякое даяние благо, – прогудел отец Федор, кладя карасей в холодильник. – Да и самое главное, что от труда рук своих принес подарок. А это я для тебя припас, – и с этими словами он протянул Петьке большую шоколадную плитку.
Поблагодарив, Петя повертел шоколад в руке, попытался сунуть в карман, но шоколад не полез, и тогда он проворно сунул его за пазуху.
– Э-э, брат, так дело не пойдет, пузо у тебя горячее, шоколад растает – и до дому не донесешь, лучше в газету заверни. А теперь, коли не торопишься, садись, чаю попьем.
– Спасибо, батюшка, мать корову подоила, так молока уже напился.
– Все равно садись, что-нибудь расскажи.
– Отец Федор, мне дед говорит, что когда я вырасту, получу от Вас рекомендацию и поступлю в семинарию, а потом буду священником, как Вы.
– Да ты еще лучше меня будешь. Я ведь неграмотный, в семинариях не учился, не те годы были, да и семинариев тогда уже не было.
– Вот Вы говорите «неграмотный», а откуда же все знаете?
– Читаю Библию, еще книжки кое-какие есть. Немного и знаю.
– А папа говорит, что нечего в семинарии делать, так как скоро Церковь отомрет, а лучше идти в сельхозинститут и стать агрономом, как он.
– Ну, сказанул твой батя, – усмехнулся отец Федор. – Я умру, отец твой умрет, ты когда-нибудь помрешь, а Церковь будет вечно стоять, до скончания века.
– Я тоже так думаю, – согласился Петя. – Вот наша церковь сколько лет стоит, и ничего ей не деется, а клуб вроде недавно построили, а уж трещина по стене пошла. Дед говорит, что раньше прочно строили, на яйцах раствор замешивали.
– Тут, брат, дело не в яйцах. Когда я говорил, что Церковь будет стоять вечно, то имел в виду не наш храм, это дело рук человеческих, может и разрушиться. Да и сколько на моем веку храмов да монастырей взорвали и поломали, а Церковь живет. Церковь – это все мы, верующие во Христа, и Он – глава нашей Церкви. Вот так, хоть твой отец грамотным на селе слывет, но речи его немудрые.
– А как стать мудрым? Сколько надо учиться, больше, чем отец, что ли? – озадачился Петя.
– Да как тебе сказать… Я встречал людей совсем неграмотных, но мудрых. «Начало премудрости – страх Господень», – так сказано в Священном Писании.
Петя хитро сощурил глаза:
– Вы в прошлый раз говорили, что Бога любить надо. Как это можно и любить, и бояться одновременно?
– Вот ты мать свою любишь?
– Конечно.
– А боишься ее?
– Нет, она же не бьет меня, как отец.
– А боишься сделать что-нибудь такое, отчего мама твоя сильно бы огорчилась?
– Боюсь, – засмеялся Петя.
– Ну тогда, значит, должен понять что это за «страх Господень».
Их беседу прервал стук в дверь. Вошла теща парторга колхоза, Ксения Степановна. Перекрестилась на образа и подошла к отцу Федору под благословение.
– Разговор у меня, батюшка, наедине к тебе, – и бросила косой взгляд на Петьку.
Тот, сообразив, что присутствие его нежелательно, распрощавшись, юркнул в дверь.
– Так вот, батюшка, – заговорщицким голосом начала Семеновна, – ты же знаешь, что моя Клавка мальчонку родила, вот два месяца как некрещеный. Сердце-то мое все изболелось: и сами невенчанные, можно сказать, в блуде живут, так хоть внучка покрестить, а то не дай Бог до беды.
– Ну а что не несете крестить? – спросил отец Федор, прекрасно понимая, почему не несут сына парторга в церковь.
– Что ты, батюшка, Бог с тобой, разве это можно? Должность-то у него какая! Да он сам не против. Давеча мне и говорит: «Окрестите, мамаша, сына так, чтобы никто не видел».
– Ну что же, благое дело, раз надо – будем крестить тайнообразующе. Когда наметили крестины?
– Пойдем, батюшка, сейчас к нам, все готово. Зять на работу ушел, а евоный брат, из города приехавший, будет крестным. А то уедет – без крестного как же?
– Да-а, – многозначительно протянул отец Федор, – без кумовьев крестин не бывает.
– И кума есть, племянница моя, Фроськина дочка. Ну, я пойду, батюшка, все подготовлю, а ты приходи следом задними дворами, через огороды.
– Да уж не учи, знаю…
Семеновна вышла, а отец Федор стал неторопливо собираться. Перво-наперво проверил принадлежности для крещения, посмотрел на свет пузырек со Святым Мирром, уже было почти на дне. «Хватит на сейчас, а завтра долью». Уложил все это в небольшой чемоданчик, положил Евангелие, а поверх всего облачение. Надел свою старую ряску и, выйдя, направился через огороды с картошкой по тропинке к дому парторга.
В просторной, светлой горнице уже стоял тазик с водой, а к нему три прикрепленные свечи. Зашел брат парторга.
– Василий, – представился он, протягивая отцу Федору руку. Отец Федор, пожав руку, отрекомендовался:
– Протоиерей Федор Миролюбов, настоятель Никольской церкви села Бузихино.
От такого длинного титула Василий смутился и, растерянно заморгав, спросил:
– А как же по отчеству величать?
– А не надо по отчеству, зовите проще: отец Федор или батюшка, – довольный произведенным эффектом, ответил отец Федор.
– Отец Федор-батюшка, Вы уж мне подскажите, что делать. Я ни разу не участвовал в этом обряде.
– Не обряд, а таинство, – внушительно поправил отец Федор совсем растерявшегося Василия. – А Вам ничего и не надо делать, стойте здесь и держите крестника.
Зашла в горницу и кума, четырнадцатилетняя Анютка, с младенцем на руках. В комнату с беспокойным любопытством заглянула жена парторга.
– А маме не положено здесь на крестинах быть, – строго сказал отец Федор.
– Иди, иди, дочка, – замахала на нее руками Семеновна. – Потом позовем.
Отец Федор не спеша совершил крещение, затем позвал мать мальчика и после краткой проповеди о пользе воспитания детей в христианской вере, благословил мать, прочитав над ней молитву.
– А теперь, батюшка, к столу просим, надо крестины отметить и за здоровье моего внука выпить, – захлопотала Семеновна.
В такой же просторной, как горница, кухне был накрыт стол, на котором одних разносолов не пересчитать: маринованные огурчики, помидорчики, квашеная белокочанная капуста, соленые груздочки под сметанкой и жирная сельдь, нарезанная крупными ломтиками, посыпанная колечками лука и политая маслом. Посреди стола была водружена литровая бутыль с прозрачной, как стекло, жидкостью. Рядом в большой миске дымился вареный картофель, посыпанный зеленым луком. Было от чего разбежаться глазам. Отец Федор с уважением посмотрел на бутыль.
Семеновна, перехватив взгляд отца Федора, торопясь пояснила:
– Чистый первак, сама выгоняла, прозрачный, как слезинка. Ну что же ты, Вася, приглашай батюшку к столу.
– Ну, батюшка, садитесь, по русскому обычаю трахнем по маленькой за крестника, – довольно потирая руки, сказал Василий.
– По русскому обычаю надо сперва помолиться и благословить трапезу, а уж потом садиться, – назидательно сказал отец Федор и, повернувшись к переднему углу, хотел осенить себя крестным знамением, однако рука, поднесенная ко лбу, застыла, так как в углу висел лишь портрет Ленина.
Семеновна запричитала, кинулась за печку, вынесла оттуда икону и, сняв портрет, повесила ее на освободившийся гвоздь.