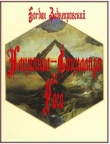Текст книги "Национал-большевизм"
Автор книги: Николай Устрялов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
«Новости Жизни», 15 мая 1921 года.
[Закрыть]
(по поводу статьи А.В. Карташова)
А.В. Карташов поместил в «Новой Русской Жизни» любопытную статью «Истоки соглашательства». Она подходит к вопросу с оригинальной, но со своей вполне законной точки зрения. Она любопытна, эта статья, проводимым ею метким сближением «государственной лояльности» новых «соглашений из стана подлинных культурных антибольшевиков» с такою же лояльностью прежних столпов «кабинетной науки и государственной службы». Тут автор не без основания замечает своеобразную преемственность духа и традиций.
Ну, что же, нам незачем отрекаться от наших предков по духу и даже «родовой биографии». Вслед за А.В. Карташовым мы не бросим в них камня. Они были «действительными статскими советниками кабинетной науки и государственной службы». Пусть так. Мы не видим в этом ничего плохого. Именно этими людьми крепла русская земля, росла «Великая Россия». Именно они непрерывным скромным трудом и упорным опытом поколений создавали русское государство, утверждали гранитным фундаментом великодержавный Петербург, «на темной окраине мира, средь морозных туманов и льдов» вознесшийся манием гения, «из тьмы лесов, из топи блат»… [104]104
Из поэмы Пушкина «Медный всадник».
[Закрыть]
Если мы тоскуем по «старой мощи России» (а мы тоскуем по ней!), если мы чтим память «Петра Алексеевича Романова и Александра Сергеевича Пушкина», то не следует ли нам вместе с этими великими тенями почтить и сонм тех «тихих специалистов культурного служения», которые были основой петрова дела и которых с «детской резвостью» ныне готово записать в «обыватели» наше «ореволюционенное» поколение?..
«Искренне разделяя либеральное мировоззрение, они не потрясались уродливостям противоречащей ему действительности» – презрительно отзывается о них А.В. Карташов. Однако так ли уже заслуживают они за это презрения?
Вожди «чувствительной» интеллигенции, хорошо знавшие «общественный ригоризм и морализм», после опыта нашей первой революции вернулись в «Вехах» к началам, столь резко ими «потрясавшимся». Поза перманентного стояния «воплощенной укоризною» перед отчизной перестала их удовлетворять. Они научились отделять «государство» от «начальства» и «отечество» от «его превосходительства». Они порвали с тем «банальным радикализмом», который настолько «выбивает людей из тихой колеи специальности в бурный поток оппозиции и революции», что лишает их всякой почвы, всякого «фундамента», превращает их в листья, оторванные от родимой ветки… И не подошли ли они тем самым вплотную к тем генералам культуры и государственности, которые, будучи либералами (в лучшем смысле этого слова) по духу, не умели в то же время воспламеняться, подобно ракетам, от каждой отрицательной черты старого режима. «Легко воспламеняются лишь сухие сердца…»
Если дух государственной дисциплины и лояльности есть обывательщина, то да будет она благословенна! Если «героизм» есть пустоцветный и бесплодный «моральный» (в гегелевском смысле) протест, то спаси нас Бог от этого героизма!
Страшными словами нас не запугаете. Мы – бывалые воробьи, несмотря на нашу «наивную молодость», и у нас слишком хорошая школа («Вехи», две революции), чтобы можно было нас провести на старой интеллигентской мякине «оппозиции и пафоса гнева..»
Ведь именно питание этой мякиной и привело страну к большевизму, на «пафосе гнева» возросшему и лишь теперь его диалектически преодолевающему. Что же, ужели снова его возрождать?.. Но тогда, пожалуй, выйдет, что в плоскости политической идеологии, как и психологии, «соглашатели» и «примиренцы» окажутся несравненно более чужды «чистому большевизму», нежели его «непримиримые до конца» враги…
Ужасы и безобразия революции лучше всего учат «спокойствию духа, свойственному кабинетному академизму»: они постигли Россию не оттого, что в ней жил этот дух, а оттого, что его было слишком мало. И убьет все эти ужасы и безобразия не «гипертрофированный общественный морализм» (их духовный отец), а «спокойный и расчетливый рассудок» деловых «спецов», умеющий, как и встарь, способствовать хоть какому-то активному сбережению и наращиванию новых клеточек жизни», изыскивая в действительности «крупицы добра и возможные пути эволюции к лучшему будущему».
Да, мы научились отличать отечество от большевистского «превосходительства», как вместе с первым поколением «веховцев» отличали его от царского. Прекрасно понимая значение и исторический смысл «революционных разрывов с данной действительностью», мы видим, что теперь более, чем когда-либо, родина страдает от таких «разрывов». Поэтому мы им определенно предпочитаем «связи».
Революционная буря имеет рядом с безобразиями свои прелести и рядом с ужасами свою правду. В плане философии истории это нетрудно вскрыть и заметить. Но май революции, как и май жизни, цветет лишь раз. Не пытайтесь же делать весну в сентябре! Фальсифицировать историю столь же бесплодно, как и природу.
Карташов жалует нам титул мальчика из андерсеновской сказки, впервые громко заявившего, что король эмиграции гол. Мы готовы с благодарностью принять этот титул. Имейте только в виду, что если следовать сказке до конца, то и после парадоксального возгласа мальчика «все окончательно убедились, что король и в самом деле гол…»
При всем этом нельзя не отметить решительного противоречия, в которое впадает почтенный публицист, характеризуя «интересующую его группу соглашателей». То он наделяет ее «неудержимой человеческой фантазией» и даже противополагает ее болтливую «опьяненность» молчаливой трезвости каких-то «политических лидеров». То, напротив, – и в этом словно центр тяжести его статьи, – он обличает в ней «спокойный и расчетливый рассудок» и сердце, не умеющее биться паче меры, а тем более разрываться на части… Статья сильно теряет от этого досадного противоречия. Быть может, оно обусловливается пренебрежением автора к «хитросплетениям лукавого рассудка»?.. Но тогда уж вообще лучше отказаться от всякой рациональной аргументации.
Еще два слова о «модернизме» в молодом академическом поколении. Если «радиоактивное ницшеанство» его коснулось с какой-нибудь стороны, но только с той, что вытравило из него «враждебный государству дух», свойственный старому позитивному поколению с его «терпкой моральной солью». Ницшеанство же в собственном смысле тут не при чем.
Государство имеет свою логику, свою «нравственность», примиряемую с нормами индивидуальной морали лишь на известной метафизической высоте. Государство в некотором отношении неизбежно «потусторонно к добру и злу», ибо его «добро» (а оно есть, и вполне реально) – в иной, несколько более углубленной или возвышенной плоскости. Я позволил бы себе по этому поводу припомнить прекрасные статьи гг. Муретова и Струве (их полемику с кн. Е.Н. Трубецким) о «морали и патриотизме», печатавшиеся в «Русской Мысли» в эпоху войны [105]105
Имеются в виду статьи Д.Д. Муретова «Этюды о национализме» («РМ», 1916, № I) и «Борьба за Эрос» (там же, М 4); П.Б. Струве «Блюдение себя» (там же, № 1), «По поводу спора кн. Е.Н. Трубецкого и Д.Д. Муретова (там же, № 6) и «Национальный эрос и идея государства» (там же, 1917, № 1). Спор шел с Е.Н. Трубецким, отстаивавшим моралистический подход к патриотизму. Сам Устрялов откликнулся на эту полемику статьей «К вопросу о сущности “национализма”» («Проблемы Великой России», 1916, № 18), в которой поддержал не своего учителя Трубецкого, Муретова и Струве. Все эти материалы и статьи Трубецкого переизданы М.А. Колеровым в сборнике «Национализм. Полемика 1909–1917» (М., 2000).
[Закрыть]. Большой вопрос, что более «пресно», личный ли «морализм», или мнимый «аморализм» государственной идеи. Но, разумеется, это тема, которая требует особого обсуждения.
…Итак, во всяком случае, можно глубоко поблагодарить А.В. Карташова за его интересную статью: установив духовную генеалогию нашей государственной позиции, он ее укрепил серьезным «аргументом от истории».
«Редиска» [106]106
«Новости Жизни», 22 мая 1921 года.
[Закрыть]
Теперь, по свидетельству приезжающих, это один из самых распространенных терминов в Советской России. Им обозначается огромная категория, подавляющее большинство советских служащих и даже известная часть официальных членов правящей коммунистической партии. Он прилагается иногда и к государству в его целом. Честь изобретения его принадлежит самому Ленину, и он прочно усвоен советскими гражданами.
Редиска. Извне – красная, внутри – белая. Красная кожица, вывеска, резко бросающаяся в глаза, полезная своеобразной своей привлекательностью для посторонних взоров, своею способностью «импонировать». Сердцевина, сущность – белая, и все белеющая по мере роста, созревания плода. Белеющая стихийно, органически.
Не то ли же самое – красное знамя на Зимнем Дворце и звуки «Интернационала» на кремлевской башне? Разве не оправдывает жизнь этот образ, год тому назад казавшийся столь дерзким, столь парадоксальным?..
Старая буржуазия умерла, – рождается новая буржуазия. А подчас и старая перерождается в новую.
Умерла и старая бюрократия, – но тоже фатально рождается новая. И опять-таки нередко старая, пройдя подобно фениксу «стадию пепла», воскресает в новой.
То же самое – армия.
То же – дипломатия.
…Король умер, – да здравствует король!..
Взятая в историческом плане, великая революция, несомненно, вносит в мир новую «идею», одновременно разрушительную и творческую. Эта идея в конце концов побеждает мир. Очередная ступень всеобщей истории принадлежит ей. Долгими десятилетиями будет ее впитывать в себя человечество, облекая ее в плоть и кровь новой культуры, нового быта. Обтесывая, обрабатывая ее.
Но для современности революция всегда рисуется прежде всего смерчем, вихрем:
– Налетит, разожжет и умчится, как тиф…
И организм восстанавливается, сохраняя в себе благой закал промчавшейся болезни. «Он уже не тот», но благотворные плоды яда проявят себя лишь постепенно, способствуя творческому развитию души и тела…
Революция бросает в будущее «программу», но она никогда не в силах ее осуществить сполна в настоящем. Она и характерна именно своим «запросом» ко времени. И дедушка Хронос ее за этот запрос в конечном счете неизбежно поглощает.
Революция гибнет, бросая завет поколениям. А принципы ее с самого момента ее смерти начинают эволюционно воплощаться в истории. Она умирает, лишившись жала, но зато и организм человечества заражается целебной силой ее оживляющего яда.
Склоняясь к смерти и бледнея,
Ты в полноту времен вошла.
Как безнадежная лилея,
Ты, умирая, расцвела…
Но теперь, теперь… В ужасе мечутся революционные энтузиасты:
– Кит Китыч опять у себя в Замоскворечьи!..
Словно загадочная сила, от которой когда-то перевелись богатыри на Святой Руси: ее уничтожают, а она множится, растет…
Но, впрочем, не беспокойтесь:
– Это уже не прежний Кит Китыч. Это новая аристократия, новая буржуазия, новая бюрократия. Сакраментальная триада эта в своем конкретном составе или выдвинута, или перерождена революцией, бессильной ее ликвидировать, но достаточно мощной, чтобы ее решительно преобразить.
«Запрос» русской революции к истории («клячу-историю загоним»!) – идея социализма и коммунизма. Ее вызов Сатурну – опыт коммунистического интернационала через пролетарское государство.
Отсюда – ее «вихревой» облик, ее «экстремизм», типичный для всякой великой революции. Но отсюда же и неизбежность ее «неудачи» в сфере нынешнего дня. Но как ни мощен революционный порыв, – уничтожить в корне ткани всего общественного строя, всего человечества современности он не в состоянии. Напротив, по необходимости «переплавляются» ткани самой революции. Выступает на сцену благодетельный компромисс.
В этом отношении бесконечно поучительны последние выступления вождя русской революции, великого утописта и одновременно великого оппортуниста Ленина.
Он не строит иллюзий. Немедленный коммунизм не удался – это ему ясно, и он не скрывает этого. «Запоздала» всемирная революция, а в одной лишь стране, вне остальных, коммунизм немыслим. «Социальный опыт» только смог углубить уже подорванное войной государственное хозяйство России. Дальнейшее продолжение этого опыта в русском масштабе не принесло бы собой ничего, кроме подтверждения его безнадежности при настоящих условиях, а также неминуемой гибели самих экспериментаторов.
Наладить хозяйство «в государственном плане», превратить страну в единую фабрику с централизованным аппаратом производства и распределения – оказалось невозможным. Экономическое положение убийственно, и все ухудшается; истощены остатки старых запасов. Раньше можно было не без основания ссылаться на генеральские фронты, – теперь их, слава Богу, уже нет. Что же касается кивков на внутренних «шептунов», то сам Ленин принужден был признать сомнительность подобных отговорок. Дело не в шептунах: их «обнагление» – не причина разрухи, а следствие. Дело в самой системе, доктринерской и утопической при данных условиях. Не нужно быть непременно врагом советской власти, чтобы это понять и констатировать. Только в изживании, преодолении коммунизма – залог хозяйственного возрождения государства. И вот, повинуясь голосу жизни, советская власть, по-видимому, решается на радикальный тактический поворот в направлении отказа от правоверных коммунистических позиций. Во имя самосохранения, во имя воссоздания «плацдарма мировой революции», она принимает целый ряд мер к раскрепощению задавленных великой химерой производительных сил страны.
В добрый час!
В настоящий момент нам безразличны мотивы «новой тактики» Ленина. Важна сама эта тактика. Ее нельзя не приветствовать.
Нельзя отрицать, что чрезвычайно содержательным показателем внутренних настроений современной России является стиль последнего кронштадского восстания. Можно (и даже следует) вслед за берлинским кадетским «Рулем» [107]107
Кадетская эмигрантская газета (1920–1931), издатель – И.В. Гессен.
[Закрыть]питать глубокое «недоверие к идейной осмысленности» этого сумбурного и неуклюжего взрыва, явно угрожавшего «анархизацией всей страны» – но подозревать его «подлинность», его «органичность» все же не приходится. Он – кусочек «зеленого шума», и по его лозунгам можно судить о тех силах, которые ныне там, «во глубине России», явились на смену тютчевской «вековой тишины…»
«Да здравствуют Советы, но долой иго коммунистов!» – вот лейтмотив движения. До мозга костей проникнутый революционной психологией и фразеологией, Кронштадт заявил себя непримиримым лишь к одному: к диктатуре коммунистов, к системе насильственного коммунизма.
«Ревком», «да здравствует революционный пролетариат и крестьянство!», «товарищи, присоединяйтесь к нам!», «на страже революции» и т. д. – Этими терминами пестрят «Известия» кронштадтских повстанцев. Не политический строй советов, не «власть рабочих и крестьян», а лишь бездушный режим экспериментального коммунизма поднял их на борьбу, на бунт. И если торжество этого бунта лишь ухудшило бы состояние страны, то причины его останутся действенны и неизбывны до тех пор, пока не будет ликвидирован принудительный коммунизм, препятствующий хозяйственному оздоровлению современной России. Если его не ликвидируют сверху, он окажется сокрушенным снизу. Ненавистью к нему обусловливается и ненависть к правящей партии. Парализовать эту ненависть она сможет лишь прочно став на путь изменения своей тактики в основной экономической проблеме наших дней. Властью должны быть восстановлены некоторые существеннейшие элементы индивидуалистического хозяйства. По-видимому, мы к тому и идем…
Революция, судя по всему, приходит к своей «критической» стадии. До сего времени она по преимуществу оплодотворяла даль времен за счет конкретного организма своего государства. Теперь ей предстоит укрепить, оживить этот последний, быть может, отчасти за счет своих всемирно-исторических задач. Она уже прославляла Россию в веках. Ныне ей надлежит восстановить русское государство в его конкретной материальной мощи.
Урок Кронштадта словно дает понять, как это сделать. Он одновременно – предостережение и императив.
«Редисочный» облик государственности в настоящий момент нужен, полезен России. Он, с одной стороны, предохраняет ее от анархии и своеобразно поддерживает ее международный престиж, а с другой – обеспечивает неизбежность перехода ее к нормальным для данного периода ее развития формам хозяйствования и властвования. Нынешней России одинаково нужны и красный фасад, и белое нутро. Вот почему с национальной точки зрения сейчас не только нельзя сочувствовать окраинным генеральским авантюрам, но и желать успеха внутреннему повстанческому движению стиля Кронштадта и Украины. Единственный надежный путь – трансформация центра.
Революционный «запрос» к закону времени придется рано или поздно снять, так же, как и остановить порывы «загона» бедной «клячи-истории». Всему свое время, в том числе и героическим попыткам разорвать сатурновы кольца.
Но вместе с тем, во избежание недоразумений, необходимо установить и подлинный состав того «белого ядра», которое ныне противопоставляется широкими русскими массами красной оболочке.
Бесконечно ошибается тот, что отождествляет его с дореволюционным содержанием государства российского, или хотя бы с общей физиономией минувших военных противобольшевистских движений. Великое разочарование ждет того, кто мечтает воссоздать страну на старых социальных связях.
Если коммунизм есть «запрос к будущему», то «скоропадчина» или «врангелевщина» во всех ее формах и видах есть не более, как отрыжка прошлого. По тому же неумолимому року Сатурна, не место ей в новой России.
Революция выдвинула новые политические элементы и новые «хозяйствующие» пласты. Их не перейдешь. Великий октябрьский сдвиг до дна всколыхнул океан национальной жизни, учинил пересмотр всех ее сил, произвел их учет и отбор. Никакая реакция уже не сможет этот отбор аннулировать. Здоровая, плодотворная реакция вершит революцию духа, но не реставрацию прогнивших и низвергнутых государственных стропил. Дурная же реакция есть всегда не более, как попытка с негодными средствами. Прежний поместный класс отошел в вечность, «рабочие и крестьяне» выдвинулись на государственную авансцену.
«Старая мощь России» может быть восстановлена лишь новыми силами, вышедшими из революции и поныне пребывающими в ней. Это нужно признать раз навсегда. Ориентироваться можно только на эти новые силы, на их активный авангард, разбуженный взрывом и прошедший столь изумительную школу за страдные годы революционной борьбы.
«Революцию надо преодолеть, взяв у нее достижимые цели и сломив ее утопизм, демагогию, бунтарство и анархию непреклонной силой власти» (Новгородцев).
Растленными силами контрреволюции эта задача осуществлена не была. Она осуществится внутренней диалектикой самой революции.
Путь термидора [108]108
«Новости Жизни», в июне 1921 года. Перепечатано в сборнике «Смена Вех» (Прага).
[Закрыть]
В дни кронштадского восстания некоторые русские публицисты в Париже заговорили о «русском термидоре». «Последние Новости» П.Н. Милюкова посвятили даже несколько статей установлению аналогии между процессом, ныне вершащимся в России, и термидорским периодом великой французской революции.
В какой мере справедливы эти аналогии и что такое «путь термидора»?
Термидор был поворотным пунктом французской революции. Он обозначил собою начало понижения революционной кривой. Путь термидора есть путь эволюции умов и сердец, сопровождавшийся, так сказать, легким «дворцовым переворотом», да и то прошедшим формально в рамках революционного права. При этом необходимо подчеркнуть, что основным, определяющим моментом термидора явилось именно изменение общего стиля революционной Франции и обусловленная им эволюция якобинизма в его «толпе». Кровавый же эпизод 9 числа (падение Робеспьера) есть не более, как деталь или случайность, которой могло бы и не быть и которая нисколько не нарушила необходимой и предопределенной связи исторических событий.
«Если бы Робеспьер удержал за собой власть, – говорил Наполеон Мармону, – он изменил бы свой образ действий; он восстановил бы царство закона; к этому результату пришли бы без потрясений, потому что добились бы его путем власти».
Гений Наполеона в этих словах интуитивно постиг истину, которая впоследствии была вскрыта и подробно доказана историками. 9 термидора не есть новая революция, не есть революционная ликвидация революции. Это лишь один из второстепенных и «бытовых» моментов развития революционного процесса.
«Побежденный людьми, из которых одни были лучше, а другие хуже его, – пишет о Робеспьере Ламартин в своих знаменитых «Жирондистах», – он имел несчастье умереть в день окончания террора, так что на него пала та кровь жертв казней, которые он хотел прекратить, и проклятия казненных, которых он хотел спасти. День его смерти может быть отмечен как дата, но не как причина прекращения террора. Казни прекратились бы с его победой так же, как они прекратились с его казнью». (Ламартин, т. IV, гл. 61).
Якобинцы не пали, – они переродились в своей массе. Якобинцы, как известно, надолго пережили термидорские события, – сначала как власть, потом как влиятельная партия: – сам Наполеон вышел из их среды. Робеспьер был устранен теми из своих друзей, которые всегда превосходили его в жестокости и кровожадности. Если бы не они его устранили, а он их, если б даже они продолжали жить с ним дружно, – результат оказался бы тот же: – гребень революционной войны, достигнув максимальной высоты, стал опускаться…
«Мы не принадлежим к умеренным, – кричал кровавый бордосский эмиссар Талльен с трибуны Конвента [109]109
Верховный законодательный и исполнительный орган Франции в период Великой революции (1792–1795).
[Закрыть]в роковой день падения Робеспьера, замахиваясь на него кинжалом, – но мы не хотим, чтобы невинность терпела угнетение». Гора шумно приветствовала это сопротивление и сопровождавший его жест…
А вот эпизод из жизни Колло д'Эрбуа, одного из главных деятелей термидорского переворота.
Однажды вечером Фукье-Тенвилль (знаменитый прокурор Террора, «топор республики») был вызван в комитет общественного спасения. «Чувства народа стали притупляться, – сказал ему Колло. – Надо расшевелить их более внушительными зрелищами. Распорядись так, чтобы теперь падало по пятисот голов в день». – «Возвращаясь оттуда, – признавался потом Фукье-Тенвилль, – я был до такой степени поражен ужасом, что мне, как Дантону, показалось, что река течет кровью…»
Можно было бы привести множество аналогичных рассказов и о других героях термидора: Барере, Бильо-Варенне и проч. Все они были поэтами и мастерами крови. И они-то стали невольными агентами милосердия, защитниками угнетенной невинности!.. Революция, как Сатурн, поглощала своих детей. Но она же, как Пигмалион, влагала в них нужные ей идеи и чувства…
Да, это так. Революция божественно играла своими героями, осуществляя свою идею, совершая свой крестный путь. И люди, ее «углубившие» до пропасти, поражали ее гидру, ликвидируя дело своих рук во имя все того же Бога революции… Змея жалила свой собственный хвост, превращаясь в круг – символ совершенства.
«Человечность и снисходительность вернулись в среду революции» – резюмирует Сорель сущность термидора. Это, однако, ни к какой мере не знаменовало еще торжества контрреволюционеров. «Революция, казалось, окрепла после падения Робеспьера. Желая избавиться от террористов, французы и не думают отдавать себя в руки эмигрантов. Самое название этой партии и имена стоящих во главе ее аристократов продолжают означать для большинства французов возврат к старому порядку и порабощение иностранцами. Эмиграция возбуждает против себя лучшее чувство французского народа – патриотизм, и наиболее прочное побуждение – личный интерес». («Европа и французская революция», т. IV, гл. 4).
Революция перерождается, оставаясь самою собой. Ее уродливости уходят в прошлое, ее «запросы» и крайности – в будущее, ее конкретные «завоевания» для настоящего обретают прочную опору. «Победить чужеземцев, пользоваться независимостью, довершить организацию республики» – вот твердая цель общенациональных стремлений. Революция ищет и находит свои достижимые задачи.
Но старые формы ее всестороннего «углубления» еще продолжают некоторое время соблюдаться, хотя дух, их воодушевлявший, уже исчез. Революция эволюционирует. «В окровавленном храме перед опустевшим алтарем, – описывает Тэн эту эпоху, – все еще произносят условленный символ веры и громко поют обычные словословия, но вера пропала…» Однако постепенно ортодоксальный якобинизм покидается самими якобинцами. «С каждым месяцем, под давлением общественного мнения, они отходят все дальше от культа, которому служили… До термидора официальная фразеология покрывала своей догматической высокопарностью крик живой истины, и каждый причетник и пономарь Конвента, замкнувшись в своей часовне, ясно представлял себе только человеческие жертвоприношения, в которых он лично принимал участие. После термидора поднимают голос близкие и друзья убитых, бесчисленные угнетаемые, и он поневоле видит общую картину и детали ужасных деяний, в которых он прямо или косвенно принимал участи своим согласием и своим вотумом» («Происхождение совр. Франции, т. IV, гл. 5).
Начался отлив революции. Она становится менее величественной, но зато уже не столь тягостной для страны. Гильотина вдовеет, энтузиазм падает ниже нуля. На сцену выступают люди «равнины» и «болота», смешиваясь с оставшимися монтаньярами. «С Робеспьером и Сен-Жюстом, – констатирует Ламартин, – кончается великий период республики. Появляется новое поколение революционеров. Республика переходит от трагедии к интриге, от мистицизма к честолюбию, от фанатизма к жадности». Однако страна столь устала от трагедии, мистики и фанатизма, что готова на время им предпочесть даже интригу, честолюбие и жадность…
Диктатура комитетов вызывает протесты и уступает место выборному началу. «Народные комитеты, – заявляет Бурдон, – не есть сам народ. Я вижу народ только в местных избирательных собраниях». Не протестуя, таким образом, против самого принципа революции, «термидорианцы» восстают лишь против его своеобразного применения Робеспьером и его друзьями. Невольно приходит на память недавний лозунг крондштадцев насчет «свободно избранных советов».
Таков «путь термидора». Его торжество обусловливалось его ограниченностью. В отличие от путей Вандеи и Кобленца, он опирался на существо самой революции, принимая ее основу и подчиняясь ее законам. Термидорский сдвиг был подготовлен настроениями революционной Франции и совершен Конвентом, т. е. высшим законным органом революции. «Что обеспечивало Конвенту победу, – по глубокому замечанию Сореля – так это то, что сила, которой он пользовался, не была контрреволюционной: то была сама вооруженная революция, реагирующая против себя для того, чтобы спастись от собственных излишеств». Это нужно раз навсегда запомнить и иметь в виду.
И когда в наши дни там и сям поднимаются толки о «русском термидоре», необходимо прежде всего усвоить истинные черты и усвоить урок французского. Иначе кроме «злоупотребления термином» ничего не получится.
Детали, конкретные очертания революции у нас радикально и несоизмеримо иные. В частности, судя по всему, в теперешней Москве нет почвы для казуса в стиле 9 термидора. Но, как мы установили, он и не существенен сам по себе для развития революции. Он мог быть, но его могло и не быть, – «путь термидора» не в нем.
Что же касается этого пути, то он уже начинает явственно намечаться в запутанной и сложной обстановке наших необыкновенных дней.
Конечно, он не в белых фронтах и окраинных движениях, вдохновляемых чужеземцами и эмиграцией. Нет, все эти затеи ему не только чужды, но и враждебны, – лишь безнадежные слепцы или контрреволюционеры в худшем смысле этого слова могут ими обольщаться. Страна – не с ними. Они – вне революции.
Но он – и не в стихийных восстаниях или голодных бунтах против революционной власти. Эти восстания и бунты, быть может, в известной мере способствуют его зарождению и укреплению. Но по своему содержанию он не имеет с ними ничего общего. Революционная Франция, как ныне Россия, хорошо знала подобные мятежи городков и деревень: прочтите хронику эпохи (Эрве, Дьепп, Лион, Вервен, Лилль и т. д.). Однако они никогда не были победоносны уже по одному тому, что не имели творческой идеи и неизменно оказывались не более как бесцельными, хотя и естественными, конвульсиями страдания. Победи они – революционный процесс был бы не плодотворно завершен, а лишь бессмысленно прерван, чтобы снова возобновиться…
Путь термидора – в перерождении тканей революции, в преображении душ и сердец ее агентов. Результатом этого общего перерождения может быть незначительный «дворцовый переворот», устраняющий наиболее одиозные фигуры руками их собственных сподвижников и во имя их собственных принципов (конец Робеспьера). Но отнюдь не исключена возможность и другого выхода, – того самого, о котором говорил Наполеон Мармону: приспособление лидеров движения к новой его фазе. Тогда процесс завершается наиболее удачно и с меньшими потрясениями – «путем власти» [110]110
Примечание ко второму изданию. Бухарин («Царизм под маской революции», издание газеты «Правда», с. 25–27) напоминает мне, что путь термидора отнюдь не был «идиллией». Я не отрицаю этого трюизма: до идиллий ли в революционные времена? Основная мысль настоящей статьи в том, что термидор не был новой всенародной революцией (т. е. контрреволюцией), что и социально, и политически он был «имманентен» революции, как некоему целостному процессу, и, наконец, что он был органической стадией, «вторым днем революции», спасшейся через него от своих утопических «излишеств».
Мне представляется весьма сомнительной аргументация г. Бухарина относительно «русского термидора»: «здесь (т. е. в русской революции. – Н. У.), – пишет он, – налицо строгое соответствие между объективно-историческим «смыслом» революции и основной классовой ее пружиной: пролетарская революция-пролетариат-пролетарская диктатура». Пусть основным «субъективно-классовым фактором» нашей революции явился рабочий класс (хотя исторически и это достаточно спорно), – но откуда берет г. Бухарин, что объективное ее содержание – пролетарская диктатура и социализм? Тут налицо характерное petitio principii. А между тем именно в этом-то и ядро вопроса.
Но допустим, что и здесь г. Бухарин прав. Однако и тогда правомерность аналогии с Францией еще не снимается. Объективно-историческим смыслом французской революции была победа третьего сословия и демократического государства. Но этот ее «смысл», окрасивший собой целое столетие европейской жизни, не спас же революционную Францию от термидора. Социализм по Марксу и Ленину – «запрос» большевистской революции у истории, подобно тому, как демократия марки Руссо была аналогичным запросом революции якобинской.
Теперь, после XIV съезда и XV конференции компартии, «путь термидора» стал, как известно, злободневной внутрипартийной проблемой. Это – факт, вне зависимости от того, кто имеет больше шансов оказаться правым: коммунист Залуцкий, считающий вождями русского термидора Сталина и… г. Бухарина, или коммунист Ларин, объявивший таковыми Зиновьева и Троцкого.
[Закрыть].
В современной России как будто уже чувствуется веяние этой новой фазы. Революция уже не та, хотя во главе ее – все те же знакомые лица, которых ВЦИК отнюдь не собирается отправлять на эшафот. Но они сами вынужденно вступили на путь термидора, неожиданно подсказанный им крондшадтской Горой; не удастся ли им поэтому избежать драмы 9 числа?
Большевистский орден несравненно сплоченнее, дисциплинированнее, иерархичнее якобинцев. Вместе с тем Ленин более гибок и чуток, нежели Робеспьер. Если у нас не было Верньо и Дантона, то наши крайние якобинцы крупнее и жизненнее французских, хотя в аспекте «быта» не менее их ужасны. Быть может, они и кончат иначе. Но основная линия развития самой революции, по-видимому, остается в общем тою же.
Ныне есть признаки кризиса революционной истории. Начинается «спуск на тормозах» от великой утопии к трезвому учету обновленной действительности и служению ей – революционные вожди сами признаются в этом. Тяжелая операция, – но дай ей Бог успеха!
Когда она будет завершена, – новая обстановка создаст и новые формы. Тормоза станут не нужны.
«Революция спасается от собственных излишеств». И горе тем, кто помешает ей в этом, – с трибун ли красных клубов, или из жалких эмигрантских конур.