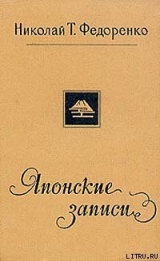
Текст книги "Японские записи"
Автор книги: Николай Федоренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Родники прекрасного
Изысканность и ритмичная законченность композиции, тонкость рисунка, колоритность, удивительно простое сочетание цветов создают впечатление реальности, художественной точности произведения. Невозможно не восхищаться свежестью и глубокой оригинальностью созданной Утамаро галереи изумительных портретов японок. В них нет назойливой морали, нет пустого украшательства, а присутствует прелестная и печальная, простая и голая правда. Во всем этом нельзя не заметить, что Утамаро в высокой степени присуще чувство пропорции и соразмерности. И мы видим, что даже самое обыденное, повседневное может стать могучим источником вдохновения, если, разумеется, здесь возникнет встреча с поиском художника.
Сюжетами для картин Утамаро служили наблюдаемые художником явления окружающей его обстановки, но прежде всего наиболее примечательные образы японок, их быт, каждодневные интересы, заботы, волнения. Он пытливо, мучительно, порой исступленно искал решения, нужной выразительности графических средств, пластических линий. И нередко художник, буквально истерзанный, пробивался к простой истине своего поиска. Взгляните теперь на этот портрет «Прачки», столь увлеченно занятой стиркой кимоно. Она изображена в типичных для ее промысла условиях: деревянное бочкообразное корыто, примитивная бадья для воды, низкая приземистая скамеечка, дощатые колодки на ногах с широкой парусиновой перемычкой. Вместо нарядной прически ее волосы покрыты самым обыкновенным косыночным тюрбаном – без всякого рисунка, без цветов и украшений. Она в очень ординарном халате, ничем не примечательных просторных шароварах. И при всем этом Утамаро смог разглядеть своим пытливым, ищущим глазом необыкновенное обаяние женщины в ее наиболее прозаическом занятии. Прекрасные ее черты обнаруживаются в характерной позе, в облике внезапно повернутого лица, на котором запечатлены робость, легкое волнение; в мягких округлых линиях фигуры, проступающих через легкую ткань ее одежды. Пластичность и образность – первооснова в портретном творчестве Утамаро.
Просматривая позже гравюры других мастеров, я узнал, что тема прачек привлекала внимание многих японских художников. Великолепная гравюра «Прачки» принадлежит кисти Хисикава Моронобу, включенная им в альбом «Сто изображений женщин этого бренного мира» (1681). И здесь крупным планом показана женщина, занятая стиркой. Та же незатейливость обстановки и окружения. Во всем обнаруживается обыденность и простота будничного занятия. Удивительная лаконичность изобразительных средств. Ни единого лишнего, неоправданного штриха. Но именно в этой незатейливой повседневности, безыскусственной непосредственности художнику удалось скупыми средствами гравюры раскрыть подлинную, земную прелесть человеческого бытия и показать обаяние женщины, которая, быть может, с виду несколько грубовата, но в действительности обладает неисчерпаемой жизнедеятельностью и душевной щедростью. Художник по-своему выражает простую истину, что в народе, в природе трудового люда редко наблюдаются скаредность, жадность, стяжательство, стремление к счастью на чужой беде. Во всем облике прачки – радостное чувство, которое она испытывает от своего занятия, в житейских своих заботах не только о себе. Взор невольно останавливается на выразительности действий, ритме движений стирающей женщины, что достигается поразительным владением линией, сильной, уверенной, размашистой.
Характерно, что в работах японских графиков довольно нередки сюжеты труда городских и сельских жителей. При этом они насыщены обаянием любимой художниками Укие-э повседневной действительности, ощущением чистого света, изяществом. Полихромная гравюра «Очистка хлопка» Судзуки Харунобу (1725—1770), на которой изображены сидящая за простым домашним станком девушка, а рядом с ней склонившаяся над мастерицей подруга с плетеной корзинкой в руках, глубоко лирична, интимна. Мы видим простых, очень земных японок в домашней обстановке, за самым повседневным занятием. И вместе с тем перед нами необыкновенные, прекрасные, по мысли автора, идеальные образы японских женщин, в которых передано поэтическое видение художника.
Великолепная по замыслу и настроению гравюра на тему о всесилии и благородстве труда безвестного мастера хранится в моей коллекции. Художник увидел в обычной действительности страны, в жизни японских земледельцев поразительную картину многотрудности и самоотверженности их существования, неистребимость человеческой борьбы, извечность сражения с силами стихии. Гравюра запечатлела возделывание японскими крестьянами рисовых плантаций под беспощадно посылаемым на землю неумолимым зноем. Безжалостно палящие лучи иссушили, начисто испепелили поле, и только люди своим упорством, всепобеждающим усердием способны одолеть ниспосланное на них бедствие. Невольно сочувствием проникаешься к этим труженикам, сжигаемым яростным огнем. Страшен, невыносим вид покрытой глубокими трещинами от солнечного жара земли, обезвоженной, иссушенной. Малейшее прикосновение превращает ее в пыль, мельчайшую пудру, образующую столбы и тучи в минуты степных вихрей. И хотя в гравюре нет зримых свидетельств конечных усилий крестьян, она не оставляет сомнений в оптимизме труда, в победе человека над пагубным ненастьем, в благостном его торжестве.
А на другой цветной гравюре того же, оставшегося безымянным, художника по закону контраста запечатлен труд японских земледельцев в час иного бедствия – водной стихии, неумолимого тропического ливня, который грозит снести неокрепшие побеги рисовой рассады. На черно-зеленых полях, точно вкраплены пригнутые к земле крестьяне. Они под «амигаса» – большими, как велосипедные колеса, широкополыми шляпами из плетеного бамбука. Вместо плащей их спины и плечи покрыты соломенными накидками. Лишь изредка виднеются бронзовые плоские лица и темно-коричневые руки, почти до плеч уходящие в воду. Некоторые крестьяне до пояса погружены в жидкую болотистую глину. Будто врытые в землю, они собою разрезают ее, как плужный лемех, вылавливая и спасая рассаду. И здесь, как и в гравюре засухи, присутствие той же уверенности, оптимизма, господства человека над разбушевавшейся стихией. В этом одна из примечательных характеристик художников Укие-э, которые изображали в своих гравюрах человека в органической взаимосвязи с живой природой, с ее благостными и губительными явлениями, в активной, неустрашимой борьбе труженика, созидателя, покорителя сил ненастья и зла.
Особенно колоритны в этом отношении красочные гравюры Хокусая, создавшего в жанре пейзажа и человека такие, например, ксилографические альбомы, как «Водопады», «Мосты», «1000 видов моря». В этих великолепных работах художника ярко и многообразно раскрыт труд людей – ремесленников, крестьян, рыбаков, их созидательные усилия, настойчивость, упорство, целеустремленная воля.
В прославленной гравюре «Гора Фудзи в ясную погоду» (из серии «36 видов Фудзи») Хокусаю удивительно своеобразно удалось передать тончайшие цветовые звучания. При необыкновенной простоте, с какой воспринимает Хокусай родную природу, окружающий повседневно мир, здесь во всем обнаруживается восхищенный взгляд. В пейзажных гравюрах художника – мудрость великой простоты, поэтическая взволнованность, красочные сочетания. И в этом слышатся отзвуки чувств, настроений, которые волнуют нас, тревожат наше воображение, мысль.
Классическая японская живопись «китайской школы» обычно выражает грандиозность и величие природы. При этом пейзаж представляет собой не натуралистическую передачу конкретных черт определенной местности, но обобщающий, типический образ японской природы. И человек здесь, как правило, изображен не крупным планом, не доминирующей фигурой, а в виде одинокого отшельника у своей едва заметной хижины, у горного ручья или у причудливо изогнутого ствола вековой сосны, символизирующей долголетие человеческой жизни, с едва видными в серо-белой туманной дымке горными вершинами, которые создают представление пространства, а вернее – символизируют объемность и перспективу. Нередко человек изображается в классической живописи за чтением любимого поэта или философского трактата в уединенной хижине, расположенной на горной вершине или в бамбуковой роще, где слышен шум ветра, чувствуется живое дыхание природы, где вьется тропа в неведомую даль.
Такова природа, таков реальный мир в его многообразии и богатстве, исполненный величия и красоты, покоя и ощущения поэзии. Здесь художник и поэт находятся в непосредственном взаимодействии с природой. И человек и природа образуют гармоническое единство, и движут ими одни и те же законы мироздания.
Нередко жизнь уединившегося изображается поэтом в духе нравственного совершенствования личности в окружении естественной природы. Такое уединение бывает обусловлено даоскими идеями о достижении блаженства путем недеяния и отречения от всего мирского либо буддийской философией с ее самоуглублением и поисками нирваны.
Часто уединение в горах вызывалось стремлением художника или поэта оградить себя от политических и моральных пороков общества, найти иную жизнь, но не в потустороннем, а в земном мире.
В поэзии существует даже специальное образное выражение «закрыть калитку за собой» – уйти, удалиться от мира зла и насилия, стать отшельником. Разумеется, это было пассивное сопротивление или уход от активной борьбы с общественным злом. Однако в ту далекую эпоху феодализма подобное уединение и отшельничество рассматривалось как проявление могучего человеческого разума в поисках лучшего, счастливого существования.
Иными словами, в японском классическом пейзаже отражено стремление художника найти в окружающем мире материал для выражения своего лирического настроения, своих чувств и мыслей, для создания зримых образов природы.
– В японском художественном творчестве, – замечает Тосио сан, как бы обобщая наш обмен мыслями, – образы природы и человека часто находят оригинальное выражение в произведениях литературы и изобразительного искусства. Важно, однако, отметить, что своеобразие здесь состоит в том, что, несмотря на принципиальные отличия литературы и живописи, средства художественного воплощения образов в произведениях литературы и живописи выступают во взаимосвязи, в своеобразном взаимодействии. Можно сказать, что мотивы природы и человека в их взаимосвязи и взаимной обусловленности характерны для японского художественного творчества многих эпох, включались в сферу своего образного видения живописцами и поэтами, пожалуй, на всем протяжении эстетического движения Японии. Так показывалось и воспевалось обаяние родного края. Однако период развития и формирования гравюры Укие-э представляется едва ли не наиболее интересным с точки зрения раскрытия темы природы и человека в его труде на фоне естественного окружения, в процессе его активного воздействия на силы и явления природы.
Тосио сан раскрывает все новые картины, увлекательно комментируя характерные приметы, своеобразие этого глубоко национального художника, которого ярко выделяют его самобытный творческий почерк, удивительная цветовая фактура, сюжетная направленность. Весь календарный свиток показался мне исполненным какой-то магической, абсолютной силы. И нельзя не видеть, что творчество истинного художника – поэта, скульптора, живописца – всегда прочно стоит на родной почве, органично взаимосвязано с традициями и опытом всего наиболее жизнестойкого, испытанного временем. И если его творения, порожденные вдохновением автора в родной стихии, становятся достоянием отечества, то признание общечеловеческое не может не прийти.
– Японские живописцы, художественный гений Хокусая, Хиросигэ, Утамаро, Тэссая и многих других, – добавляет Тосио сан, – сохранили для людей, для всех нас волшебную, неправдоподобную и вместе с тем столь близкую нам красоту, физическое и душевное совершенство человека. Подлинно талантливые произведения искусства призваны нести людям высокие нравственные принципы, убедительные образы прекрасного. И поэтому взаимосвязь этического и эстетического в художественном творчестве представляется нам глубоко органичной, нерасторжимой. И это объясняет нам одну из причин того, почему японцы любят свою историю, свое прошлое и все, что дошло до них от минувших времен. Они не уничтожают, а бережно сохраняют памятники и реликвии своей национальной старины.
– Но разве, – замечаю я, – понятие о ценностях, духовных и эстетических, не меняется в разные эпохи, по мере развития общества, нашего движения вперед, связанных с ним представлений о реализме, идеализме?
– Со дэс нэ… Так и вместе с тем, пожалуй, и не совсем так. Меняются относительные ценности, но не те, над которыми не властно время. Есть художественные сокровища, созданные в самые отдаленные времена, – древняя бронза, керамика, каллиграфическая живопись, произведения изобразительного искусства, – эстетическая значимость которых не утрачивается на протяжении многих поколений, порой и тысячелетий. И этот взгляд исходит из наших традиционных представлений о прекрасном в жизни, об эстетическом идеале: творения искусства непременно должны быть художественно прекрасными. И в этой связи, на мой взгляд, реализм не противостоит понятиям идеализма. В жизни не всегда легко выделить реалистические начала в их элементарной сущности. Явления реалистические находятся в многосложной взаимосвязи с понятием об идеальном. Это особенно относится к искусству, к произведениям творчества. Художественное выражение окружающего нас мира всегда таит в себе различные аспекты желаемого и действительного. Реалистическое видение соотносится с идеальным в различной форме у различных художников. И в этом мы обнаруживаем источник эстетического удовлетворения – тем больше, чем самобытнее и талантливее их мастерство.
Цветовая и музыкальная гамма
По столичному цветному телевидению, качеству изображения которого завидуют все эксперты, включая кичливых американцев, передается новогодний концерт. С празднично украшенной эстрады то льются приглушенные рыдания гавайских гитар и тихих малайских напевов, то громким каскадом обрушиваются звуки металла и ударных инструментов при исполнении латиноамериканских ритмов. Когда на сцене появляется прославленное трио Панчес в ярких экзотических костюмах и под огромными сомбреро, многотысячная токийская аудитория бурно рукоплещет, встречая мексиканских певцов продолжительными овациями.
– Мне несравненно больше импонирует музыка, – замечает Тосио сан, – когда я слушаю ее в одиночестве, а не в большой аудитории, в концертном зале с массой народа. Тогда она как бы звучит лишь для меня одного. И мне кажется, что мир звуков несет моему слуху особую полноту и многообразие. Это относится не только к национальной японской музыке. Мелодии, занесенные на наши острова с далеких и неизведанных земель, будто раскрывают мне душу людей с их самобытным восприятием жизни, исполненной поэзии и драматизма, задушевности, романтики. Звучание голоса, пение струн или приглушенный ритм ударных инструментов – все это по-своему рассказывает о том, что нельзя увидеть, невозможно ощутить. И слушаю я, конечно, не всякую музыку: многие мелодии мне отнюдь не импонируют. Есть музыка, к которой я не испытываю влечения, – она как бы не апеллирует, не взывает ко мне, к слуху, к моему восприятию. Но есть вещи, которые я не могу пропустить, не прослушав их многократно, иногда десятки раз подряд. Они вызывают во мне какое-то невыразимое, благостное чувство. Это часто музыка не в исполнении большого оркестра, громкое звучание которого, мне кажется, слишком заглушает, затемняет выразительность звучания отдельных инструментов, хотя многие музыкальные произведения, несомненно, требуют исполнения именно средствами большого оркестра. Для меня существеннее звучание отдельного инструмента, когда в полной мере раскрываются его индивидуальные свойства. И среди множества струнных инструментов меня привлекает звучание контрабаса с его низкими, глубокими нотами, переливами и нюансированием, особенно в исполнении негритянских музыкантов. Негритянские контрабасисты, мне думается, неподражаемо владеют этим инструментом и способны извлекать из него нечто поразительное, магическое. Чудесен глубокий и низкий тембр струн контрабаса в ансамбле с ударными инструментами и звуками рояля, например в исполнении таких негритянских пианистов, как Дюк Эллингтон или Каунт Беси.
– Но ведь все это, кажется, американские музыканты?!
– Со дэс нэ, в современной Америке наиболее талантливые композиторы и музыканты – негры по происхождению. Именно им принадлежит крупнейший вклад в развитие музыкальной культуры этой страны. И Соединенные Штаты обязаны прежде всего музыкальному гению негров, их необыкновенной творческой одаренности, поразительной их талантливости. И в Америке и далеко за ее рубежами известны имена бесспорно ведущих композиторов и исполнителей Дюка Эллингтона, Чарлза Мингуса, Каунта Беси, Колимана Хаукинса, Бена Уэбстера, Рей Чарлза, Поля Робсона, Нат Кинг Кола, Сачмо-Луи Армстронга, Эллы Фитцджеральд, Лины Хорн, Майлса Дэвиса, Гарри Белафонте и многих других. Все они – негры. И родиной прославленного музыкального творчества является Нью-Орлеан, центр негритянского населения. Здесь впервые возникли и облетели всю землю самобытные нью-орлеанские мелодии, которые уже в пору их рождения стали называть «живыми легендами» и душой которых являются негритянские фольклорные песни.
Тосио сан продолжает называть все новые имена негритянских музыкантов – виртуозов вокала, тромбона, саксофона, трубы, рояля, названия песен и мелодий. И во всем этом обнаруживалось свидетельство необыкновенной популярности современной музыкальной культуры американских негров в Японии.
– Замечали ли вы, какое неповторимое обаяние таит в себе соединение струнных звуков контрабаса и саксофона, особенно альта, например, в лирическом исполнении Колимэна Хаукинса, мастерство которого в таких вещах, как «Десафинадо», «Когда были», «Невзгоды человека», представляется мне каким-то чудодейством. Живое дыхание его альта, интимность тембра и какой-то внутренний, душевный ритм создают истинно поэтическое настроение. Его одухотворенная тональность, эмоциональная окраска, его нюансированные звукописи являют собой подлинное волшебство. И все это рождается металлом, в сущности куском железа или меди.
Голос Тосио сан на какое-то мгновение умолкает, будто мысленно переносится в свою стихию объемного, стереофонического звучания столь любезной его сердцу, чарующей мелодической палитры.
– А приходилось ли вам слушать голос и фортепьянную интерпретацию гениального негра Рей Чарлза, слепого композитора и певца, его полные драматизма и душевности песни, в основе которых лежит негритянский фольклор; песни, проникнутые волнующей экспрессией, трагизмом и призывом. Рей Чарлз достигает в исполнительском мастерстве того звукового рисунка, который определяет весь стиль его музыкальности.
Позднее, уже в Нью-Йорке, мне не однажды пришлось бывать на концертах Рей Чарлза, восхищаться его глубоко самобытным искусством, корни которого уходят в народное песенное творчество Южных штатов Америки. И к числу его самых волнующих вещей, несомненно, принадлежит песня о Джорджии, земле цветных, где в неволе, в извечном гонении не смолкают их стенания под беспощадным бичом тиранствующих белых плантаторов. И американская пресса вынуждена признавать не только поразительную одаренность Рей Чарлза, но и репортаж своих корреспондентов о том, что слепой певец, в больших черных очках, которого друзья ведут под руки, появляется в рядах негритянских демонстрантов на улицах Алабамы и Джорджии.
– И разве не поразительно, – продолжает Тосио сан, – что самые простые и самые сложные музыкальные композиции, в основе которых неизменно лежат всего лишь семь элементарных тонов и пять полутонов, звучат столь различно, каждая в своей неповторимой оригинальности, в своем мелодическом ключе, образуя огромный, неисчислимый мир песен и ритмов? И это чем-то напоминает собой творения живописи, палитра которой также возникает из небольшого числа цветов, изначально очень ограниченного спектра красок. И здесь мы видим свой цветовой ритм, свою клавиатуру. Ритм музыкальный, ритм в красках. Ритм во всем: в звучании, материале, форме…
Эти высказывания Тосио сан воскресили в моей памяти строки когда-то прочитанного рассказа А. П. Чехова «Дома», где говорится о семилетнем мальчике: «Из ежедневных наблюдений над сыном прокурор убедился, что у детей, как у дикарей, свои художественные воззрения и требования своеобразные, недоступные пониманию взрослых. При внимательном наблюдении взрослому Сережа мог показаться ненормальным. Он находил возможным и разумным рисовать людей выше домов, передавать карандашом, кроме предметов, и свои ощущения. Так, звуки оркестра он изображал в виде сферических, дымчатых пятен, свист – в виде спиральной нити… В его понятии звук тесно соприкасался с формой и цветом, так что, раскрашивая буквы, он всякий раз неизменно звук Л красил в желтый цвет, М – в красный, А – в черный и т. д.
– Не менее поразительно и то, что искусство дирижера сводится, в сущности, всего лишь к четырем компонентам, построенным на чередовании темпа и громкости: быстрее, медленнее, громче, тише. Все остальное обычно выражено в нотах. И тем не менее столь ограниченные на первый взгляд возможности не помешали, например, Тосканини стать гениальным дирижером, так же как Хокусаю – сделаться бессмертным живописцем.
Заговорили о музыкальных инструментах и национальных мелодиях. Тосио подчеркнул приверженность японцев к миниатюре, малым формам, но указал и на пристрастие воинственных кругов к экспансионистской масштабности,
– В Японии почти не распространен такой прекрасный инструмент, как гармонь, с ее певучестью и задушевным строем, – с налетом меланхоличности и лукавством сказал Тосио.
– Почему же? – спросил я собеседника, который, кажется, ждал моего наводящего вопроса.
– Для гармони нужен простор не только в душе, но и в пространстве, а по мнению наших «дирижеров», японский архипелаг не позволяет «растянуть» гармонь – «локти упираются» либо в Курильские острова, либо в страны Юго-Восточной Азии…
– А может быть, следовало бы попробовать губную гармонику?
– Да, в этом есть смысл. Но после того, как экстремистски настроенных «гармонистов» ударили по локтям, губной инструмент привлек к себе внимание, только не всем он подходит – у некоторых наших музыкантов слишком выдаются зубы, из-за которых певучесть все время превращается в мелкую дробь…
– Не лучше ли тогда перейти на ударные инструменты?
– По крайней мере, пока еще челюсти целы, об этом надо им серьезно поразмыслить. У некоторых японцев любой разговор переходит на тему о «жизненном пространстве», «необходимости новых рынков» и т. д.
– Разве не о чем более говорить?
В поведении японцев есть крайне симптоматичные детали. Когда они из разных мест страны собираются вместе, у них обмен новостями длится не более десяти минут, а потом начинаются повторения. Они жалуются на скудость новостей из-за того, что Япония «слишком малая страна», у нее «ограниченное жизненное пространство».
Тосио сан, заметив, что ему пора возвращаться домой, встает с бамбукового кресла и очень изящно делает прощальный поклон, произнося при этом слова признательности за гостеприимство и внимание. Уже поздний час, и пора «разъединить рукава кимоно» – знакомый мне образ японской литературы, выражающий расставание.
– Позвольте мне надеяться, – добавляет он, – на благоприятную возможность вновь встретиться с вами и продолжить нашу беседу о японском искусстве и лучше познакомиться с вашими эстетическими взглядами.
В свою очередь я благодарю Тосио сан за его дружественный визит, за прелестные цветные листы Утамаро, за ценную для меня беседу о японском искусстве.
Вершины деревьев уже окутал морской туман, густой и темный, и это придает многоярусным кронам свой необъяснимый, загадочный вид. Едва заметно надвигается серая тишина. Скалистый берег прячется во мгле, все более скрывая от наших глаз свои первородные очертания. И только шум моря, неутешные волны беспрестанно продолжают тихо нашептывать свою недосказанную легенду.
И в памяти всплыли запомнившиеся стихи древнего поэта:
Тысячу лет с половиной прошли, —
Быстро идут года,
И только на отмели шум воды
Таков же, как и тогда.
И облака остались такими же, как и сотни лет назад, От них по-прежнему исходят на землю мир и тишина.
Мы выходим из дома и оказываемся на тропинке, выложенной остроконечными скальными плитами. С морского простора веет солоноватой свежестью. Над нами ветви могучих вековых криптомерии и хвои, а несколько поодаль сиротливо прильнули друг к дружке белые березки. Вокруг первозданная, таинственная тишина. И каменистый берег этот, и непрестанно пенящиеся волны, и вековые гиганты криптомерии не имеют каких-либо заслуг в знаменательных свершениях и вряд ли связаны с прославленными подвигами к баталиями, а непосредственно являют нам прелесть прекрасного в природе, в земном бытии человека. «Государства гибнут, а горы и реки остаются», – вспомнилась мне японская поговорка. И у россиян, тоскующих по грибным лесам, лишь сладко и больно щемит сердце от мыслей о белых березах. И перед моими глазами возник такой же дымчатый вечер в березовой роще Подмосковья, и грусть вселилась в сознание, грусть по внуковской земле, по едва колышущимся теням деревьев на дороге, причудливым, как таинственные иероглифические письмена на древней бронзе: пролетающие вдали отсветы, а за ними, в чаще, – заповедные тайники с грибным сыроватым запахом. Что-то родное, очень близкое видится мне в этом снежном тумане, нависшем над горными склонами и пологим скалистым берегом, и в беззвучно надвигающейся ночи. И мне нестерпимо вспомнился дом в подмосковном Внукове, простой бревенчатый сруб, где меня дожидаются белостволые березы и задушевность атмосферы у чарующего кострового огня под их кудрявыми кронами, голубые, серебристые ели, туманные весенние закаты, книжные стены – неизменные друзья.








