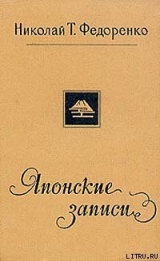
Текст книги "Японские записи"
Автор книги: Николай Федоренко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 32 страниц)
Традиции и творчество
Цветные листы Утамаро
В утренний час первого января Тосио сан посетил меня в небольшом японском домике, расположенном у самого морского побережья. Это был личный визит, как того требует обычай, с новогодним поздравлением. Тосио сан выглядит очень празднично. На нем национальный парадный халат цвета древесного угля с длинными просторными рукавами, под которыми виднеются белоснежные отвороты, и украшениями на груди в виде тисненых позументов. Опустив руки и приняв смиренную позу, он почтительно сгибается в низком традиционном поклоне и негромко произносит приветственную фразу: «Омэдэто годзай-мас!» – «Поздравляю с Новым годом!»
И торжественный вид гостя, и классический поклон, и речевая манера Тосио сан впечатляюще свидетельствуют об обычаях национального своеобразия, о чувстве такта, соблюдаемого во взаимоотношениях, общении в быту. И в этом есть своя мера. Здесь протокольная сухость так же обедняла бы и была бы не оправдана, как излишняя сентиментальность.
Свирепое ночное ненастье к утру успокоилось. Неуемное, казалось, буйство стихии совсем улеглось. Наступило затишье, благостный покой. Стало «тихо, как после наводнения».
Невольно вспоминаются строки Гонсуй, поэта японского средневековья:
Злобный вихрь затих…
Все, что от него осталось, —
Дальний шум валов.
Гигантский Токио сверкает вдали своими яростными отражениями в стеклянных стенах банковских железобетонных громад. Перед моими глазами раскинулся далекий горизонт: зеркальная поверхность воды почти незаметно сливается с небосводом. И едва колышущаяся морская даль, простирающаяся от застывшего каменного побережья, кажется выдержанной, по слову живописца, в своем цвете, в своем неповторимом освещении и воздухе. Через открытую раму окна в комнату доносится сырой запах только что выловленной свежей рыбы – исконный запах японского рыбацкого поселка, приморских деревень.
В сельской местности, в глубинных префектурах и в прибрежной полосе, где японские крестьяне самым первобытным, прадедовским способом вычерпывают воду из источников и колодцев при помощи «старой дубовой бадьи», в простом народе живет древний традиционный обряд – наполнение первой бадьи воды в новом году. Примечательно, что эта «вакамидзу» – «молодая вода» – прекрасно воспета японскими поэтами и народными сказителями многих поколений. Мидзу, в особенности чистая родниковая вода – природный источник жизни и здоровья, неизменно вызывала у японцев чувства признательности, благоговейного поклонения.
По очень древнему обычаю, японские крестьяне поднимаются в первый день нового года на самой заре, вместе с солнцем, умываются «молодой водой», облачаются в новые праздничные кимоно и всей семьей во главе со старейшим в роду собираются в лучшей комнате своего дома. Здесь, под кровом своих предков, они чинно обмениваются новогодними поздравлениями, добрыми пожеланиями и, дорожа новогодним мгновением, чтобы испить «живой воды», мирно угощаются «фукутя» – «чаем благополучия». Он готовится из свежей ключевой воды в старинной бронзовой или чугунной посуде, безупречно вычищенной внутри и с густым слоем сажи, закопченной на огне от долголетнего пользования. Пьют сельчане обычно зеленый чай в виде засушенных листьев темно-зеленого оттенка или напиток из специально обработанных морских водорослей, богатых йодистыми веществами и минеральными солями. При этом подаются особо приготовленные просоленные абрикосы. С древней поры считается, что зеленый чай и острые маринованные абрикосы и сливы, благодаря их целебным свойствам, оберегают человека от разного рода недугов и болезней. «Друзья что маринованные сливы: чем старше, тем лучше», – гласит японская поговорка.
С нашей мансарды, несколько возвышающейся над остальными строениями, открывается широкая окрестная панорама. Обаяние своеобразной природы этих мест, их неизъяснимая атмосфера, близкое дыхание океанской громады, неугомонный морской плеск – все это наполняет сердце какой-то мечтательностью, чувством благоговения.
Иногда нам кажется, что мы плывем на парусной яхте и над нами возникают все новые светящиеся облака, белоснежные и лучистые, легко и стремительно уплывающие на север, к невидимым причалам, родной сибирской дали.
Тосио сан, напомнив о нашей новогодней встрече прошлой ночью в доме Охара сэнсэй, с отменной вежливостью выражает удовольствие по поводу сердечности атмосферы и интересного собеседования. Он также передает благодарность от Охара сэнсэй за честь, которая была оказана его дому нашим вчерашним визитом к ученому.
Затем Тосио сан приносит из гостиной комнаты привезенный им шелковый платок – фуросики, расписанный стилизованными иероглифами, и, развязав его ловкими движениями пальцев, извлекает небольшой бумажный свиток.
– К Новому году, – спокойно замечает он, – в Японии с давних пор принято издавать традиционные календари с разнообразными сюжетами – историческими, литературными, художественными. Вместе с моими коллегами нам удалось напечатать вот этот скромный альбом в старинной технике гравюры на дереве. В нем воспроизведены некоторые образцы произведений одного из наиболее одаренных японских художников восемнадцатого столетия Утамаро, крупнейшего представителя искусства Укие-э (буквально – «картины повседневной жизни»). По старинному обычаю, в духе поэзии дружественного привета, такие календари японцы посылают близким им людям вместе с новогодним поздравлением.
О японских календарях, их многообразии и красочном оформлении мне было известно давно. Приходилось слышать и об удивительной привязанности японцев к месяцеслову. Запомнилось как-то прочтенное короткое стихотворение Хисуда Дзиро, современного поэта Японии:
«Все пожитки перевезены».
А глядишь, – и везти-то было
Календарь один со стены!
Вплоть до семнадцатого столетия, поясняет далее Тосио сан, японское изобразительное искусство оставалось почти исключительно привилегией высших классов и было в значительной мере ограничено сюжетом китайских пейзажей, цветов, легенд и различных предметов, непосредственно не связанных с жизнью народа, его повседневным бытом и деятельностью. К этому следует добавить, что моральное воспитание в Японии уже с самых детских лет было неизменно подчинено идее социальной изоляции, сословного обособления. Так создавались придворные и аристократические традиции, формировавшие чувство социального превосходства, обоготворявшие и идеализировавшие образ правителя, священного императора. Между тем все нараставший интерес народа к прекрасному неизбежно привел к требованию отображения в японском искусстве народной жизни, личной и общественной. В результате в художественном творчестве все заметнее стала изображаться обстановка повседневной жизни людей и обычные сцены, а не абсолютная заоблачная действительность в виде буддийской нирваны; все чаще стали появляться смелые композиции, новые графические приемы в технике гравюры. Процесс демократизации изобразительного искусства в существенной степени обусловливался ростом и активизацией в общественной жизни третьего сословия. Гравюра Укие-э в период Токугава (1603—1867), являвшийся последним этапом феодальной истории Японии, отображала настроения и чувства трудового населения городов – ремесленников, всевозможных слуг торговых домов, а также их хозяев – купцов. Этим объясняется и то, что, помимо иных образов и героев, излюбленными темами японских художников тех дней были их современники, в том числе актеры театра Кабуки, красавицы из чайных домиков, куртизанки, гейши. И картины на эти сюжеты приобрели необыкновенную популярность. Они были доступны народу и заменяли дорогостоящие произведения живописи.
Годы жизни в Японии помогли мне узнать, что японская гравюра имеет древние традиции. Литературные памятники свидетельствуют о том, что техника гравюры применялась еще в восьмом веке для изготовления иллюстраций буддийских сутр, а также для размножения храмовых текстов. На протяжении столетий техника гравюры совершенствовалась и обогащалась, достигнув наивысшего уровня в XVII–XVIII веках. Именно в этот период ксилография в творчестве мастеров Укие-э приобретает значение изобразительного искусства, в основе которого лежат определенные эстетические принципы и взгляды. Знаменательно, что в произведениях крупнейших мастеров Укие-э того периода, прежде всего талантливейшего художника Моронобу, которому принадлежит особая заслуга в развитии художественных выразительных средств гравюры на дереве, характеры и образы современников стали занимать едва ли не главное, основное место.
Среди многих мастеров того периода одно из почетных мест принадлежит Китагава Утамаро (1753—1806), который, пожалуй, на голову выше стоит над своими современниками по технике создания средствами гравюры прекрасных портретов японок. Он является основоположником глубоко оригинального творческого стиля, за которым утвердилось имя художника. Утамаро приобрел настолько широкую популярность не только в Японии, но далеко за ее берегами, что, когда речь заходит об искусстве Укие-э, посвященном созданию прелестных образов японок, имя Утамаро всегда заслуженно называется первым, хотя, как все знают, с этим жанром тесно связаны также имена таких художников, как Хокусай, Моронобу, Харунобу, Хиросигэ и множество других. На тридцать восьмом году жизни Утамаро начал писать новые женские образы, сосредоточивая внимание главным образом на изображении привлекавших его наиболее характерных лиц японок, которые, как об этом свидетельствует история, искони третировались в социальной и семейной жизни Японии. Художником созданы дивные галереи портретов, собранных в альбомах «Цветные изображения северных провинций», «Выбор песен», «Знаменитые красавицы шести лучших домов», «Большие головы», «Десять красавиц», «Ямауба и Кинтаро», «Рыбаки Аваби», «Шелководство» и др. И даже наиболее талантливые портретисты не могли сравниваться с Утамаро в изобразительном мастерстве, в передаче внутренней красоты женщины, ее истинного благородства. Он глубоко понимал психологию японок и умел талантливо выразить в своих цветных гравюрах на дереве свойственную им физическую и душевную утонченность. Для Утамаро это было не только поэтическое восприятие действительности. Это был путь к наиболее полному раскрытию жизни человека.
Из японских книг я узнал, что некоторые работы Утамаро навлекли на него серьезное негодование современных ему правителей. В них – чудесное соединение пафоса прекрасного и сатиры, благородства и унижения, сурового нравоучения, чарующей лирики. Но цветные листы его явились вызовом господствующим кругам: в них они скоро обнаружили бичевание свойственных им ханжества, лицемерия, мелкого снобизма. В этих гравюрах Утамаро содержался своеобразный социальный комментарий, выраженный в художественных образах. Именно Утамаро, пожалуй, ярче, острее и более, чем другие мастера гравюры, обращался к современной ему жизни, к существовавшей реальности, характеру людей, поведению человека в различных социальных условиях. И в глазах правителей это выглядело как неслыханная наглость со стороны верноподданного императора. Утамаро, как свидетельствуют исторические источники, все чаще возвышал голос, возмущался. Ему трудно было работать. Не хватало воздуха. Художник остро ощущал дыхание времени, настроения переживаемой эпохи. Он искал облегчения людских страданий. Но отравленной была вся атмосфера. И вот в начале годов Бунка[32]32
В Японии время обозначалось по годам правления, получающим особые наименования.
[Закрыть] (1804—1818) Утамаро был заточен в тюрьму. Непосредственным поводом ареста художника явилась острая сатира, которую он применял часто и смело против тиранствовавшего сегуна, феодального диктатора. Его преступление – в жгучей ненависти ко всему подлому. Не всегда страной правит разум. И враги вольнодумного живописца яростно домогались удовлетворения своего властолюбия, своей алчности и жестокости. Лишение свободы, глубоко угнетавшее художника, потрясло и деморализовало его, привело к смерти в 1806 году, в возрасте 53 лет.
Жизнь Утамаро трагически оборвалась в расцвете его творческого таланта.[33]33
В 1959 году в Японии студией «Дайэй» был создан цветной художественный фильм «Утамаро», посвященный жизни и творчеству Утамаро.
[Закрыть] О нем можно сказать словами японской народной поговорки, что жизнь его поистине – свеча на ветру.
Смерть художника не позволила завершить многое из задуманного. В известной степени к Утамаро относятся слова его современника, гениального Хокусая: «Все то, что я сделал до 70 лет, не стоит принимать в расчет. Только в возрасте 73 лет я приблизительно стал понимать истинное строение природы: животных, трав, деревьев, птиц, рыб и насекомых. К 80 годам я достигну еще больших успехов. В 90 лет я проникну в тайны вещей. К 100 годам я сделаюсь чудом, а когда мне будет 110 лет, каждая моя линия, каждая моя точка – все будет совершенным. Я прошу тех, кто увидит меня в этом возрасте, посмотреть, сдержу ли я свое слово».
Хокусай, как и Утамаро, не дожил до тех дней, о которых так вдохновенно мечтал, хотя и умер в возрасте 89 лет.
Однако, по словам известного японского ученого Кода Нариюки в его сочинении «О радости и наслаждении», одни живут, будучи мертвыми, другие, умерев, живут.
И художественное наследие Утамаро, в творчестве которого яркое выражение нашли тревоги и поиски, буйное своеволие вожделений и щедрость чувств, не оказалось похоронено под осыпью лет. В цветных листах Утамаро – мышление художника, пространственное воображение, чувственное познание. Созданные им образы сохранились до наших дней как свидетельство обретенной художником правды. Он обнаружил свое понимание, где пролегает путь к человеческому благородству, достоинству и счастью, и явил нам приметы этого пути.
Общепризнано, что произведения японских художников XVIII столетия, в том числе Утамаро, оказали весьма сильное влияние на изобразительное искусство Европы середины XIX века, в особенности на искусство Франции. Именно у японских мастеров учились многие европейские импрессионисты. Это, несомненно, расширило эстетические представления, базировавшиеся ранее главным образом на определенных канонах прекрасного античной Греции и европейского Ренессанса.
Образы японок
Бережно развернув календарный свиток, Тосио сан кладет его на стоящий передо мной низкий полированный столик с резными, сильно изогнутыми ножками в виде чешуйчатого дракона. Утонченность вкуса наглядно сказывается у японцев даже на самых простых предметах повседневного обихода. Мягкий свет лампы сквозь матовую бумагу падает на первый лист альбома Утамаро – «О-сегацу» – «Праздник Нового года». И перед моими глазами возникает прекрасное: целый мир страстей, надежд, желаний. Художник извлек из сердцевины красок и света дивный образ японки и подарил его времени, подарил его нам, неведомым и далеким потомкам, движимым такой же, как и он, жаждой вечно живого, прекрасного.
– Этот портрет, – поясняет Тосио сан, – взят нами из серии рисунков Утамаро под названием «Семь женщин за туалетом». Сюжет картины поражает своей простой повседневностью. Женщина в кимоно строгого рисунка смотрится в зеркало, заботясь об изысканности своей прически. Но эта тематическая незатейливость, как очевидно, позволяет художнику запечатлеть один из тех моментов, когда наиболее непосредственно обнаруживается женственность японки, непринужденное ее обаяние. При этом художник великолепно выразил прекрасные черты лица в двух планах – фронтально, через отражение в зеркале, и анфас, создав таким образом интересную и необыкновенную композицию. Для творчества Утамаро весьма характерна поразительная зоркость глаза, способность проницательного, цветового видения. Именно этим в значительной степени обусловлено создание им портретов выразительной психологической и художественной формы.
Тосио сан продолжает свой рассказ о большой силе эмоционального воздействия портретного искусства Утамаро, отмечая в нем и присутствие мысли, и своеобразие средств выражения, и пластичность формы. Он подчеркивает, что Утамаро стремился не вырисовывать, не изображать, а воплощать, выражать. Перед нами раскрывается физическая красота человека, конкретные особенности его состояния, богатства движения. Глядя на гравюры Утамаро, мы как бы испытываем внутреннее желание психологически доосмыслить образ, созданный художником, глубже понять его нравственный смысл. И краски и бумага гравюры в творчестве Утамаро – это, конечно, не просто сырье, над которым он трудился; это раньше всего органическая коммуникативная взаимосвязь художника с жизнью, эпохой, народом.
– Чувство непереносимой горечи и отчаяния, терпеливая кротость, выраженные в глазах юной красавицы, – продолжает Тосио сан, показывая цветную гравюру, созданную Утамаро по мотивам драматических баллад, – символически раскрываются художником с помощью черного и белого тонов капюшонов, покрывающих головы героев. Влюбленные, под гнетом необходимости приучившие себя к одиночеству и своеобразной нелюдимости, гонимы жестокостью семейного домостроя. У них нет выбора. Осталось одно – под покровом ночи навсегда покончить с собой, как только будут одновременно загашены бумажные фонари «Одавара-тетин» девушкой и ее возлюбленным.
А рядом с гравюрой на желтом фоне выписаны черной тушью поэтические строки. Они чем-то напомнили мне слова поэта уже нашего времени:
Внезапный крик, исполненный печали,
Бездушной птицы из осенней дали, —
Ты знаешь ли?
Жемчужину, скользящую на дне
В предутренней нахлынувшей волне, —
Ты знаешь ли?
Звезду, скользящую в глубинах мрака,
Где не найти ни образа, ни знака, —
Ты знаешь ли?
И первый звук в нетронутой тиши,
Дрожанье стрелы.[34]34
Симадзаки Тосон (1872—1943). Из «Песен труда». Перевод В. Марковой. Сб. «Восточный Альманах», вып. 2, ГИХЛ, 1958, стр. 394.
[Закрыть]
Примечательно, что во времена Эдо, как в старину назывался город Токио, поясняет Охара, стрельба из лука «хамаюми» была излюбленной игрой детей в новогодний праздник. Слово «хама» обозначало мишень, сделанную из соломенной веревки, а «юми» – лук. Стрельба из лука, который в средневековой Японии являлся основным видом оружия, была особенно популярной игрой молодежи вплоть до конца эпохи Токугава (1603—1867). В свое время японские воины пользовались привилегией начинать древний обряд стрельбы из лука на новогоднем фестивале. В наших исторических памятниках отмечается, что возникновение ритуала стрел
ьбы из лука относится к январю 1185 года и связывается с Камакура Бакуфу, верховным органом управления страной, созданным Минамото Ёритомо – первым сегуном Японии. Первоначально слово «хамая» означало лишь «стрелу и мишень», но впоследствии, когда «хамая» стала применяться в храме Цуругаока Хатиман и получила письменное иероглифическое выражение, «хамая» приобрела значение «разящей дьявола стрелы». – Разумекартины, представляя собой как бы поэтический комментарий, то каллиграфическое мастерство великолепно гармонирует с графическим искусством ксилографии.
Едва ли в художественной жизни какой-либо страны, помимо Китая, взаимосвязь литературного и изобразительного творчества, поэзии и живописи проявилась столь органически и с такой глубокой взаимной проникновенностью, как это мы наблюдаем в Японии. В этом специфика и особая притягательность японского художественного творчества.
Подлинно поэтические произведения выдающихся японских художников слова воспринимаются подобно картинному изображению, но без зримых форм, а живопись – как поэзия с видимыми формами. Художественная литература вместе с тем призвана изображать по преимуществу действие, развитие, процесс, тогда как средствами живописи должны воплощаться различные состояния или положения предметов и явлений окружающей жизни. «Литератор… не только пишет пером, – но – рисует словами, и рисует не как мастер живописи, изображающий человека неподвижным, а пытается изобразить людей в непрерывном движении, в действии, в бесконечных столкновениях между собою, в борьбе классов, групп, единиц»[35]35
М. Горький. О литературе, 3-е изд. М., 1937, стр. 344.
[Закрыть]. При этом явления и предметы осваиваются в литературном творчестве не непосредственно, не прямолинейно, а через соответствующее восприятие, действие. И разве не примечательно, что в поэтическом арсенале присутствуют все непременные составные элементы живописи?
Характерна стремительная сила и выразительность линии каллиграфической надписи. Она столь же насыщенна, свободна и размашиста, как и линия гравюры, несущая особую эмоциональную нагрузку, конструктивно участвующая в создании художественного образа. Она исполнена той же динамичности, ритма, движения, живой атмосферы. Линия каллиграфической живописи, в сущности, заложена в первооснову графической техники, в самую сердцевину японского искусства Укие-э. Взаимосвязь живописи и каллиграфического творчества, истоки которого восходят к глубокой древности и которое развивалось вместе с формированием иероглифической письменности, является, быть может, как ни в какой зарубежной графике, глубоко органической, нерасторжимой.
Вглядываясь в изображенные на гравюре лица, в их цветовую интерпретацию, я чувствую какое-то необыкновенное сочетание реальности и условности. В этом как бы обнаруживается эстетический идеал Утамаро, который видел его в воплощении красоты. Это сочетание реального и условного создает в картинах нечто непостижимое, магическое. И вместе с тем портрет вызывает ощущение цветного равновесия, непринужденной, живой интонации.
– Цвет в портретной гравюре Утамаро, – замечает Тосио сан, будто разгадывая мое раздумье, – это волшебство, чародейство. Одаренный от природы умом тонким и проницательным, он не знал усталости в постоянном труде в поисках источников вдохновения и творчества. Едва ли до него кто-либо придавал такое значение свету и цвету. Цвет у него в синтезе с линией может образовать бесконечное многообразие оттенков, придавая его работам сказочное очарование. Цвет в гравюрах Утамаро дает представление пространства, объема, глубины. Цвет способен служить магическим украшением, декоративностью. Но в каждом портрете краски он применял крайне скупо, передавая цвет как творческую силу, создающую новое воображение, новые представления и ассоциации. Цвет постоянно несет в картинах Утамаро настроение поэтической мечтательности, интимности, романтики…
Своим высоким мастерством художник, сумевший так приблизить свое творчество к жизни, показывает нам, что подлинное искусство для него основано на лучших традициях прошлого, на усвоении опыта древних, у которых главное – не краски, а линия, изысканность линии. Краски не занимали в их работах первостепенного места, им отводилась подчиненная роль. Утамаро усматривал для себя совершенный образец в работах древних мастеров, которые неизменно подчеркивали и культивировали благородную простоту линий, высоко ценили синтез линии и цвета. И в этом стремлении к предельной законченности нельзя не видеть торжества преемственности поколений.
Я слушаю рассказ Тосио сан о цветовой гамме японского художника, и мне вспоминаются стихи «Цвета» Расула Рза, народного поэта Азербайджана. И у него каждый цвет осмыслен, исполнен особого содержания: каждый из них «вестник печали и вестник надежды, траура вестник и вестник мечты». И поэт Расул Рза, так же как художник Утамаро, отмечая, что «краски приходят в наши сердца, подобно цвету холодному или жаркому, краски память нашу будят, краски чувства наши будят», подчеркивает, однако, что «если ты не видишь глубже, краска просто краской будет».
– Обратите внимание, – увлеченно повествует Тосио сан, предлагая мне полюбоваться изображением прелестной японки на апрельском листе календаря, – на картину из серии «Современные красавицы в Ёсивара»[36]36
Ёсивара – район Эдо (ныне Токио), где проживали куртизанки.
[Закрыть]. Одна из существенных особенностей этой картины состоит в том, что художник, создавая образ героини, не ограничился традиционной рамкой картины, а намеренно вынес часть натуры за черту желтого фона. В дальнейшем этот прием, казалось бы элементарный по своей простоте, стали применять многочисленные художники, и вскоре он приобрел значение эстетической нормы. Заметьте далее, что благодаря выбранному повороту лица и найденному Утамаро изгибу рук героини, автору удалось показать здоровое физическое обаяние и красоту японок. Примечательно, что в этом произведении Утамаро использует весьма ограниченные цвета и, несмотря на эту лаконичность красок, добивается зримого усиления выразительной эффективности. Этот художник, кажется, более всего стремился к чистоте линий, и его цветная гравюра порой похожа на раскрашенный рисунок.








