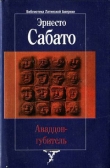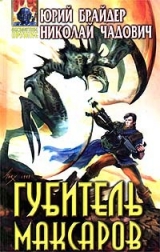
Текст книги "Губитель максаров (сборник)"
Автор книги: Николай Чадович
Соавторы: Юрий Брайдер
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 51 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
– «Объединенная национальная гвардия Отчины», – расшифровал Цыпф.
– Верно. Но тогда-то я еще этого не знал… Решил все отрицать и ни в чем не сознаваться. До полного прояснения обстановки. Прикидываюсь придурком. Дескать, инвалид войны, сильно контужен, потерял память, даже фамилию свою не помню, не говоря уже о прочих биографических данных.
– Надо было при нем в штаны наложить, – посоветовал Зяблик. – С некоторыми контуженными так бывает. Похезать захотел, а штаны снять забыл. – Эта очередная эскапада, как ни странно, совсем не задела Мирона Ивановича.
– Не имел такой возможности, – объяснил он. – Брюхо пустое было. Три дня до этого ничего во рту не держал… Хотя мне все равно не поверили бы, даже засрись я по уши. Это ведь Отчина, все друг друга знают. Не успел я свою версию рассказать, как мне уже предъявили досье на меня самого. Представляете? Куча бумаг, согласно которым я кругом виноват. И в свержении Коломийцева, и в клевете на Плешакова, и в преследовании патриотически настроенных лиц, и во всяких злоупотреблениях, и в геноциде против союзных нам киркопов, и в анархических устремлениях, и в связах со зловредными элементами, среди которых, между прочим, и вы оба значитесь, – он указал пальцем на Зяблика, потом на Смыкова. – Благо хоть, что солнце с неба не я украл…
– Признались вы? – поинтересовался Смыков.
– А куда денешься? Показали мне свежий указ, где всем преступникам, признавшим свою вину, обещана амнистия. Упорствующие же подлежат немедленному изгнанию за пределы Отчины и территорий, ей подконтрольных. За Агбишер, за Баламутье, к черту на кулички! Пришлось подмахнуть все бумаги, что они мне подсунули. Однако присягать по новой отказался. Говорю, присяга, как и первая брачная ночь, может быть только единожды в жизни. А все остальное – блуд. Помучились со мной еще с неделю, но отступились в конце концов. Если бы присягнул, говорят, мог бы и ротой командовать, а так отделенным пойдешь, да и то только учитывая твой богатый боевой опыт. Дали мне десятерых субчиков, сухой паек на две недели и сюда заслали. Машину эту я уже сам собирал из того, что в местном гараже раскопал.
– Подожди, – перебил его Зяблик. – Я никак в толк не возьму… Кому ты должен был присягать? Какая власть нынче в Отчине?
– Ты сейчас обхохочешься! – Табурет под тушей Мирона Ивановича предательски заскрипел. – Какому-то правительству народного единства… Тоже мне правительство – каждой твари по паре. Но верховодит Плешаков вместе с аггелами. А может, это аггелы верховодят под прикрытием Плешакова. Где они только его откопали?
– Не понимаю… Плешаков, аггелы… Они ведь раньше вроде врагами считались, – удивилась Верка, не венчанная жена бывшего президента Отчины.
– Политика… – многозначительно произнес Мирон Иванович. – Каждый хочет свой интерес соблюсти. Сила, конечно, на стороне аггелов, но больно уж у них репутация подмоченная. В крови по уши замараны. А Плешаков с компанией, наоборот, – славу народного защитника имеет… Усмиритель распрей и рупор национальной идеи. До отца народа мало чего не хватает… Но все это, думаю, временно. Как только они власть в Отчине под себя подгребут, тут союз и кончится. Перегрызутся, как собаки за кость. Тем более что аггелы без крови не могут, хоть и поклялись своих впредь не трогать… Сейчас в поход готовятся. Не то против Лимпопо, не то против Степи.
– Почему же этот бардак в зародыше не задавили? – У Зяблика от ярости даже язык заплетаться стал. – Ведь… ведь… ведь все под контролем было. Аггелы Отчину стороной обходили. Кругом наши ватаги шастали. Сиволапые в симпатиях к нам клялись.
– Не знаю. Меня в ту пору здесь не было… Но только, как я на старости лет убедился, любой народ – что глупая девка. Обмануть его – раз плюнуть. На посулы, на болтовню, на заигрывание попадается, как сикуха шестнадцатилетняя. А уж память точно – девичья. На следующий день про все обиды забывает и любого гада подколодного простить готов. Плох только нынешний день! В прошлое всех тянет, в светлое прошлое, хотя оно на самом деле чернее ада может быть. Прошлое, как гиря, у нас на ногах висит, на дно тянет, свежего воздуха глотнуть не дает! Свободы хотели, а потом от нее в кусты давай шарахаться. Дескать, порядок нужен, твердая рука, дисциплина! Верните Плешакова, верните Коломийцева! Скоро с того света Генералиссимуса звать станут! Сами в хомут лезем! Эх, дураками были, дураками и помрем!
– Ну хорошо, – сказал Цыпф. – Возьмут Плешаков и аггелы власть. А дальше что? Идея какая-нибудь у них есть? Реальный план действий? Что они людям обещают?
– А кому чего не хватит, то и обещают. Да еще в немереном количестве. Правда, не сразу, а лет этак через пять. Всех накормят, все наладят, чужаков приструнят, экстремистов образумят, бабы станут рожать, как кошки, а земля даст по три урожая в год. В смысле свободы совести будет полнейшая идиллия – в кого хочешь, в того и верь. Хоть в Христа, хоть в Каина, хоть в Кырлу-Мырлу бородатую.
– Ты аггела по имени Ламех не встречал? – спросил Зяблик. – Морда у него такая паскудная-паскудная. Раньше он у них в главарях ходил.
– Нет, – покачал огромной седой башкой Мирон Иванович. – Аггелы особняком кучкуются. С плешаковцами не мешаются.
– А как обстановка в других странах? В Кастилии, в Степи? – Цыпф в первую очередь интересовался проблемами глобального масштаба.
– Не ко мне вопрос. В правительстве этом хреновом есть специальные люди, которые раз в пять дней бюллетень на машинке печатают и в специальных местах вывешивают. Там все про все сказано. А если усомнишься или, того хуже, беспочвенные домыслы распространять будешь, можешь там оказаться, куда и ворон костей не занесет. Паникер, говорят, хуже врага, а клеветник – страшней заразы.
– Ну а про ту напасть, которая Киркопию погубила, что здесь слышно? – не унимался Цыпф.
– Ничего не слышно… Бумажный тигр это якобы… Еще одна попытка посеять панику и расколоть нацию. Подсудное дело! Какие-нибудь вопросы еще будут? А не то у меня уже в глотке пересохло.
– У меня вопрос прямой, – опять набычился Зяблик. – Ты сам на чьей стороне?
– Дорогой ты мой, прямые вопросы не от большого ума задаются, а чаще всего от дремучей глупости, – сказал Мирон Иванович наставительно. – Разве обязательно на чьей-либо стороне быть? А потом – что вы, интересно, за сторона такая? Три мужика, две бабы… Да у одного Плешакова в личной охране не меньше полусотни головорезов! Это не считая аггелов, которые тоже вояки известные. Ты про те времена, когда на твой свист братва отовсюду сбегалась, забывай! Нет уже давно той братвы. Не сторона ты, а пустое место!
Пока Зяблик подыскивал для достойного ответа слова позаковыристей и доводы поубийственней, на сторону бывшего попечителя Киркопии встал Лева Цыпф.
– Мирон Иванович в чем-то прав! – заявил он. – Пусть этот вопрос до сих пор всерьез и не обсуждался, но подразумевалось, что мы должны восстановить в Отчине статус-кво, существовавшее год или полгода тому назад. Но по силам ли нам такая задача? У нас нет ни опоры в массах, ни связей в среде нынешней власти, ни даже какого-нибудь сверхмощного оружия типа кирквудовской пушки. Практически мы изгои. Гости, опоздавшие к дележке торта… Конечно, все можно начать сначала. Пропаганда, контрпропаганда, партизанская война, интриги, компромиссы, вероломство… Без всего этого не обойтись. Даже если мы уцелеем в этой борьбе, даже если победим, в кого мы превратимся? Мало ли палачей начинали в свое время как друзья народа… Кромвель, Разин, Марат, Дзержинский… Имя им
– легион… Вы просто не задумываетесь над тем, что нам предстоит! Опять война, опять кровь, опять брат пойдет на брата…
– Вот ты как запел! – Руки Зяблика, помимо воли, заметались по столу, сшибая посуду. – Вот ты, значит, что в душе таил! Братьев тебе жалко! Где ты их видишь? Может, аггелы тебе братья? Или Плешаков сват? Они бандиты! Суки последние, все законы преступившие, как Божьи, так и человеческие! Талашевский трактат и поныне действует! Не имели они права его отменять! Под ним подписи трехсот делегатов из четырех стран стоят!! Там черным по белому записано, что нет над человеком иной власти, кроме его совести! И ты после этого в услужение Плешакову пойдешь? Найду я здесь опору! А не найду, подниму Степь! Кастилию подниму! И в следующий раз под точно таким же трактатом каждый распишется! Может, даже и своей кровью!
– Ну началось, – нудным голосом произнес Смыков. – Еще и палец о палец не ударили, а уже от идейных разногласий дом трясется. Точно как на втором партсъезде… Вы оба пока успокойтесь, а я свой вопрос задам.
– Только покороче, – Мирон Иванович рывком расстегнул ворот. – Измаялся я… Сколько времени по этим колдобинам скакал, которые теперь дорогой называются.
– Плешаков, пока у власти был, всех против себя успел настроить. Как же он на прежнее место вернулся?
– Я и сам удивляюсь… Мистика какая-то. Когда он пропал, люди буквально плясали… И теперь пляшут, только от восторга… Тут опять же только из женской психологии сравнения могут быть… Жил, допустим, с бабой, обыкновенной нашей бабой какой-то проходимец. Обманывал ее на каждом шагу, пил, гулял, долг свой супружеский не выполнял, а если вдруг и дорывался до тела, то всегда с какими-нибудь извращениями, короче, дрянной был мужичишко… А потом спер последнее барахло и съехал куда подальше… В покое ее оставил… И что вы думаете будет, если через пару лет он вернется – грязный, голодный, вшивый, с побитой мордой? Прогонит она его? Да черта с два! Примет, облобызает и все простит. На руках носить будет. Сама сто грамм нальет и раком встанет. Тот из вас, кто постарше, должен помнить, что было, когда Генералиссимус откинулся. Страна три дня так выла, что в лесах волки побесились. Хотя одна половина населения пострадала от него прямо, а другая – косвенно. И оживи он лет этак через десять, все опять станут ему сапоги лизать под песни композитора Дунаевского. Нет, что вы ни говорите, а у власти есть страшная магия, как и у красоты, к примеру. Ты про себя вспомни, – он вдруг погрозил пальцем Смыкову, – тоже ведь начальником числился, хотя, если честно сказать, какой из тебя начальник… Так, кочка на ровном месте. Мент с тремя звездочками. И все равно люди, под твою власть попавшие, на тебя молиться готовы были. Каждое желание твое старались угадать, в рот твой щербатый заглядывали…
– Я бы попросил не переходить на личности, – сухо сказал Смыков. – А за лекцию о приводе власти спасибо, хотя нынешнюю ситуацию в Отчине она совершенно не проясняет…
– Примерно то же самое сказала мартышка, надев себе очки на хвост. – Мирон Иванович, крякнув с досады, отыскал взглядом Верку и почти взмолился: – Милая, налей еще чуток!
Отказа от Верки, обычно весьма щепетильной в этом вопросе, ему не последовало, хотя кружка Зяблика, как бы ненароком пододвинутая поближе к фляжке, едва не улетела со стола. Спирт Мирон Иванович выдул с такой же легкостью, как здоровый ребенок – бутылочку подслащенного молока, но когда Смыков попытался задать еще один вопрос, выставил вперед обе ладони сразу.
– Тпру! Как говорится, спасибо за угощение и извините за компанию… Я пошел на боковую… Наверху есть койки и матрасы… На всех хватит… Надеюсь, караул ко мне приставлять не будете?
– Будем, – буркнул Зяблик. – Обязательно. Что бы ты спросонья спирт до конца не выжрал…
– Интересный человек, – сказала Верка, когда Мирон Иванович, ступая тяжело, как статуя командора, убрался в спальню. – В жизни очень разбирается…
– Еще бы, – ехидно скривился Смыков. – Персонаж в Отчине известный. Фамилия его Жердев, но обязательно с ударением на первом слоге. Иначе обид не оберешься…Если ему верить, он в молодости личным поваром у маршала Курочкина служил. Так это или не так, но готовил он действительно классно. Особенно пироги с зайчатиной. Жену и дочек даже близко к плите не подпускал. Сам-то он питерский, а в Талашевск попал после войны следующим образом. Возил сюда чемоданами саржу. В то время это был чуть ли не последний крик моды. А обратно в тех же чемоданах – куриные яйца. На них в Ленинграде был сумасшедший спрос. Короче говоря, занимался типичной спекуляцией и деньги на этом имел немалые. Но однажды в дороге сильно запил и всю саржу, на чужие средства, кстати, закупленную, не то потерял, не то спустил по дешевке. Назад возвращаться побоялся, вот и осел в Талашевске. Легковушку купил, наверно, самую первую в городе. Свадьбы возил, извозом калымил. Потом дом построил. Женился. Водителем в пожарную команду устроился. Механик был первостатейный, золотые руки… Но и глотка луженая, хотя до определенного момента он спиртного в рот не брал. Момент этот раз в году, как у коровы течка. Тогда он брал отпуск в пожарной, снимал с вклада в сберкассе энную сумму денег и уходил на пару недель из дома. Пил не просыхая, ночевал под забором, со всяким жульем якшался… Мы на его проделки обычно сквозь пальцы смотрели, ведь что ни говори, а специалист был незаменимый. Особенно по ходовой части и электропроводке. Да и мотор мог перебрать… Но губила его одна дурная привычка или, может, блажь. На исходе запоя, когда деньги уже к концу подходили, шел он на почту и начинал во все концы страны, но главным образом в Москву посылать срочные телеграммы. Естественно, своему бывшему шефу, а также другим высокопоставленным товарищам, в годы войны водившим с Курочкиным дружбу. Маршалам, генералам, министрам, членам Политбюро… Якобы они на фронте после хорошего застолья любили переброситься в картишки и повара Жердева нередко брали в компанию. Представляете вы себе такую телеграмму: «Москва. Кремль. Бывшему начальнику политотдела 18-й армии Брежневу Л. И. Леня, срочно вышли по нижеуказанному адресу триста рублей в счет погашения карточного долга. Твой Мироша». Никто из почтовых работников такую телеграмму, сами понимаете, принять не мог. И вот тогда Жердев начинал бушевать. Это он к старости силушку немного поистратил, а в те времена мог свободно телеграфный аппарат на крышу отделения связи забросить. Убытки наносил колоссальные. Правда, потом их беспрекословно возмещал и еще получал на закуску пятнадцать суток… Если у него сегодня запой начнется, завтра с ним уже не поговоришь… Я сначала, грешным делом, решил, что ему эта история про Киркопию спьяна пригрезилась, а потом вижу – нет, не врет…
– Следовательно, словам этого человека можно доверять? – спросил Артем, занятый какими-то своими мыслями.
– Более или менее… – Смыков слегка замялся. – В том аспекте, который не касается его биографии… Как он, например, промышляя лосей, целую зиму кормил запасной полк на Урале, как дружил семьями с Ким Ир Сеном или как в конном строю штурмовал рейхстаг…
– У меня из головы не идет эта история с киркопом, превратившимся в големообразное существо, – задумчиво произнес Артем. – Мы априорно считаем, что никаких зооморфных или анитропных форм эта древняя жизнь не имела и иметь не может. Зачем же тогда вселять нечеловеческую сущность в человеческую оболочку? А если это признак того, что настал черед пробудиться не только примитивным видам этой жизни, но и ее гораздо более высокоорганизованным представителям, в том числе, возможно, даже разумным?
– Ну тогда людям на этом свете вообще делать нечего, – вздохнула Лилечка.
– Изживут нас настоящие хозяева, как какую-нибудь заразу…
– В том-то и дело, что как раз заразу и труднее всего изжить, – сказал Артем. – Грипп или дизентерия это вам не мамонты, пещерные медведи и туры, от которых только обглоданные кости остались… Брали они свою дань с рода человеческого, берут и еще долго брать будут. Каждый из нас и внутри, и снаружи буквально покрыт микроорганизмами… И те из них, которые убивают своих хозяев, имеют в перспективе гораздо меньше шансов уцелеть, чем те, которые состоят с ним в симбиозе…
– Что вы хотите этим сказать? – насторожился Цыпф. – Что люди должны взять на себя роль микробов, паразитирующих на теле неизмеримо более совершенного организма?
– Если уж брать по большому счету, то все живое есть не что иное, как паразиты на теле Земли… – сказал Артем, – но речь сейчас совсем о другом… Возможно ли что-то общее между той жизнью и этой? Сможем ли мы существовать в одном мире? Сумеем ли как-то договориться? Или древних хозяев планеты следует приструнить, ограничить их какими-то рамками?
– Если среди них есть разумные существа, то почему бы действительно не найти с ними общий язык, – оживился Цыпф. – У вас ведь, слава Богу, есть опыт общения со всякой нелюдью.
– То-то и оно… Разум может завести жизнь туда, куда никакая эволюция не заведет. С Незримыми или с тем же Кешей общаться бывает посложнее, чем с кошкой или собакой… В том смысле, что их точка зрения на природу и на свое место в ней отличается от нашей куда больше, чем наша от собачьей…
– Какой-то вы сегодня чересчур задумчивый, – сказала Верка. – Даже не попробовали ничего, кроме каши.
– Перед дальней дорогой лучше не переедать, – слабо улыбнулся Артем.
– Разве вы нас бросаете, дядя Тема? – всплеснула руками Лилечка.
– Нет, конечно… Но сейчас нам лучше всего снова расстаться. Здесь я вам не помощник. Разве что буду состоять при ваших особах телохранителем. Но это не устроит ни вас, ни меня… В свою очередь, и вы не помощники в том деле, которое задумал я. На время наши пути расходятся, чтобы потом соединиться вновь. Как говорил Наполеон, армии должны маршировать порознь, но сражаться вместе… Постарайтесь, чтобы за время моего отсутствия пролилось как можно меньше крови и как можно большее количество людей если и не приготовились к эвакуации, то хотя бы восприняли мысль о ее необходимости… Ну и, конечно, постарайтесь уцелеть сами. Не торопите события. Любому плоду необходимо время на созревание. Сделайте все возможное, чтобы установить взаимопонимание с наибольшим числом человеческих сообществ, исключая, может быть, лишь наиболее экстремистские… Не замыкайтесь в среде своих земляков. В заботе нуждаются и те, кто живет за пределами Отчины. Впрочем, не мне вас учить. Ну вот, пожалуй, и все, что я хотел сказать… Прощаться не будем… Я переночую здесь и уйду еще до того, как вы проснетесь.
После побудки выяснилось, что мрачные прогнозы Смыкова сбылись – Мирон Иванович быстро и неотвратимо впадал в состояние запоя, столь же волшебно-притягательное для самого пьющего, сколь и отвратительно-тягостное для окружающих.
В предчувствии этого события он заранее распихал по всяческим потайным местам заначки разного объема (в пределах от ста грамм до литра) и теперь, проявляя дьявольскую находчивость и скрытность, уничтожал их одну за другой. При этом он всячески пытался сохранить внешнюю видимость трезвого и здравомыслящего человека. Давалось это Мирону Ивановичу, очевидно, огромным напряжением духовных и физических сил.
Первую дозу, разгонную, он принял еще в постели, но ее хватило совсем ненадолго. За завтраком, безо всякого аппетита грызя черствый хлеб, Жердев вдруг спохватился, что не успел как следует умыться. Имевшийся в столовой рукомойник его не устраивал – дескать, вода чересчур теплая и уже «не живая». Перекинув через плечо полотенце, он отправился к колодцу, расположенному в глубине двора. Отсутствовал Жердев совсем недолго, а вернулся в хорошем настроении и с мокрыми волосами (но с теми же следами пыли и копоти на лице, что и прежде).
Жадно навалившись на еду, он глубокомысленно заметил, что водные процедуры для человека – первейшее дело. Свою мысль Жердев подкреплял всякими историческими примерами, начиная еще с античных времен.
– Христос своим ученикам сам ноги мыл! – говорил он, размахивая ножом, заменявшим ему и ложку, и вилку. – Неряхи они, наверное, были редкие… И Понтий Пилат, когда его совесть окончательно замучила, побежал руки мыть. Наверное, до этого имел неосторожность поручкаться с кем-нибудь из местных первосвященников… Нет, умыться спозаранку – первейшее дело! Недаром в народе говорят, что только медведь не умываясь живет…
– Говорят и по-другому, – многозначительно заметила Верка. – Не взяла личиком, так не возьмешь и умыванием.
– Ерунда! – Жердев безо всякого усилия расколол ножом деревянную солонку.
– Лучше чистюля-дурнушка, чем неряха-красавица… Я, между прочим, когда пацаном был, регулярно в баню наведывался. Компания у нас такая была – я, мой папаша, царство ему небесное, и Сергей Миронович Киров. Веселый был мужик, заводной… Как сейчас его помню. Всегда с портфелем ходил, в галифе и красивых сафьяновых сапогах, кстати говоря, постоянно грязных… В тот день, когда его убили, мы как раз и собирались в баню, – Жердев вдруг пригорюнился. – Нда-а… А помыли его совсем в другом месте. Сутки спустя и моего папашу застрелили. Тоже из браунинга и тоже в затылок… Лежит сейчас на главной аллее Пискаревского кладбища. Как зайдешь, сразу налево. На могиле всегда цветы. Черный мрамор, бронзовый бюст и надпись: «Здесь покоится стойкий борец за дело рабочего класса балтийский матрос Иван Жердев». Нет, не могу вспоминать без слез! – Он вскочил и, хлопнув дверью, удалился в сторону сарая, торчавшего на задворках поместья.
– Его папаша, кстати говоря, приезжал в Талашевск сыночка проведать, – внес ясность Смыков. – Что он балтийский матрос, так это точно. Когда трезвый бывал, клял эсеров за то, что они его обманули во время кронштадтского мятежа. А по пьянке за то же самое большевиков грязью поливал. Тот еще был старик. Но телосложением сыну не уступал. Даже в чем-то и превосходил.
Жердев вернулся уже совсем в другом расположении духа, и даже хромота его, похоже, на время пропала.
– А хотите послушать, как меня Крупская в пионеры принимала? – с ходу предложил он.
– Времени, знаете ли, в обрез, – начал отнекиваться Смыков.
– Да ерунда! Я вас куда хочешь доставлю. Хоть в Лимпопо, хоть в Баламутье, хоть к черту на рога! Заодно расскажу, как я на Курской дуге три фрицевских танка бутылками сжег.
– Бутылки-то, поди, с портвейном были? – Верка прикинулась наивной дурочкой.
– Почему с портвейном? – удивился Жердев. – Со специальной зажигательной смесью. Ее еще потом «коктейлем Молотова» назвали. Две бутылки из-под водки были, одна пивная. Как сейчас помню.
– За такой подвиг вас к званию героя должны были представить, – заметил Смыков.
– Совершенно верно! Да вся беда в том, что я в разгар боя тяжелое ранение получил. Осколочное, в голову. – Он опять продемонстрировал шрам, который все видели накануне. – Плюс ко всему еще и засыпало меня. Только через трое суток саперы совсем из другой дивизии откопали… Вот и приписали мой подвиг постороннему человеку. Ефрейтору Миркису, может, слыхали про такого? Он позже детским писателем стал… Нет? Жаль. А на самом деле он никакой не герой и не писатель, а самый обыкновенный педераст. И жил он в то время с начальником штаба нашего полка. Вот тот и накатал на своего дружка представление в наградную комиссию. А меня с носом оставили. Весь фронт эту историю знал. После этого я от обиды и подался в повара, тем более что Курочкин меня давно к себе звал… Эх, попробовали бы вы мой бигос или суп-пюре из шампиньонов! А впрочем, чего это я разболтался! Соловья баснями не кормят! Один момент. Сейчас угощу вас своим фирменным блюдом. Молочный поросенок жареный в сухарях с хреном. Пальчики оближете.
Никто из членов ватаги не успел ни одобрить эту затею, ни отвергнуть ее, а Жердев, прихватив с собой обрез, уже ковылял через двор – хоть и неуклюже, но быстро и решительно, словно краб, преследующий морского ежа.
– Мало было одного пьяницы, так мы еще и второго нажили, – вздохнула Верка. – А мне он сначала даже понравился.
– А не надо было ему вчера казенный спирт наливать! – не преминул упрекнуть ее Зяблик. – Сама виновата.
Где-то поблизости грохнул выстрел и истошно заквохтали перепуганные куры.
– Надо бы забрать у него на всякий случай оружие, – заметил Цыпф.
– Да он не буйный, – успокоил друзей Смыков. – Забор свернуть или пивной ларек разорить он еще может. Но человека – ни-ни, пальцем не тронет. Дети, между прочим, просто обожали его.
На этот раз Жердев отсутствовал долго – не меньше часа. Выстрелов, правда, больше слышно не было, но сонное оцепенение, прежде царившее в деревне, развеялось. Время от времени до усадьбы доносились жалобные голоса различных домашних животных, бабья перебранка и даже мужской мат. Сразу в нескольких домах затопились печи.
В конце концов ватага стала собираться в путь-дорогу, решив, что подвыпивший Жердев заснул где-нибудь в укромном месте. Однако в самый последний момент он ворвался в дом, таща перед собой завернутый в рогожу полуведерный чугун, в каких сельские жители обычно готовят пойло для скота. Пахло от чугуна довольно аппетитно, хотя вовсе не поросятиной с хреном.
– Петух, тушенный в белом вине! – торжественно объявил Жердев, водружая чугун на середину стола. – Французское национальное блюдо. Когда к нам в страну генерал Де Голль приезжал, я поваров «Метрополя» консультировал относительно рецепта его приготовления… Белого вина здесь, правда, не нашлось, уж извините, но я его бражкой заменил… Почти одно и то же. Вообще сейчас достойное блюдо приготовить практически невозможно… То Кардамона нет, то мускатного ореха, то ванильного сахара, то розового масла… Вот и приходится выкручиваться. И толченая дубовая кора в дело идет, и змеиная желчь, и настой полыни. Настоящий повар в грязь лицом никогда не ударит… Ну, пробуйте! Бабам ножки, чтоб и свои задирали трошки, мужикам грудку, чтоб не проспали побудку, мне крыло, чтоб на молодух вело, а ментам, как всегда, гузка, самая хорошая закуска…
– Но вы ведь нам вроде поросенка с хреном обещали, – напомнила Верка.
– Разве? – удивился Жердев. – А какая разница? Все одно – мясо. Тем более диетическое. Генерал Де Голль петухом не гнушался, а уж такой голытьбе, как вы, грех кочевряжиться.
Стоящий чуть в стороне Смыков приложил палец к губам – дескать, не надо зря раздражать хозяина, находящегося в столь переменчивом состоянии духа. Впрочем, это предупреждение было излишним – огромный нож, так и мелькавший в руках Жердева, невольно внушал всем присутствующим кротость и добронравие.
Петух действительно оказался очень вкусным, хотя бражка не могла в должной мере сойти за белое вино, а капустный рассол не шел ни в какое сравнение с гранатовым соком.
Первым трапезу окончил Цыпф. Сказав, спасибо большое, – он выложил в опустевшую миску два мелких предмета – свинцовую пулю и обломок своего зуба. От радушного предложения остаться на уху ватага деликатно отказалась.
– Куда же вы теперь? – осведомился Жердев. Говорил он по-прежнему связно и действовал осмысленно. О его болезненном (с точки зрения Верки) состоянии свидетельствовали только слезящиеся глаза да красные набрякшие веки.
– Будем поближе к Талашевску пробираться, – сказал Смыков. – Там ведь нынче власть обосновалась?
– Там, там! – подтвердил Жердев. – Зачем вам ноги зря бить столько километров и на какую-нибудь мразь рогатую можно напороться. Я вас в один момент домчу куда желаете. Не сомневайтесь.
Женщины сразу замахали руками, заквохтали как наседки, увидевшие ястреба, еще раз доказывая свое генетическое родство с птицей курицей, зато мужчины призадумались.
– Ездок вы, конечно, отменный, никто не спорит, – сказал Смыков, поглядывая то на Цыпфа, то на Зяблика. – Да уж больно лихой… Скорость, наверное, постоянно превышаете, дорожные знаки игнорируете.
– Какие сейчас знаки, побойтесь Бога! А приличную скорость моя колымага только с горы развивает. Так что за жизнь и здоровье можете не беспокоиться. Буду беречь вас, как куриное яичко. – Жердев, очевидно, припомнил свой давний челночный промысел.
– Только пообещайте, что в дороге спиртное употреблять не станете, – заявила вдруг Верка.
– Вы, дамочка, говорите, да не заговаривайтесь! – обиделся Жердев. – У меня тридцать лет безаварийного стажа! Грамоту от Верховного Совета имел и двенадцать благодарностей от министерства. Во всем районе трезвее меня шофера не было.
– Лично я согласен, – сдался Зяблик. – Проверим, что у тебя лучше получается: машину водить или петуха готовить.
Через полчаса самоходное устройство Жердева, представлявшее собой уродливый гибрид пропашного трактора, мотоцикла и нескольких автомобилей разного класса, сопровождаемое почетным эскортом разъяренных псов, уже катило по узким деревенским улочкам. Хозяйки, выглядывавшие из-за заборов, истово крестились, и по губам их можно было прочесть: «Чур меня, чур меня!»
Машина, которую Жердев ласково называл «колымагой», являла собой доведенный почти до совершенства (или до абсурда) образец технического прагматизма. Все, что непосредственно не касалось вращения колес, маневрирования и торможения, было безжалостно отринуто, в том числе и такие привычные элементы автомобильной конструкции, как рессоры, кабина и кузов.
Сам Жердев восседал на мешке с соломой, а пассажиры вынуждены были цепляться за всякие выступающие детали рамы. Перед тем как тронуться, их предупредили о недопущении резких движений, которые могли нарушить центровку всего устройства.
По ровной дороге колымага делала не больше тридцати-сорока километров в час, но страха на седоков и зрителей наводила не меньше, чем гоночная машина, на предельной скорости несущаяся к финишу. А что касается шума и дыма, производимого колымагой, то здесь она могла переплюнуть даже знаменитый паровоз Стефенсона, в свое время ставший причиной умопомешательства многих достойных британских граждан.
На первом же спуске Жердев извлек из-под своего мешка бутылку с какой-то мутной жидкостью. Предваряя Веркино возмущение, он с самым серьезным видом объяснил:
– Проклятый гастрит замучил. Вот и приходится пить специальный настой, снижающий кислотность.
После нескольких добрых глотков бутылка наполовину опустела, зато скорость колымаги возросла почти вдвое. Зяблик, до того взиравший на Жердева с черной завистью, не выдержал и вцепился в недопитую бутылку.
– У меня тоже кислотность! – прошипел он, словно голодный кот. – Одна изжога от твоего петуха.
– Бывает, – добродушно согласился Жердев. – Видно, я цикуты передал.
– Чего? – удивился Цыпф. – Так ведь это же яд!
– Какой там яд, – Жердев великодушно уступил бутылку Зяблику и махнул освободившейся рукой. – В семенах, может, и есть яд, а корешки очень вкусные. Почти как морковка или сельдерей.
Зяблик тем временем сделал все возможное, чтобы рецепт целебной настойки остался для непосвященных тайной – сама жидкость исчезла в его чреве, а пустая бутылка улетела в кювет.
– Ну что, легче стало? – поинтересовалась Верка, протягивая Зяблику сухарь. – Пропала изжога?