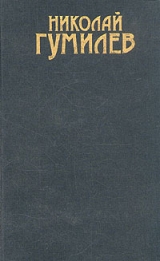
Текст книги "Том 3. Письма о русской поэзии"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
Отсюда парадокс, на который указывает Гумилёв: Гомер мог «оттачивать свои гекзаметры», не заботясь в этот момент «ни о чем, кроме… цезур и спондеев <…> Однако он счел бы себя плохим работником, если бы, слушая его песни, юноши не стремились к военной славе, если бы затуманенные взоры девушек не увеличивали красоту мира <…> Поэт должен возложить на себя вериги трудных форм <…> меж форм обычных <…>, но только во славу своего бога, которого он обязан иметь. Иначе он будет простым гимнастом» (158–159).
Итак, и отвлеченный, возвышенно-эстетический, и грубоутилитарный подходы к искусству одинаково ошибочны и должны быть отброшены. Ибо в поэзии одинаково важны и «слово», и «мысль». Более того, как справедливо заметил О. Уайльд (на которого ссылается Гумилёв), поэзия тем и отличается от других видов искусства, что ей свойственны не только музыка и пластические формы, но «и мысль, и страсть, и одухотворенность» (160).
Но мало того, что Гумилёв стремится диалектически «снять» противоположность между сторонниками «чистого» искусства, подобными Эредиа или Верлену, и теми, кто, подобно Иоанну Дамаскину, видел в искусстве вид пророческого (или, подобно Некрасову, вид гражданского) служения. Он доказывает, что взгляд на искусство как на служение жизни вызывает большее уважение, чем проповедь чистого искусства: «…разве очищение авгиевых конюшен не упоминается рядом с другими подвигами Геракла? В старинных балладах рассказывается, что Роланд тосковал, когда против него выходил десяток врагов. Красиво и достойно он мог биться только против сотни» (159). В этих прекрасных словах отражено свойственное поэзии Гумилёва мужественное настроение: жизнь поэта представляется ему подвигом, требующим постоянной борьбы, усилий и жертв.
Подлинное, достойное этого названия поэтическое произведение представляет поэтому, по Гумилёву, не мертвый механический продукт, а живой организм. Оно так же единственно и неповторимо, как единствен и неповторим каждый живущий на земле живой человек. Подобно человеку, творение истинной поэзии рождается в муках – и только рожденное «в муках, схожих с муками деторождения», «оно может жить века», возбуждать «любовь и ненависть», заставить мир «считаться с фактом своего существования» (160–161).
Не только «Господа Бога люди создали по своему образу и подобию», – повторяет Гумилёв мысль Л. Фейербаха (163). То же самое относится к любому произведению подлинной (а не мнимой) поэзии! Так же, как образ Бога, сотворенный воображением человека, «стихотворение должно являться слепком прекрасного человеческого тела, этой высшей ступени представляемого совершенства». Лишь такое стихотворение «самоценно», «имеет право существовать во что бы то ни стало» (163). Но, имея право на «самоценное» существование, оно должно «„перед самим собой оправдывать свое существование“, как должен его оправдывать человек, спасенный от гибели „экспедицией“, в которой ради его спасения, погибли десятки других людей. <…> Прекрасные стихотворения, как живые существа, входят в круг нашей жизни; они то учат, то зовут, то благословляют; среди них есть ангелы-хранители, искусители-демоны и милые друзья. Под их влиянием люди любят, враждуют и умирают» (163–164).
Таким образом, истинное произведение поэзии, по Гумилёву, насыщено силой «живой жизни». Оно рождается, живет и умирает, как согретые человеческой кровью живые существа, – и оказывает на людей своим содержанием и формой сильнейшее воздействие. Без этого воздействия на других людей нет поэзии. « Искусство, родившись от жизни, снова идет к ней, не как грошевый поденщик, не как сварливый брюзга, а как равный к равному».
Свои теоретические размышления о поэзии как о явлении самой жизни, насыщенном скрытой, могучей внутренней силой и способной оказывать живое, действенное влияние на человека, а подчас и служить ему опорой в труднейших, решающих для него жизненных обстоятельствах, Гумилёв иллюстрирует в статье «Жизнь стиха» творчеством русских поэтов-символистов. Но он, – думается, не случайно – вспоминает при этом и о таких стихотворениях Пушкина, как «Анчар» или «Бедный рыцарь», и о «дивной музыке лермонтовских строк», которые то «ускоряют» развязку «по-русскому тяжелой любви», то «заклинают» или «зачаровывают» героев в произведениях Тургенева, Достоевского, Ф. Сологуба (164). Так устанавливается в статье Гумилёва связь современной ему русской поэзии начала XX в. с великой русской классикой, сохраняющей в глазах автора статьи «Жизнь стиха» значение вечной и непреходящей художественной и духовно-нравственной ценности.
Примечателен в названной статье взгляд Гумилёва на соотношение поэзии и «мысли». В поэзии, утверждает Гумилёв, «чувство рождает мысль». Противоположное явление – стихи И. Анненского, у которого «мысль крепнет настолько, что становится чувством» (166). Отсюда следует, что при возможности различного соотношения в поэзии «чувства и мысли», оба они для Гумилёва – необходимые элементы стиха, рождающегося лишь на основе их объединения. Поэзия – развивает эту мысль Гумилёв далее на примере истории русского символизма – «момент в истории человеческого духа, одно из ее назначений» – «быть бойцом за культурные ценности» (169).
Мы отнюдь не хотим идеализировать позицию Гумилёва, который остается в этой своей статье еще, как во многом, приверженцем круга идей русского символизма, доказавшего, по его утверждению, свою зрелость уверенностью в том, что «мир есть наше представление». Впрочем, достойно внимания, что тогда же в «Письмах о русской поэзии» Гумилёв горячо оспаривает этот тезис, называя Сологуба за верность ему «единственным последовательным декадентом» и показывая, что именно поэтический солипсизм Сологуба обескровил его поэзию, сделав его «поэтом-мистификатором», лишенным способности «рисовать и лепить» (241–242; письмо VII).
И все же приходится признать, что не усвоенные Гумилёвым элементы модной в начале XX в. субъективно-идеалистической теории познания и не повторение традиционных для поэтов и критиков-символистов этой эпохи упреков по адресу Писарева и Горького за их «бесцеремонное» отношение к традиционным культурным ценностям определяют главное содержание его первого критического манифеста, появившегося в «Аполлоне». Наоборот, при сопоставлении статьи «Жизнь стиха» с другими материалами, помещавшимися на страницах этого и других тогдашних модернистских журналов, его мысли о назначении поэта поражают своей трезвостью, лежащим на них отпечатком «здравого смысла», выгодно отличающим их от многих других тогдашних теоретических трактатов, выходивших из-под пера представителей символизма.
Следующим после «Жизни стихов» выступлением Гумилёва – теоретика поэзии – явился его знаменитый манифест, направленный против русского символизма, – «Наследие символизма и акмеизм» (напечатанный рядом с другим манифестом – С. М. Городецкого).
Гумилёв начал трактат с заявления, подготовленного его предыдущими статьями, о том, что «символизм закончил свой круг развития и теперь падает» (171). При этом он – и это крайне важно подчеркнуть – дает дифференцированную оценку французского, немецкого и русского символизма, характеризуя их (это обстоятельство до сих пор, как правило, ускользало от внимания исследователей Гумилёвской статьи) как три разные, сменившие последовательно друг друга ступени в развитии литературы XX в. Французский символизм, по Гумилёву, явился «родоначальником всего символизма». Но при этом в лице Верлена и Малларме он «выдвинул на передний план чисто литературные задачи». С их решением связаны и его исторические достижения (развитие свободного стиха, музыкальная «зыбкость» слога, тяготение к метафорическому языку и «теория соответствий» – «символическое слияние образов и вещей»). Однако, породив во французской литературе «аристократическую жажду редкого и труднодостижимого», символизм спас французскую поэзию от влияния угрожавшего ее развитию натурализма, но не пошел дальше разработки всецело занимавших его представителей «чисто литературных задач».
«Германский символизм» (в качестве родоначальников которого Гумилёв называет Ибсена и Ницше) в отличие от французского не ограничился решением «чисто литературных задач». Он сделал следующий шаг: выдвинул на первое место «вопрос о роли человека в мироздании, индивидуума в обществе». Но при этом скандинавские и немецкие символисты принесли личность в жертву чуждой ей, внешней цели, подчинив ее «догмату» – отвлеченной идее «сверхчеловека» или нравственного долженствования (в духе Канта).
Заключительной, высшей фазой развития европейского символизма стал символизм русский, который «направил свои главные силы в область неведомого», пытаясь сквозь завесу явлений текущей жизни проникнуть в смысл скрытых законов истории и мироздания, найти путь, соединяющий «малую», доступную восприятию человека, и «большую», угадываемую в ее движении, высшую реальность, лишь смутно прозреваемую поэтом, а потому выразимую им лишь путем иносказательного, мифологического истолкования своей жизни и явлений внешнего мира. Отсюда тяга русских символистов к «братанию с мистикой», «теософией», «оккультизмом», устремление к культу иррационального, таинственного, выразимого лишь путем символических уподоблений и ассоциаций (172–174).
Таким образом символизм прошел, по мысли Гумилёва, три стадии, и именно в результате того, что, последовательно пройдя их, символизм испробовал все доступные ему пути, он потенциально исчерпал свои художественные возможности, не открывая для развития поэзии новых, уже не опробованных ею перспектив.
Следует подчеркнуть, что, утверждая, будто символизм закончил свой круг развития, Гумилёв (это очевидно из его писавшихся в 1912– 1913 гг., как и позднейших, статей и рецензий) не ставил крест на творчестве Брюсова, Блока, Вяч. Иванова и других крупных поэтов-символистов (хотя именно так его статья, как и статья Городецкого, были поняты многими старшими современниками, вызвав у них, в частности у Блока, личную обиду и раздражение). Гумилёв стремился в меру своих сил дать объективную историко-литературную оценку символизма, показать внутреннюю закономерность трех охарактеризованных этапов его развития, сменивших друг друга и подготовивших новый его этап. Отсюда и общий вывод Гумилёва о том, что в ходе своего развития символизм исчерпал одну за другой открытые им перед развитием поэтического творчества возможности и перспективы. И в этой критико-аналитической своей части статья-манифест Гумилёва, думается, заслуживает от исследователей русского, французского и немецкого символизма более серьезного внимания, чем ей привыкли уделять те историки литературы у нас и за рубежом, которые рассматривали и рассматривают ее до сих пор лишь в свете утверждаемой в ней Гумилёвым литературной программы той поэтической молодежи, объединенной в Цехе поэтов, выразителем идей и настроений которой он себя сознавал.
Следует также подчеркнуть, что, утверждая программу акмеизма как поэтического направления, призванного историей сменить символизм, Гумилёв чрезвычайно высоко оценивает поэтическое наследие символистов, призывая своих последователей учесть неотъемлемые достижения символистов в области поэзии и опереться на них в своей работе – преодоления символизма, – без чего акмеисты не смогли бы стать достойными преемниками символистов.
Наиболее уязвима и противоречива в статье-манифесте Гумилёва была позитивная ее часть. Гумилёв стремился освободить поэзию от слиянности субъективных образов и вещей, направив ее к предметности, конкретности и жизненности, знаменем которых в его глазах было творчество Вийона, Рабле и Шекспира. К этим трем именам он присоединяет имя Т. Готье как художника, влюбленного в искусство слова, исполненного веры в его безграничные возможности, отыскавшего для выражения жизни в искусстве «достойные одежды безупречных форм» (176). Отсюда призыв Гумилёва освободить поэта от несвойственной ему задачи «познания Бога» и, не пытаясь, по примеру символистов, познать непознаваемое, предпочесть «детски-мудрое, до боли сладкое ощущение» (175) прелести и полноты земного, посюстороннего мира, включающего в себя как эстетически равные друг другу ценности «и Бога, и порок, и смерть, и бессмертие» (176). При этом Гумилёв отчасти, может, сам вполне не сознавая, как уже отмечено выше, вольно или невольно рвет с наиболее коренной, принципиальной основой русской классической поэзии, которая, хотя и в преображенном виде, продолжала составлять жизненный нерв стихотворений Блока и других лучших произведений поэтов-символистов. Пушкинские формулы «поэта-эха», «поэта-пророка» сменяются в эстетике Гумилёва 10-х годов образом поэта, хотя и «причастного» «мировому ритму» (173), но отказывающегося от права быть его художественным выразителем. Критикуя «неврастению» и мистические идеалы поэтов-символистов, Гумилёв обращается к своим последователям с призывом смотреть ясно в глаза жизни, относясь с любовью к «самоценности» каждого явления, довольствуясь отчетливым его поэтическим изображением. Объективно это могло стать путем к примирению с тем «страшным миром», против которого восставал и который не принимал Блок.
Нужно сказать и о том, что, призывая освободить поэзию от служения «Прекрасной Даме Теологии» (175) и обратить ее в первую очередь к изображению земного мира, Гумилёв в значительной степени остается эклектиком, «акмеистические» идеи которого представляют собой во многом смесь популярных идей его русских и иностранных предшественников и современников. Так, в провозглашаемой им необходимости утвердить свободный эстетический идеал в качестве высшей этики художника легко прослеживается влияние О. Уайльда, а в его призывах к поэту почувствовать себя «немного лесным зверем» (174) и в убеждении, что к «общественности» ведет путь через развитие индивидуализма в «высшем» его напряжении (174), ощущаются отзвуки идей Ибсена и Ницше. Да и в своей чисто поэтической программе Гумилёв во многом, как видно из его манифеста и из его поэзии 10-х годов, зависим от старших современников, в частности от Брюсова, Блока и Кузмина. От первого он усвоил идею «классической» полновесности поэтической речи, изысканной стройности композиции стихотворения (определяющих, как он не раз будет писать в своих статьях, силу «внушаемости» поэтического слова), присущее стихам Гумилёва стремление к сжатости, яркой изобразительности, ощущение себя живущим в потоке мировой истории, напоминающей о себе поэту своими широкими, беспредельными географическими горизонтами и классическими, традиционными историческими образцами любовного чувства и героических деяний, от второго – идею мужественности художника перед лицом жизни и ее тайн, от третьего – провозглашенную в 1910 г. Кузминым идею «кларизма» – беззаботной и легкой «поэтической ясности», основанной на умении ощущать ничем не замутненное очарование быстро преходящих жизненных мелочей. Кроме того, бесспорно существенное и неоспоримое влияние на формирование и художественной программы акмеизма, и творчества представителей этого направления русской поэзии имели живопись и графика (а также художественно-театральная деятельность) художников «Мира искусства» и последующих художественных направлений России начала XX в. Об этом свидетельствуют не только ранние статьи Гумилёва о живописи или участие его и других поэтов-акмеистов в «Аполлоне» С. К. Маковского (где уделялось пристальное внимание Рериху, Серову, Сомову, Баксту, Сапунову, Судейкину, Головину и другим близким им художникам, многие из которых участвовали в журнале и были членами его редакционного кружка), но и «Поэма без героя» А. Ахматовой – поэма, представляющая собой замечательный художественный памятник жизненным и художественным увлечениям поэтической и театральной молодежи той поры – поры, которую Мандельштам в более ранней статье, написанной во времена, когда он еще не сознавал столь ярко и проникновенно выраженную Ахматовой трагедию поэтов своего поколения, беззаботно-радостно охарактеризовал как «утро акмеизма».
Последние три теоретико-литературных опыта Гумилёва – «Читатель» , «Анатомия стихотворения» и трактат о вопросах поэтического перевода, написанный для коллективного сборника статей «Принципы художественного перевода», подготовленного в связи с необходимостью упорядочить предпринятую по инициативе М. Горького издательством «Всемирная литература» работу по переводу огромного числа произведений зарубежной классики и подвести под нее строгую научную основу (кроме Гумилёва в названном сборнике были напечатаны статьи К. И. Чуковского и Ф. Д. Батюшкова, литературоведа-западника, профессора), отделены от его статей 1910–1913 гг. почти целым десятилетием. Все они написаны в последние годы жизни поэта, в!917–1921 гг. В этот период Гумилёв мечтал, как уже было замечено выше, осуществить возникший у него ранее, в связи с выступлениями в Обществе ревнителей русского слова, а затем в Цехе поэтов, замысел создать единый, стройный труд, посвященный проблемам поэзии и теории стиха, труд, подводящий итоги его размышлениям в этой области. До нас дошли различные материалы, связанные с подготовкой этого труда, который Гумилёв собирался в 1917 г. назвать «Теория интегральной поэтики», – общий его план и «конспект о поэзии» (1914 ?), представляющий собой отрывок из лекций о стихотворной технике символистов и футуристов.
Статьи «Читатель» и «Анатомия стихотворения» частично повторяют друг друга. Возможно, что они были задуманы Гумилёвым как два хронологически различных варианта (или две взаимосвязанные части) вступления к «Теории интегральной поэтики». Гумилёв суммирует здесь те основные убеждения, к которым привели его размышления о сущности поэзии и собственный поэтический опыт. Впрочем, многие исходные положения этих статей сложились в голове автора раньше и были впервые более бегло высказаны в «Письмах о русской поэзии» и статьях 1910–1913 гг.
В эссе «Анатомия стихотворения» Гумилёв не только исходит из формулы Кольриджа (цитируемой также в статье «Читатель»), согласно которой «поэзия есть лучшие слова в лучшем порядке» (185, 179), но и объявляет ее вслед за А. А. Потебней «явлением языка или особой формой речи» (186). Однако, несмотря на свойственные этой статье рассудочность и ее доктринерский тон (которые были болезненно восприняты Блоком и вызвали с его стороны глубоко ироническое отношение), нетрудно убедиться, что мысль Гумилёва и здесь по своему основному направлению чужда того «бездушного» формализма и догматизма, в которых упрекал его Блок. «Всякая речь обращена к кому-нибудь и содержит нечто, относящееся как к говорящему, так и к слушающему <…>» (там же), – пишет Гумилёв, развивая мысль о поэзии как «особой форме речи». Гумилёв подчеркивает, что поэзия представляет собой акт межчеловеческого общения, несет в себе эмоциональный и смысловой заряд, равно как и «некоторое волевое начало» (там же). А потому поэтика, по Гумилёву, отнюдь не сводится к поэтической «фонетике», «стилистике» и «композиции», но включает в себя учение об «эйдологии» – о традиционных поэтических темах и идеях. Своим главным требованием акмеизм как литературное направление – утверждает Гумилёв – «выставляет равномерное внимание ко всем четырем разделам» (187–188). Ибо, с одной стороны, каждый момент звучания слова и каждый поэтический штрих имеют выразительный характер, влияют на восприятие стихотворения, а с другой – слово (или стихотворение), лишенное выразительности и смысла, представляет собою не живое и одухотворенное, а мертворожденное явление, ибо оно не выражает лик говорящего и вместе с тем ничего не говорит слушателю (или читателю).
Сходную мысль выражает статья «Читатель». «Поэзия для человека, – пишет здесь Гумилёв, – один из способов выражения своей личности при посредстве слова <…>». И далее, сопоставляя поэзию с религией, он утверждает, что «м та, и другая требуют от человека духовной работы» (курсив мой. – Г. Ф.), являются «руководством» к «перерождению человека в высший тип». Различие же между ними состоит в том, что «религия обращается к коллективу», а поэзия – к каждой отдельной личности, от которой требует «усовершенствования своей природы». Поэт, понявший «трав неясный запах», хочет, чтобы то же стал чувствовать и читатель. Ему надо, чтобы всем «была звездная книга ясна» и «с ним говорила морская волна». Поэтому поэт в минуты творчества должен быть «обладателем какого-нибудь ощущения, до него неосознанного и ценного. Это рождает в нем чувство катастрофичности, ему кажется, что он говорит свое последнее и самое главное, без познания чего не стоило земле и рождаться. Это совсем. особенное чувство, иногда наполняющее таким трепетом, что оно мешало бы говорить, если бы не сопутствующее ему чувство победности, сознание того, что творишь совершенные сочетания слов, подобные тем, которые некогда воскрешали мертвых, разрушали стены» (177– 178).
Последние слова приведенного фрагмента непосредственно перекликаются с цитированным стихотворением «Слово», проникнуты тем высоким сознанием пророческой миссии поэта и поэзии, которое родилось у Гумилёва после Октября, в условиях высшего напряжения духовных сил поэта, рожденного тогдашними очищающими и вместе с тем суровыми и жестокими годами.
Заключая статью, Гумилёв анализирует разные типы читателей, повторяя свою любимую мысль, что постоянное изучение поэтической техники необходимо поэту, желающему достигнуть полной поэтической зрелости. При этом он оговаривается, что ни одна книга по поэтике (в том числе и задуманный им трактат) "не научит писать стихи, подобно тому, как учебник астрономии не научит создавать небесные светила. Однако и для поэтов она может служить для проверки своих уже написанных вещей и в момент, предшествующий творчеству, даст возможность взвесить, достаточно ли насыщено чувство, созрел образ и сильно волнение, или лучше не давать себе воли и приберечь силы для лучшего момента ", ибо «писать следует не тогда, когда можно, а когда должно» (182–183).
В статье о принципах поэтического перевода (1920) Гумилёв обобщил свой опыт блестящего поэта-переводчика. Тончайший мастер перевода, он обосновал в ней идеал максимально адекватного стихотворного перевода, воспроизводящего характер интерпретации автором «вечных» поэтических образов, «подводное течение темы», а также число строк, метр и размер, характер рифм и словаря оригинала, свойственные ему «особые приемы» и «переходы тона». Эта статья во многом заложила теоретический фундамент той замечательной школы переводчиков 20-х годов, создателями которой явились Гумилёв и его ближайший друг и единомышленник в области теории и практики художественного перевода М. Л. Лозинский. Особый интерес представляет попытка Гумилёва определить «душу» каждого из главнейших размеров русского стиха, делающую его наиболее подходящим для решения тех художественных задач, которые поэт преследует при его употреблении.
3
Живя в 1906–1908 гг. в Париже, Гумилёв широко приобщается к французской художественной культуре. До поездки в Париж он, по собственному признанию в письме к Брюсову, недостаточно свободно владея французским языком, был сколько-нибудь полно знаком из числа французскоязычных писателей лишь с творчеством Метерлинка (да и того читал преимущественно по-русски). В Париже Гумилёв овладевает французским языком, погружается в кипучую художественную жизнь Парижа. Вслед за Брюсовым и Анненским он берет на себя миссию расширить и обогатить знакомство русского читателя с Французским искусством и поэзией, постепенно продвигаясь в ее изучении от творчества своих современников и их ближайших предшественников – поэтов-символистов и парнасцев – до ее более отдаленных истоков.
В статьях «Выставка нового русского искусства в Париже» и «Два салона» (1907–1908) Гумилёв одним из первых в России приветствует искусство П. Гогена, которого он сочувственно сопоставляет с Н. К. Рерихом: «Оба они полюбили мир первобытных людей с его несложными, но могучими красками, линиями, удивляющими почти грубой простотой, и сюжетами, дикими и величественными, и, подобно тому, как Гоген открыл тропики, Рерих открыл нам истинный север – такой родной и такой пугающий» (423). В восхищении «глубоко индивидуальным и гениально простым» искусством Гогена, его уходом от европейской культуры, стремлением художника отыскать под тропиками образ «первобытно величавой, радостно любящей и безбольно рождающей женщины», какой она является «наивному взору дикаря», смотрящего на нее «влюбленным взглядом» (426), предвосхищены многие черты будущей поэзии Гумилёва. Русский поэт высоко оценивает также живопись А. Руссо, П. Синьяка, испанца Зулоаги, графику А. Вебера, а из числа представленных в «Салоне Национального общества искусств» скульптур – работы О. Родена и Р. Бугатти. Более сдержанно, чем к Гогену и А. Руссо, относится Гумилёв к Сезанну, недостатком работ которого поэт усматривает то, что французский живописец, хотя и «взялся за открытие новых путей для искусства», «затворившись в своей мастерской», но умер «в конце своей подготовительной работы» (426). Интересен для характеристики эстетики самого Гумилёва так же, как суждения о Гогене, отзыв его об «архитектурных фантазиях» Ф. Гара, рождающих, по словам поэта, «неведомый трепет новой близости к природе, который не знали наши предки» (429). Описание картины «Вечер» из этой серии Гара (в статье «Два салона») своим поэтическим настроением напоминает лучшие стихотворения раннего Гумилёва.
Гумилёв считал, что пути развития русского и французского искусства в начале XX в. имели между собой немало общего. И там, и здесь наряду с присутствием «декадентов» Гумилёв отмечал присутствие провозвестников нового «ренессанса» – «новаторов, которые идут к будущему»: «Как Микула Селянинович, – писал о художниках такого типа Гумилёв, – близки они к духу земли; как Вольга Святославович, живут стремлением к далеким и сказочным странам. Их творчество можно отличить уже тем, что их творчество богато приемами, разнообразно по темам, является микрокосмом и органическим целым, способным производить живое потомство „ (430). К числу таких живописцев-“новаторов», родственных по настроению ему и другим поэтам-акмеистам, Гумилёв в первую очередь относит Рериха, противопоставляя его как «глубоко национального художника», обращенного к будущему, Сомову и Бенуа – представителям "не нашего поколения , которые – при всей своей «могучей технике и „совершенном вкусе“ – уже успели сказать свое слово в русском искусстве начала века (там же).
В 1908 г. Гумилёв печатает в газете „Речь“ статью „О Верхарне“ в связи с выходом на русском языке драмы бельгийского поэта-символиста „Монастырь“ в переводе Эллиса (Л. Д. Кобылинского). В статье ему удалось дать весьма лаконичное и в то же время достаточно полное и точное представление не только об этой драме, но и фигуре Верхарна – фигуре поэта-»бойца", певца современной жизни, сумевшего принять и поэтически «прославить» ее в ее острых и непримиримых противоречиях (382). В последующих статьях и рецензиях конца 1900-х-начала 1910-х годов. Гумилёв возвращается к французской поэзии – прошлой и современной – в рецензии на книгу переводов В. Брюсова «Французские лирики XIX века» (где в связи с оценкой переводов Брюсова он сжато и образно излагает свою оценку тех поэтов, стихи которых были включены в брюсовскую антологию) и в небольшой статье, посвященной творчеству французского поэта-символиста Ф. Вьеле-Грифена. В статье этой важны и характерны для Гумилёва указания на особую конкретность и точность Грифена в пользовании поэтическим словом и на то, что природа, которую он любит «могучей и трогательной любовью», для него «не только пейзаж, но такое же действующее лицо, как и люди» (395). Любопытна и констатация критиком того факта, что Грифен как поэт «многим обязан народной поэзии» (396), позднее, в 1921 г., Гумилёв посвятит красоте и свободному веселью французской средневековой народной песни один из последних, наиболее глубоких и ценных своих историко-литературных опытов.
Самая крупная работа Гумилёва 10-х годов, посвященная французской поэзии, – очерк «Теофиль Готье» (1911), напечатанный в качестве предисловия к переведенному Гумилёвым сборнику стихотворений Готье «Эмали и камеи» (1914). В очерке этом Гумилёв показал себя превосходным знатоком истории французской поэзии, художественной прозы и театра XIX в. Он не только внимательно исследовал творческий путь Готье, который привел его от участия в романтическом движении 30-х годов к утверждению «идеала жизни в искусстве и для искусства», что сделало Готье вождем и идеологом поколения французских поэтов-парнасцев, но и ввел поэзию Готье в более широкий общий контекст развития французской поэзии вплоть До начала XX в. Как явствует из заключительной части очерка, Готье (вопреки широко распространенному стереотипу) не был для Гумилёва провозвестником и апологетом того узкоэстетического отношения к миру, которое Готье выразил в знаменитом стихотворении «Искусство», переведенном Гумилёвым на русский язык:
Все прах! Одно, ликуя,
Искусство не умрет.
Статуя
Переживет народ.
Что перевод этот, хотя долгое время он рассматривался, а нередко рассматривается и до сих пор как изложение поэтической программы Гумилёва (и шире – акмеистического литературного движения в целом), не отражает реально присущего Гумилёву более сложного понимания объективного смысла поэзии Готье, отчетливо говорит итоговая оценка, которую Гумилёв, заканчивая свой очерк, дает герою. Русский поэт рассматривает здесь Готье как своеобразного поэта-энциклопедиста, завершителя целой поэтической традиции, которая, высоко оценивая искусство поэзии, видела в ней, однако, не силу, стоящую над жизнью, а силу самой жизни – необозримый по содержанию мир, рожденный ею и в то же время обладающий своими собственными специфическими внутренними закономерностями: «Он последний верил, что литература есть целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и он чувствовал себя гражданином этого мира. Он не подразделял его на высшие и низшие касты, на враждебные друг другу течения. Он уверенной рукой отовсюду брал, что ему было надо, и все становилось чистым золотом в этой руке. Классик по темпераменту, романтик по устремлениям, он дал нам незабываемые сцены в духе поэзии „озерной школы“, гетевского склада размышления о жизни и смерти, меланхолические и шаловливые картинки XVIII века. Его роман „Капитан Фракасс“ – один из лучших образцов французской прозы по выдержанности языка и великолепию картин – написан по фабуле чуть ли не „Romans populaires“. В его пьесах брызжущее остроумие и горячность романтизма уложились в рамки мольеровских комедий. В его стихах смелость образов и глубина переживаний только оттеняются эллинской простотой их передачи. В литературе нет других законов, кроме закона радостного и плодотворного усилия, – вот о чем всегда должно нам напоминать имя Теофиля Готье» (394).








