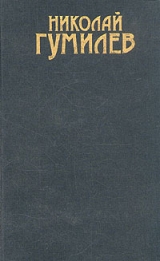
Текст книги "Том 3. Письма о русской поэзии"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Записка об Абиссинии
Прапорщик 5-го Гусарского
Александрийского полка
Российской Армии
Гумилев
Записка относительно могущей представиться
возможности набора отрядов добровольцев
для французской армии в Абиссинии
По своему политическому устройству Абиссиния делится на известное число областей: Тигрэ, Гондар, Шоа, Улиамо, Уоло, Галла Арусси, Галла Коту, Харрар, Да-накиль, Сомади и т. д.
Население Тигрэ составляет 2 000 000 жителей. Это превосходные воины, но к несчастью очень независимого и буйного нрава. К тому же, многие из них мусульмане и питают мало сочувствия к итальянцам.
В Гондаре и Шоа живет население от шести до семи миллионов чистокровных абиссинцев, почти сплошь православных и обладающих следующими качествами: духом дисциплины и подчинения вождям; храбростью и стойкостью в бою (это победители итальянцев); выносливостью и привычкой к лишениям – до такой степени, что человек опережает лошадь на пробеге в 30 километров и что при переходах, длящихся несколько недель, каждый человек несет на себе запас провианта необходимый для его прокормления. Будучи горцами, они способны выносить самый суровый климат.
Племена Улиамо и Уоло – это покоренные абиссинцами негры. Из них выходят хорошие воины, но они скорее годятся для обозных и санитарных частей. В эту же категорию можно отнести племя Галла Коту.
Племя Галла Арусси обладает теми же качествами, что и абиссинцы, и вдобавок гигантским ростом и атлетическим сложением. Данакильцы, сомалийцы и часть харраритов храбры, ловки и воинственны, но с трудом подчиняются дисциплине. Их можно было бы использовать для образования отрядов разведчиков, чистильщиков окопов и тому подобных заданий.
Помимо того, в Абиссинии имеются очень хорошие лошади и мулы. Средняя цена лошади равнялась до войны 25 франкам, а мула – 100 франкам. Всегда можно было бы получить несколько тысяч этих животных для военных надобностей.
Политическая обстановка в Абиссинии следующая: страна управляется императором (в данный момент – императрицей, которой помогает знакомый мне князь, 'рас Тафари, сын раса Маконена) и советом министров. Кроме того, в каждой области имеется почти независимый губернатор и ряд вождей при нем.
Чтобы начать набирать вождей с отрядами от 100 до 500 человек, необходимо получить разрешение от центрального и областных правительств. Расходы составят несомненно меньшую сумму, чем в такого же рода экспедициях в других частях Африки, благодаря легкости сообщений и воинственному нраву жителей.
Я побывал в Абиссинии три раза и в общей сложности провел в этой стране почти два года. Я прожил три месяца в Харраре, где я бывал у раса (деджача) Тафари, некогда губернатора этого города. Я жил также четыре месяца в столице Абиссинии, Аддис-Абебе, где познакомился со многими министрами и вождями и был представлен ко двору бывшего императора российским поверенным в делах в Абиссинии. Свое последнее путешествие я совершил в качестве руководителя экспедиции, посланной Российской Академией Наук.
Поэзия Бодлера
Теперь несомненно, что Бодлер один из величайших поэтов XIX века и во всяком случае наиболее своеобразный. Это конечно не значит, что он был чужд каких-либо влияний, тогда он не был бы великим, нет, просто эти влияния были настолько разнообразны и в то же время так глубоко восприняты и целостно слиты, что создали поэтическую индивидуальность, подарившую миру «новый трепет» (выраженье Виктора Гюго). Из французов его учителями были Сент-Бев и Теофиль Готье. Первый научил его находить красоту в отверженном поэзией, в природных пейзажах, сценах предместий [?], в явлениях жизни обычной и грубой; второй одарил его способностью самый неблагородный материал превращать в чистое золото поэзии, уменьем создавать фразы широкие, ясные и полные сдержанной энергии, всем разнообразьем тона, богатством виденья. Влиянье этих двух мэтров на Бодлера было настолько сильно, что его по справедливости причисляют к романтикам, мненье» которое разделял и он сам. Затем его сверстник и друг Теодор де Банвиль в своих «Клоунских Одах» задумал путем примененья неожиданных рифм создать новый род комического и этим натолкнул Бодлера на работу над редкими и новыми рифмами, что конечно отразилось на причудливости и изысканности его стиля.
С другой стороны, воспитывавшийся в Англии, превосходно знавший английский язык, Бодлер и там нашел близкие ему творческие умы. Не говоря уже о Байроне, этом кумире французского (так же как и русского) романтизма, впрочем, подарившем Бодлеру лишь поверхностно воспринятые последним темы мятежа и гордого отчаянья, Томас де Куниели и Эдгар По, поэты потайные и в свое время мало оцененные, оказали на него большое влиянье. Они научили Бодлера особенности англо-саксонского воображенья, уменью соединять, не смешивая, ужасное с прекрасным, нежное с жестоким, райское с адским, как в поэме Мильтона. Это от них в поэзии Бодлера появились такие великолепные черные тона, счастье ужаса, блаженство отчаянья, радость неосуществимого желанья, и вторая их особенность, образность пышная, причудливая, пьяная, поддерживаемая парами опиума и алкоголя, столько же, сколько филологическим гурманством.
Между этими двумя влияниями – французским, полным ясности чистоты линий и латинской гармонии, и английским, над которым еще бродят черные тучи Нибелунгов, поэзия Бодлера подобна закатному небу, где борьба света и тени порождает на мгновенье храмы и башни нашей истинной родины, лица тех, кого мы могли бы действительно полюбить, лиловые моря, в которых бы мы утонули, благословляя смерть.
Однако, не одно случайное сочетание влияний создало Бодлера таким, как он есть, этому были и другие причины. Девятнадцатый век, так усердно унижавшийся и унижаемый, был по преимуществу героическим веком. Забывший Бога и забытый Богом человек привязался к единственному, что ему осталось, к земле, и она потребовала от него не только любви, но и действия. Во всех областях творчества наступил необыкновенный подъем. Люди точно вспомнили, как мало еще они сделали, и приступили к работе лихорадочно и в то же время планомерно. Таблица элементов
Менделеева явилась только запоздалым символом этой работы. – «Что еще не открыто?» – наперебой спрашивали исследователи, как когда-то рыцари спрашивали о чудовищах и злодеях, и наперебой бросались всюду, где оставалась хоть малейшая возможность творчества. Появился целый ряд новых наук, прежние получили неожиданное направление. Леса и пустыни Африки, Азии и Америки открыли свои вековые тайны путешественникам, и кучки смельчаков, как в шестнадцатом веке, захватывали огромные экзотические царства. В недрах европейского общества Лассалем и Марксом была открыта новая мощная взрывчатая сила – пролетариат. В литературе три великие теченья, романтизм, реализм и символизм, заняли место наряду с веками царившим классицизмом.
Бодлер к поэзии отнесся, как исследователь, вошел в нее, как завоеватель. Самый молодой из романтиков, явившийся, когда школа уже наметила свои вехи, он совершенно сознательно наметил себе еще не использованную почву и принялся за ее обработку, создав для этого специальные инструменты. Вот что он сам говорит об этом в своих проектах предисловия к Цветам Зла: «Знаменитые поэты уже давно поделили самые цветущие области царства поэзии. Мне показалось забавным и приятным, тем более, что задача была трудной, извлечь Красоту из Зла. Эта книга, глубоко бесполезная и вполне невинная, написана только для моего развлечения и упражнения моей страстной любви к препятствиям...» «Рядом определенных усилий артист может возвыситься до стройной оригинальности; поэзия приближается к музыке просодией, корни которой уходят в человеческую душу глубже, чем это указывает любая классическая теория; поэт, который не знает точно, сколько каждое слово имеет рифм, не способен выразить какую-либо идею; поэтическая фраза может представить (и этим она близка к музыкальному искусству и математической науке) горизонтальную линию, линию прямую восходящую, линию прямую нисходящую... Может виться спирально, описывать полукруг или зигзаг; поэзия сближается с искусствами живописным, кулинарным и косметическим благодаря возможности выразить всякое ощущение сладости или горести, блаженства или ужаса соединеньем существительного с прилагательным, аналогичным или противоположенным; опираясь на мои принципы и располагая знаньем, которое я берусь объяснить в двадцать уроков, каждый человек становится способным создать трагедию, которая будет освистана не более, чем всякая другая, или написать поэму достаточной длины, столь же скучную, как любая эпическая поэма...»1
Вот язык, которым никто не говорит до Бодлера, да и после многие ли? Теофиль Готье, Верлен, кто же еще? Однако нельзя считать Бодлера поэтом, преданным исключительно форме, по той простой причине, что такие поэты просто не существуют и не могут существовать. «Поэт формы»! вот слово, которое утилитаристы бросают всегда истинным художникам. Что касается меня, то пока мне не отделят отчетливо в какой-либо фразе ее форму от содержанья, я буду утверждать, что это – два слова, лишенных смысла, подобно тому, как нельзя извлечь из физического тела качества, его образующие, т.е. его цвет, протяженность, плотность, не сведя его к пустой абстракции – одним словом, не уничтожив его, так нельзя отнять форму у идеи, ибо идея существует только в силу своей формы. Невозможно представить себе идею, которая не имела бы формы, так же как нет формы, которая не выражала бы идеи. «Это только куча глупостей, которыми живет критика...» Это отрывок из переписки Флобера. Приблизительно те же мысли в разных местах своих статей высказывает и Бодлер. Может быть даже особенности его тем вызываются чисто формальными особенностями его творческого аппарата, повышенным музыкальным чутьем – он один из первых во Франции оценил Вагнера, – любовью к смешанному словарю, где слова, резко противополагаясь друг другу, приобретают неожиданность и телесность – в этом сказывается его раннее увлеченье вульгарной латынью – стремленьем к сложной композиции «порочных» сюжетов. Ясно, что темы любви, добра и красоты своей банальной мягкостью только притупили бы слишком острые зубцы подобной мельницы.
Странно было бы приписывать Бодлеру все те переживания, которые встречаются в его стихах. Чем тоньше артист, тем дальше его мысль от воплощения ее в действие. Веками подготовлявшийся переход лирической поэзии в драматическую в девятнадцатом веке наконец осуществился. Поэт почувствовал себя всечеловеком, мирозданьем даже, органом речи всего существующего и стал говорить не столько от своего собственного лица, сколько от лица воображаемого, существующего лишь в возможности, чувств и мнений которого он часто не разделял.2 К искусству творить стихи прибавилось искусство творить свой поэтический облик, слагающийся из суммы надевавшихся поэтом масок. Их число и разнообразие указывает на значительность поэта, их подобранность – на его совершенство. Бодлер является перед нами и значительным и совершенным. Он верит настолько горячо, что не может удерживаться от богохульства, истинный аристократ духа, он видит своих равных во всех обиженных жизнью, для него, знающего ослепительные вспышки красоты уже не отвратительно никакое безобразье, весь позор повседневных городских пейзажей у него озарен воспоминаньями о иных сказочных странах. Перед нами фигура одинаково далекая и от приторной слащавости Ростана и от мелодраматического злодейства юного Ришпена. Зато и влиянье его на поэзию было огромно.
Бодлер в действительности не примыкал ни к какой школе и не создал своей. Во Франции его считали то романтиком, то парнасцем, у нас почему-то еще и символистом. Но для того, чтобы быть романтиком, ему не хватало ни культа чувства, ни театрального пафоса, ни характерного многословья. Для парнасцев он был слишком нервен, слишком причудлив, и он говорит не столько о вещах мира, сколько о вызываемых ими ощущеньях. С символистами у него общего только то, что они у него заимствовали, главным образом, утонченная фонетика стиха, но ни ощущенья многопланности бытия, ни желанья дать почувствовать за словами абсолютное у него не было. Чистыми бодлэрианцами оказались только два поэта – Морис Роллина (1846-1903), автор «Неврозов», и бельгиец Иван Жилькен (род. 1858), автор «Ночи». Оба они заимствовали у Бодлера его пессимизм, интерес к проявлениям личной и общественной истерии, любовь к редкому и подчас чудовищному. Роллина кончил как поэт деревни и крестьянства; Жилькен – как обличитель несовершенств социального строя.
Гораздо глубже было влиянье Бодлера на поэтов, вышедших из парнасской школы, чтобы стать вождями символизма. Культ красоты и тоска по бесконечности достались Стефану Маллармэ, Поль Верлен для своих «Сатурнических Поэм» получил в наследство от Бодлера тоску, полную поэтических видений. Почти для всех символистов имя Бодлера было священным. Однако в двадцатом веке, когда в лице Поля Клоделя и Франсиса Жамма наметился во французской поэзии уклон к католицизму и величавой простоте средневекового ощущенья жизни, Бодлеру поставили в вину его интеллектуальность, пессимизм и некоторую манерность, и молодое поколение поэтов отошло от него.
В России влиянье Бодлера испытали два крупнейших представителя новой поэзии, Бальмонт и Брюсов, и множество других менее значительных. Переводился Бодлер тоже много и часто, однако полный перевод его стихотворений (кроме нескольких мелочей, не вошедших в собранье его сочинений), сделанный размерами подлинника, появляется в нашем издании впервые.
1 Charles Baudelaire, Oeuvres posthumes, стр. 17, 18.
2 Эта теория выражена очень ярко, хотя в полупублицистической форме, поэзией Уота [sic!] Уитмэна.
Публикация проф. С. Грэхэм.
Печатается по автографу без даты (ЦГАЛИ 147 1 14). Как видно из примечания, этой статьей должен был открыться первый том сочинений Бодлера в издательстве «Всемирная литература» под редакцией Н. Гумилева. После расстрела Гумилева издательство исключило сборник из своих планов. Гумилев успел перевести для него 15 стихотворений Бодлера и отредактировать еще целых 25. В «Гумилевских чтениях» (Самиздат 1980, Wiener Slawistischer Almanack, Sonderband 15) ошибочно говорится, что предисловие Гумилева «до наших дней не дошло».
«Вестник Русского Христианского Движения». №144. I – II _ 1985








