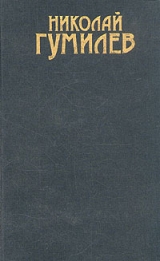
Текст книги "Том 3. Письма о русской поэзии"
Автор книги: Николай Гумилев
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц)
Николай Степанович Гумилев
Сочинения в трех томах
Том 3. Письма о русской поэзии
(Сборник статей)
Содержание
• Г. Фрилендер. Н. С. Гумилёв – критик и теоретик поэзии
• Жизнь стиха
• Наследие символизма и акмеизм
• Читатель
• О современной поэзии
• Анатомия стихотворения
«Письма о русской поэзии». Рецензии на поэтические сборники
• Анненский – критик
• О прозе М. Кузмина
• О рассказах С. Ауслендера
• Драматические произведения Бар. М. Ливен
• Валерий Брюсов. Пути и перепутья
• Федор Сологуб. Пламенный круг
• К. Бальмонт. Только любовь
• Юрий Верховский. Разные стихотворения
• Андрей Белый. Урна
• В. Пяст. Ограда
• Валериан Бородаевский. Стихотворения
• С. Городецкий и др.
• Альманах «Смерть». – Павел Сухотин и и др.
• Журнал «Весы», журнал «Остров»
• К. Фофанов и др.
• Тэффи и др.
• Поэзия В «Весах»
• И. Анненский и др.
• Ф. Сологуб и др.
• И. Бунин, Ю Верховский и др.
• 20 книг стихов: М. Цветаева и др.
• В. Нарбут и др.
• В. Иванов. – Антология «Мусагет»
• «Северные цветы» на год
• Ю. Балтрушайтис и др.
• А. Блок, Н. Клюев, К. Бальмонт и др.
• В. Брюсов и др.
• М. Цветаева и др.
• В. Иванов, Н. Клюев и др.
• А. Блок, М. Кузмин
• С. Городецкий, Вл. Бестужев
• Б. Гуревич и др.
• В. Иванов и др.
• Садок Судей
• «Стихи Нелли», И. Северянин, В. Хлебников, О. Мандельштам, гр. В. Комаровский, И. Анненский, Ф. Сологуб
• С. Городецкий, А. Ахматова, Г. Иванов, В. Ходасевич и др.
• М. Левберг, Т. Чурилин и др.
• Г. Адамович, Г. Иванов, М. Лозинский, О. Мандельштам
• М. Струве. Стая.
• Константин Ляндау. У темной двери
• Два некролога: К. М. Фофанов и В. В. Гофман
Приложения
• Гр. А. К. Толстой
• О Некрасове
• Вожди новой школы
• О стихотворных переводах
• О Верхарне
• О французской поэзии XIX века
• Теофиль Готье
• Вьеле-Гриффен
• Гильгамеш, Вавилонский эпос
• Поэма о старом моряке, С. Т. Кольриджа
• Баллады Роберта Саути
• Французские народные песни
• Выставка нового русского искусства в Париже
• Два салона
• По поводу «салона» Маковского
• Записка об Абиссинии
• Поэзия Бодлера
Г. Фрилендер. Н. С. Гумилёв – критик и теоретик поэзии
1
Николай Степанович Гумилёв был не только выдающимся поэтом, но и тонким, проницательным литературным критиком. В годы, в которые он жил, это не было исключением. Начало XX века было одновременно и порой расцвета русской поэзии, и временем постоянно рождавшихся литературных манифестов, возвещавших программу новых поэтических школ, временем высокопрофессионального критического разбора и оценки произведений классической и современной поэзии – русской и мировой. В качестве критиков и теоретиков искусства выступали в России почти все сколько-нибудь выдающиеся поэты-современники Гумилёва – И. Ф. Анненский, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, А. А. Блок, Вяч. Иванов, А. Белый, М. А. Кузмин, М. Цветаева, В. Ходасевич, М. А. Волошин и многие другие.
Начав свою критическую деятельность в качестве рецензента поэтических книге газете «Речь» в конце 1890-х годов, Гумилёв продолжил ее с 1909 по 1916 г. в журнале «Аполлон». Статьи его, печатавшиеся здесь из номера в номер в разделе журнала «Письма о русской поэзии», составили своеобразный цикл. В нем обрисована широкая картина развития русской поэзии этой поры (причем не только в лице первостепенных ее представителей, но и поэтов второго и даже третьего ряда). В те же годы были опубликованы первые статьи Гумилёва, посвященные теоретическим вопросам русской поэзии и русского стиха, в том числе знаменитая статья «Наследие символизма и акмеизм» (1913) – один из двух главных теоретических манифестов отстаивавшегося Гумилёвым направления в поэзии, за которым надолго закрепилось предложенное им (хотя и мало что говорящее современному читателю) название «акмеизм», – направление, которое Гумилёв и его поэтические друзья и единомышленники стремились противопоставить символизму. Кроме «Аполлона» Гумилёв выступал в качестве критика в органе «Цеха поэтов» – журнале «Гиперборей», «ежемесячнике стихов и критики», который выходил в 1912–1913 гг. под редакцией его друга М. Л. Лозинского (впоследствии известного поэта-переводчика). Наряду с русской поэзией Гумилёв-критик уделял в своих статьях большое место поэзии французской (Т. Готье, Вилье-Грифен и др.; впоследствии – Ш. Бодлер) и бельгийской (Э. Верхарн). После Октября критическая деятельность Гумилёва уступила место популяризаторской, историко-литературной и теоретической. Привлеченный М. Горьким в число сотрудников созданного им в 1918 г. издательства «Всемирная литература», Гумилёв осуществляет для этого и других издательств ряд переводов, пишет к ним вступительные статьи. Одновременно он выступает с лекциями по французской литературе и теоретическим вопросам поэтики, увлекается теорией поэтического перевода.
О литературно-критических статьях и рецензиях Гумилёва в научной и научно-популярной литературе о русской поэзии XX в. написано немало – и у нас, и за рубежом. Но традиционный недостаток едва ли не всех работ на эту тему состоит в том, что они всецело подчинены одной (хотя и достаточно существенной для характеристики позиции Гумилёва) проблеме «Гумилёв и акмеизм». Между тем, хотя Гумилёв был лидером акмеизма (и так же смотрело на него большинство его последователей и учеников), поэзия Гумилёва – слишком крупное и оригинальное явление, чтобы ставить знак равенства между его художественным творчеством и литературной программой акмеизма.
О том, что вопросы о назначении и сущности поэзии всю жизнь тревожили Гумилёва, свидетельствуют его стихотворения разных лет, посвященные темам поэта и поэзии. Уже в 1908 г. он прилагает к письму, адресованному Брюсову, стихотворение «Поэту», причем просит взглянуть на него «„скорее как на рассуждение“ о „конструкции стиха“, чем на стихотворение»1 (так как невысоко ценит его художественные достоинства):
Пусть будет стих твой гибок и упруг,
Как тополь зеленеющей долины,
Как грудь земли, куда вонзился плуг
Как девушка, не знавшая мужчины.
Уверенную строгость береги,
Твой стих не должен ни порхать, ни биться,
Хотя у музы легкие шаги,
Она богиня, а не танцовщица.
И перебойных рифм веселый гам,
Соблазн уклонов легкий и свободный,
Оставь, оставь накрашенным шутам,
Танцующим на площади народной.
И, выйдя на священные тропы,
Певучести пошли свои проклятья,
Пойми, она любовница толпы,
Как милостыни ждет она объятья.
Приведенное стихотворение в значительной мере носит характер подражания поэтическим манифестам Брюсова. В то же время в нем у же достаточно отчетливо звучит один из основных мотивов, положенных Гумилёвым в основу доктрины будущего акмеизма (которому предстояло родиться через пять лет), – отвержение зыбкости и «певучести» стиха символистов, противопоставление им «упругости» и «строгости» поэтической речи, утверждение связи между красотой, свойственной поэзии, и красотой земной жизни, ощущение сопричастности поэта кругу ее явлений (мысль эту Гумилёв будет два года спустя развивать в статье «Жизнь стиха»). Но еще важнее и характернее для Гумилёва-поэта и критика в нем, может быть, убеждение его уже в раннюю пору в том, что поэзия – «богиня, а не танцовщица», служение ей требует от вышедшего на ее «священные тропы» обладания чувством глубокого внутреннего достоинства, ощущения «уверенности» в своих силах и способности свободно ими распоряжаться в соответствии со «строгими» внутренними законами поэзии, которые вытекают из самого ее существа и неподвластны мелкому человеческому своеволию.
Так уже в этом раннем стихотворении Гумилёва соединяются идеи, пожалуй, наиболее важные для всей его критической деятельности, – мысль о высоком назначении поэзии, требующей от поэта сознания достоинства своего дела и высокой взыскательности к себе, представление о том, что поэтическое произведение и по форме, и по содержанию подчинено определенным строгим законам, и наконец, сквозящая в стихах Гумилёва мысль о его учительской миссии как наставника будущих поэтов. Эти идеи стали определяющими для последующих статей и рецензий Гумилёва.
Свою литературно-критическую деятельность Гумилёв начал с рецензий на книги, выходившие в 1908 и последующие годы. По преимуществу это были поэтические сборники как уже признанных к этому времени поэтов-символистов старшего и младшего поколения (Брюсова, Сологуба, Бальмонта, А. Белого и др.), так и начинавшей в те годы поэтической молодежи. Впрочем, иногда молодой Гумилёв обращался и к критической оценке прозы – «Второй книги отражений» И. Ф. Анненского, рассказов М. Кузмина и С. Ауслендера и т. д. Но основное внимание Гумилёва-критика с первых его шагов в этой области принадлежало поэзии: напряженно ища свой собственный путь в искусстве (что, как мы знаем, давалось ему нелегко), Гумилёв внимательно всматривался в лицо каждого из своих поэтов-современников, стремясь, с одной стороны, найти в их жизненных и художественных исканиях близкие себе черты, а с другой – выяснить для себя и строго оценить достоинства и недостатки их произведений.
В рецензиях Гумилёва бросается в глаза его резкое отталкивание от того, что он позднее и в стихах, и в прозе называл литературной «неврастенией» (в которой он настойчиво упрекал символистов). Уже в 1908–1912 гг. молодой поэт решительно заявляет себя сторонником строгой и четкой поэтической формы, провозглашая тезис о том, что культ формы важен не сам по себе, но потому, что забота о ней – свидетельство связи поэта с многовековой поэтической традицией (эта мысль Гумилёва предвосхищает позднейшую аналогичную мысль известного английского поэта Т.-С. Эллиота). Присутствие в литературном творчестве «работы мозга» Гумилёв считает первостепенным моментом; без ее участия «работа нервов», не освещенная светом сознания, представляется ему бесплодной. «Можно ли построить роман не работой мозга, а работой нервов?» – спрашивает он в рецензии на роман А. М. Ремизова «Часы» (1908). И продолжает: «Ремизов своими „Часами“ показывает, что это невозможно. В самом деле теперь, когда так велик наплыв в литературу людей безграмотных и бездарных, но старающихся перещеголять друг друга оригинальностью, истинные творцы должны особенно беречь культ формы, делающий их завоевания не бесплодными и роднящий их с драгоценными заветами старины: и с пластичностью Эллады, и с золотыми молниями романтизма, и с патриархальной простотой натурализма. Мы стосковались по строгому искусству, нас влекут не крикливые афиши современных выставок, а уже испытанные очарования музеев. Мы любим писателей-продолжателей, писателей с длинной родословной».2 В позднейшем отзыве о второй книге стихов М. Кузмина «Осенние озера» (1912) критик утверждает, что «русская поэзия» в XX в. «попрощалась с кустарным способом производства и стала искусством трудным и высоким, как в былые дни своего расцвета».3
Предчувствовавшееся и ожидаемое символистами преображение реальности, как показал наступивший после поражения революции 1905 г. период реакции, обернулось победой «страшного мира». Сознание этой победы совпало для Блока с первыми предощущениями будущей мировой войны, ожидающих страну, человечество новых исторических катастроф и испытаний. В этих условиях для такого мыслящего человека и великого художника, как Блок, остро встал вопрос о том, по каким путям должна развиваться дальше русская поэзия, чтобы быть на высоте задач, поставленных перед нею новым периодом национальной и мировой жизни.
Гумилёву в начале 10-х годов не было свойственно присущее Блоку как национальному поэту чувство приближающихся для России грозных исторических испытаний. Его юношеское заносчивое желание «изменить мир», подобно Будде и Христу,4 постепенно развеялось, сменившись мыслью об иной, значительно более скромной по своим масштабам реформе, ограничивающейся областью поэзии и лежащего в ее основе художественного мироощущения. В основу этой реформы легли мысли, навеянные в какой-то мере уроками В. Я. Брюсова. Однако советы мэтра по-своему были поняты и осмыслены его учеником, который не только признал себя теперь закончившим свои «годы ученичества», но уже решился бросить открытый вызов своему учителю и другим поэтам, творчество которых в 1900-е годы определяло лицо русской поэзии.
«Поэзия бывает исключительно страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни», – писал Пушкин.5 Слова эти в высшей степени хочется отнести к Гумилёву, хотя его поэтическое становление и было необычно замедленным: будучи всего на 6 лет моложе Блока, начав писать стихи в самом начале 1900-х годов (а после 1906г. выпустив один за другим целый ряд поэтических сборников), Гумилёв достиг подлинной поэтической зрелости лишь в последние годы жизни, очистившись и закалившись в суровой обстановке революционной эпохи, когда его поэзия обрела неведомые ей прежде величественность и высокое трагическое звучание, и Гумилёв, которому так долго не удавалось сбросить с себя путы юношеской романтики и груз (осужденного им самим в его ответах на известную составленную К. И. Чуковским анкету об отношении крупнейших поэтов эпохи к Некрасову) «эстетизма»,6 предстал перед своими современниками и потомством в качестве достойного продолжателя высших достижений русской поэзии. Несмотря на непростое, затрудненное развитие его поэтического дара, вопросы поэзии всю жизнь были тем внутренним стержнем, вокруг которого вращалась мысль Гумилёва. И хотя его рецензии и статьи о русской поэзии неравноценны (а иногда изложенные в них мысли более или менее случайны), в них все же просматривается единое направление, единая «генеральная линия».
Выросший и сложившийся в эпоху высокого развития русской поэтической культуры, Гумилёв смотрел на эту культуру как на величайшую ценность и был одушевлен идеей ее дальнейшего поддержания и развития. Причем в отличие от поэтов-символистов идеалом Гумилёва была не музыкальная певучесть стиха, зыбкость и неопределенность слов и образов (насыщенных в поэзии символистов «двойным смыслом», ибо цель их состояла в том, чтобы привлечь внимание читателя не только к миру внешних, наглядно воспринимаемых явлений, но и к миру иных, стоящих за ними более глубоких пластов человеческого бытия), но строгая предметность, предельная четкость и выразительность стиха при столь же строгой, чеканной простоте его внешнего композиционного построения и отделки.
«Россия – молодая страна, и культура ее синтетическая культура, – писал А. А. Блок в 1921 г. в статье „Без божества, без вдохновенья“, в которой великий поэт в последний год своей жизни подвел итоги долгого спора с Гумилёвым. – Русскому художнику нельзя и не надо быть „специалистом“ <…> Так же, как неразлучны в России живопись, музыка, проза, поэзия, неотлучимы от них и друг от друга – философия, религия, общественность, даже – политика. Вместе они и образуют единый мощный поток, который несет на себе драгоценную ношу национальной культуры».7 Защищая эту общую великую историческую традицию русской культуры, Блок страстно упрекал Гумилёва за стремление увести русскую поэзию в сторону от союза с общественностью, превратив ее всего лишь в особый поэтический «цех», в область узко «специальных» интересов. Характеризуя свои настроения периода 10-х годов, когда Гумилёв выступил с первыми статьями и манифестами, в которых заговорил о путях русской поэзии (связывая будущее ее с утверждением собственной, всего лишь «чисто литературной» программой и рассматривая это будущее лишь в свете борьбы литературных школ символизма и акмеизма), Блок указывал, обращаясь к своему оппоненту, что в то время «большинство собеседников Н. Гумилёва (и из них в особенности сам Блок. – Г. Ф. ) были заняты мыслями совсем другого рода: в обществе чувствовалось страшное разложение, в воздухе пахло грозой, назревали какие-то большие события…». Гумилёв же, пытавшийся вслед за Брюсовым вдвинуть поэзию «в какие-то школьные рамки», остался глух, по утверждению Блока, к этим гораздо более важным историческим, философским и общественным настроениям. Поэтому, признавая бесспорную даровитость Гумилёва и некоторых других акмеистов (в первую очередь Ахматовой и Мандельштама), Блок настойчиво предостерегал его против «холодного болота бездушных теорий», которые грозят поэзии поэтической «двухмерностью», опасностью навсегда заслонить «русскую жизнь и жизнь мира вообще».8
Статья Блока, представляющая его поэтическое завещание, была опубликована впервые лишь в 1925 г., четыре года спустя после смерти обоих поэтов. Тем интереснее и знаменательнее то еще, кажется, никем не отмеченное обстоятельство, что ко времени, когда она была написана, Гумилёв в значительной мере успел отойти от того представления о поэзии как о замкнутой самодовлеющей сфере развития культуры, всецело подчиненной своим внутренним законам, от которого поэта столь настойчиво предостерегал Блок, судивший его литературно-критические и теоретические идеи и его поэзию по большому счету.
Отвечая в 1919 г. на известную анкету К. И. Чуковского («Некрасов и мы») о своем отношении к Некрасову, Гумилёв откровенно казнил себя за «эстетизм», мешавший ему в ранние годы оценить по достоинству значение некрасовской поэзии. И вспоминая, что в его жизни была пора («от 14 до 16 лет»), когда поэзия Некрасова была для него дороже поэзии Пушкина и Лермонтова, и что именно Некрасов впервые «пробудил» в нем «мысль о возможности активного интереса личности к обществу», «интерес к революции», Гумилёв высказывал горькое сожаление о том, что влияние Некрасова, «к несчастью», не отразилось на позднейшем его поэтическом творчестве (374).
Этого мало. В последней своей замечательной статье «Поэзия Бодлера», написанной в 1920 г. по поручению издательства «Всемирная литература» (сборник стихов Бодлера, для которого была написана эта статья, остался в то время неизданным), Гумилёв писал о культуре XIX в.: «Девятнадцатый век, так усердно унижавшийся и унижаемый, был по преимуществу героическим веком. Забывший Бога и забытый Богом человек привязался к единственному, что ему осталось, к земле, и она потребовала от него не только любви, но и действия. Во всех областях творчества наступил необыкновенный подъем. Люди точно вспомнили, как мало еще они сделали, и приступили к работе лихорадочно и в то же время планомерно. Таблица элементов Менделеева явилась только запоздалым символом этой работы. „Что еще не открыто?“ – наперебой спрашивали исследователи, как когда-то рыцари спрашивали о чудовищах и злодеях, и наперебой бросались всюду, где оставалась хоть малейшая возможность творчества. Появился целый ряд новых наук, прежние получили неожиданное направление. Леса и пустыни Африки, Азии и Америки открыли свои вековые тайны путешественникам, и кучки смельчаков, как в шестнадцатом веке, захватывали огромные экзотические царства. В недрах европейского общества Лассалем и Марксом была открыта новая мощная взрывчатая сила – пролетариат. В литературе три великие теченья, романтизм, реализм и символизм, заняли место наряду с веками царившим классицизмом».9
Нетрудно увидеть, что Гумилёв здесь в духе призывов Блока (хотя он и не мог читать его статьи) рассматривает развитие мировой культуры XIX в. в «едином мощном потоке», пытаясь обнаружить в движении его отдельных областей связующие их общие закономерности. При этом литература и общественность, путь, пройденный поэзией, наукой и социальной мыслью XIX в., рассматриваются Гумилёвым как часть единой, общей «героической» по своему характеру работы человеческой мысли и творчества.
Мы видим, таким образом, что в последний период жизни Гумилёв вплотную подошел к пониманию того единства и взаимосвязи всех сторон человеческой культуры – в том числе «поэзии» и «общественности», – к которому его призывал Блок. В поэзии Некрасова, как и в поэзии Бодлера, Кольриджа, Соути, Вольтера (и других поэтов, к которым он обратился в последние годы жизни), Гумилёв сумел уловить не только черты, общие с породившей творчество каждого из них эпохой, присутствие в их жизни и поэзии выводящих за пределы мира одного лишь поэтического слова, более широких философских и общественно-исторических интересов. Понимание высокого назначения поэзии и поэтического слова, призванных своим воздействием на мир и человека способствовать преображению жизни, но подвергшихся измельчанию и обесценению в результате трагического по своим последствиям общего упадка и измельчания современной жизни и культуры, Гумилёв выразил с огромной поэтической силой в знаменитом стихотворении «Слово» (вошедшем в сборник «Огненный столп»):
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливало слово,
Словом разрушали города.
И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.
А для низкой жизни были числа
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передает.
Патриарх седой, себе под руку
Покоривший и добро и зло,
Не решаясь обратиться к звуку,
Тростью на песке чертил число.
Но забыли мы, что осиянно
Только слово меж земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это – Бог.
Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.
Таким образом, путь Гумилёва, по существу, вел его от «преодоления символизма» (по выражению В. М. Жирмунского) к «преодолению акмеизма». Однако к последнему этапу этого пути (который оказался высшим этапом в развитии Гумилёва – поэта и человека) он подошел лишь в конце жизни. Маска поэта – «эстета» и «сноба», любителя «романтических цветов» и «жемчугов» «чистой» поэзии – спала, приоткрыв скрытое под нею живое человеческое лицо.
Тем не менее не следует думать, что «позднее» творчество Гумилёва некоей «железной стеной» отделено от раннего. При углубленном, внимательном отношении к его стихотворениям, статьям и рецензиям 1900–1910-х годов уже в них можно обнаружить моменты, предвосхищающие позднейший поэтический взлет Гумилёва. Это полностью относится к «Письмам о русской поэзии» и другим литературно-критическим и теоретическим статьям Гумилёва.
Очень часто кругозор автора «Писем о русской поэзии», как верно почувствовал Блок, был чрезвычайно сужен не только в эстетическом, но и в историческом отношении. Творчество современных ему русских поэтов Гумилёв рассматривает, как правило, в контексте развития русской поэзии конца XIX-начала XX в. В этих случаях вопрос о традициях большой классической русской поэзии XIX в. и их значении для поэзии XX в. почти полностью выпадает из поля его зрения. Повторяя достаточно избитые в ту эпоху фразы о том, что символизм освободил русскую поэзию от «вавилонского пленения» «идейности и предвзятости», Гумилёв готов приписать Брюсову роль своего рода поэтического «Петра Великого», который совершил переворот, широко открыв для русского читателя «окно» на Запад, и познакомил его с творчеством французских поэтов-"парнасцев" и символистов, достижения которых он усвоил, обогатив ими художественную палитру, как свою, так и других поэтов-символистов (235; письмо VI). В соответствии с этой тенденцией своих взглядов Гумилёв стремится в «Письмах» говорить о поэзии – и только о поэзии, настойчиво избегая всего того, что ведет за ее пределы. Но характерно, что родословную русской поэзии уже молодой Гумилёв готов вести не только с Запада, но и с Востока, считая, что историческое положение России между Востоком и Западом делает для русских поэтов одинаково родными поэтический мир и Запада, и Востока (297–298; письмо XVII). При этом в 1912 г. он готов видеть в Клюеве «провозвестника новой силы, народной культуры», призванной сказать в жизни и в поэзии свое новое слово, выражающее не только «византийское сознание золотой иерархичности», но и «славянское ощущение светлого равенства всех людей» (282–283, 299; письма XV и XVII).
Таким образом, было бы ошибочным думать, что в поэзии Гумилёв ценил лишь «технику стиха и поэтический синтаксис», которые он пристально анализировал на примере И. Анненского и других представителей «новых» поэтических течений. У того же Анненского Гумилёва привлекает «круг его идей, который нов и блещет неожиданностью», стремление поэта проникнуть «в самые новые, самые глухие закоулки человеческой души». «Безверье» Анненского Гумилёв связывает с «безверьем» как характерным выражением духовного кризиса эпохи (236; письмо VI). «Литература законно прекрасна, как конституционное государство, – пишет критик в другом своем „письме“, – но вдохновение – это самодержец, обаятельный тем, что его живая душа выше стальных законов» (217–218; письмо II). А начало восьмого из «Писем о русской поэзии» Гумилёв начинает с исторического очерка, где история поэзии под его пером непосредственно сливается с историей общественных настроений; «<…> в начале XIX столетия, – замечает он здесь, – когда, еще под свежим воспоминанием революции, Франция стремилась к идеалу общечеловеческого государства, – французская поэзия тяготела к античности <…>, Германия, мечтая об объединении, воскрешала родной фольклор. Англия <…> нашла выражение общественного темперамента в героической поэзии Байрона» (248). Позднее, обращаясь к Блоку, Гумилёв подчеркивает «лермонтовское» и «некрасовское» начала в его поэзии, страстную любовь Блока к отчизне и его глубокую «человечность». Наряду с «чудотворцем русского стиха» Гумилёв ценит в Блоке поэта, которому свойственны особые внутренняя чистота и своеобразный «шиллеровский» морализм – «нежелание другому зла» (278–280; письмо XV). С большой проницательностью – хотя и не без полемического оттенка к теориям символистов – Гумилёв призывает видеть в блоковской «Прекрасной даме» не «Жену, облаченную в Солнце» и не проявление «Вечной женственности», а «просто девушку, в которую был влюблен поэт», утверждая, что при таком отношении к первой книге стихов Блока она «бесконечно выиграет <…> в художественном отношении» (303–304). При этом особую человеческую красоту и обаяние поэзии Блока он видит в том, что, в отличие от других поэтов, Блок благодаря свойственному его поэзии лирическому автобиографизму отдает людям «не только свои творения, но и самого себя» (303; письмо XIX). У поэтов-акмеистов (В. Нарбута, М. Зенкевича) Гумилёв отмечает как положительную черту отказ от самодовлеющего «эстетизма» старших символистов, ненависть к «бессодержательным красивым словам» и «шаблонному изяществу», нередко доведенную даже до эпатирующих читателя «озорства» и натуралистической грубости (300; письмо XVIII). Ценя выше всего в поэзии «крупную самобытную индивидуальность» (298; письмо XVIII), Гумилёв утверждает: «У каждой книги стихов есть свой подвиг» (319; письмо XXIV), и в соответствии с этим в стихотворениях Мандельштама он приветствует поэта «с горячим сердцем и деятельной любовью» (327; письмо XXIV), который прямым и точным языком "говорит о своей человеческой мысли, любви или ненависти <…> Он стал поэтом современного города <…>, не дивится, как заезжий пошехонец, автомобилям и трамваям и, заходя в библиотеку, не вздыхает о том, сколько написали люди, а прямо берет нужную книгу " (364; письмо XXVI).
Если верить декларации Гумилёва, он хотел бы остаться всего лишь судьей и ценителем стиха. Но свежий воздух реальной жизни постоянно врывается в его характеристики поэтов и произведений, привлекающих его внимание. И тогда фигуры этих поэтов, их человеческий облик и их творения оживают для нас. Творения эти открываются взору современного человека во всей реальной исторической сложности своего содержания и формы. И именно эта вторая тенденция «Писем» делает столь проницательными и тонкими страницы «Писем о русской поэзии», посвященные И. Анненскому, Клюеву, Блоку, Ф. Сологубу, Вяч. Иванову, М. Цветаевой, Ахматовой, Хлебникову, Ходасевичу, Мандельштаму, И. Северянину, так же как и ряду других, менее значительных представителей тогдашней русской поэзии (С. Городецкий, Б. Садовский, Ю. Верховский, В. Бородаевский, Н. Тэффи, П. Потемкин, С. М. Соловьев, Е. А. Кузьмина-Караваева, В. Пяст, молодые поэты-акмеисты М. Зенкевич, В. Нарбут, Г. Иванов, Г. Адамович и т. д.).
Чтобы верно оценить значение Гумилёвских «Писем о русской поэзии», следует отметить и еще одну немаловажную их особенность: 1900-е и 1910-е годы ознаменовали в истории русской поэзии переломную эпоху. Рост городской цивилизации, изменившийся темп исторической жизни, расширение границ поэтической «памяти» и ассоциативного языка, психологическое усложнение содержания, обогащение словаря, поиски новой стилистики и новых поэтических форм для выражения изменившегося эмоционального заряда поэтической речи – все это было реальным, принципиально важным явлением новой поэтической эпохи. Это достаточно сильно почувствовали уже И. Анненский , К. Бальмонт, В. Брюсов и другие «старшие» символисты. В подобной атмосфере обостренное внимание Гумилёва-критика к метрическому и композиционному строению стиха, к вопросам ритма и поэтической «технике» в широком смысле слова не только имело свое историческое оправдание, но и придавало его анализу вопросов поэтической формы, которые Гумилёв-критик связывал в один узел с проблемами максимальной одухотворенности, выразительности и действенности стихотворения в целом и каждого его слова, их способности оказывать на читателя «гипнотическое» влияние, особую ценность в глазах младших его поэтов-современников. В обостренном внимании к кругу вопросов поэтической формы, в стремлении выявить путем критического разбора «анатомию стихотворения» сказался свойственный Гумилёву-поэту и теоретику рационализм, который навсегда остался для него характерен. Однако этот рационализм, хотя он и вызвал столь сильное внутреннее сопротивление у Блока, навсегда сохранившего убеждение в превосходстве интуитивного постижения явлений жизни и искусства над их аналитическим расчленением и «разъятием», не был в 10-е и 20-е годы резко индивидуальной чертой одного Гумилёва – он был свойствен, как мы знаем, Брюсову, А. Белому, футуристам и близким к ним теоретикам Опояза. В этом смысле увлечение Гумилёва-критика вопросами поэтики и теории стиха, отраженное в «Письмах о русской поэзии», имело свою историческую закономерность. Для сегодняшнего же читателя оно важно и тем, что вводит его в курс поэтических исканий эпохи, и тем, что привлекает наше внимание ко многим живым и ныне вопросам теории стиха.
2
Статью «Жизнь стиха» (1910) Гумилёв начинает с обращения к спору между сторонниками «чистого» искусства и поборниками тезиса «искусство для жизни». Однако, указывая, что «этот спор длится уже много веков» и до сих пор не привел ни к каким определенным результатам, причем каждое из обоих этих мнений имеет своих сторонников и выразителей, Гумилёв доказывает, что самый вопрос в споре обеими сторонами поставлен неверно. И именно в этом – причина его многовековой неразрешенности, ибо каждое явление одновременно имеет «право… быть самоценным», не нуждаясь во внешнем, чуждом ему оправдании своего бытия и вместе с тем имеет «другое право, более высокое (выделено мною. – Г. Ф.) – служить другим» (также самоценным) явлениям жизни (158). Иными словами, Гумилёв утверждает, что всякое явление жизни – в том числе поэзия – входит в более широкую, общую связь вещей, а потому должно рассматриваться не только как нечто отдельное, изолированное от всей совокупности других явлений бытия, но и в его спаянности с ними, которая не зависит от наших субъективных желаний и склонностей, а существует независимо от последних, как неизбежное и неотвратимое свойство окружающего человека реального мира.








