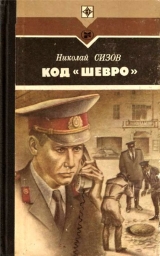
Текст книги "Код «Шевро». Повести и рассказы"
Автор книги: Николай Сизов
Жанр:
Криминальные детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 27 страниц)
– Но ты же сам говорил, что он право на нее потерял.
– Потерял, это верно. А если, допустим, амнистию ему дадут? Или общественность просить будет? Могут пойти навстречу. Не, тебе единственно верный путь переехать в комнату моей мамаши.
Скоро Сычиха убедилась, что жить ей здесь все равно нельзя. Дети оказались на редкость шумными и необузданными. От их игр и драк в квартире стояла столбом пыль, от визга и крика звенели барабанные перепонки. А из комнаты супругов неслось то сахарное воркование, то рев двух зверей, оказавшихся в одной берлоге.
Через месяц в квартиру Свириных уже въезжала мамаша Груши. Вслед за ней сюда перекочевали десятки ящиков, чемоданов, какие-то пузатые шкафчики, этажерки и прочие атрибуты быта. Поглядев на все это, Сычиха злорадно усмехнулась:
– Удивительно тонко все это будет сочетаться с модерновым баром и камином. – Это ее немного утешило.
И тут она подвела итог: свою чудесную комнату потеряла, садовый участок, пожалуй, тоже, хотя юрист и советует попытаться его отсудить. И как она тогда согласилась переоформить его на имя Груши? Но если даже участок отсудят ей, то стоимость мансарды и веранды надо будет компенсировать. А из каких источников? Денег осталось всего ничего… Надо было опять идти работать. Куда? Мысли у Сычихи были одна мрачней другой, И видимо, именно под их тяжестью она заболела и слегла в постель. Соседи вызвали врачей. Те долго осматривали больную, о чем-то советовались вполголоса между собой, затем один из них сказал:
– Страшного ничего нет. Нужен покой, щадящий режим. У вас коронарная недостаточность, аритмия. Пройдет, если побережете себя и поможете организму.
Сычиха стала хлопотать о пенсии. В районе, просмотрев ее бумаги, сказали: непрерывный трудовой стаж очень мал, на инвалидность переводить пока причины нет. «Работайте, там видно будет…»
Как-то, рассеянно просматривая «Вечернюю Москву», Сычихина вдруг вскочила со стула. Ей на глаза попалось объявление о защите диссертации инженером Свириным А. М. Где находился ее супруг и что с ним стало за эти годы, она не знала, но почему-то была уверена, что это он.
Она позвонила в институт. Да, подтвердили там, диссертацию будет защищать Алексей Михайлович Свирин.
«Смотрите-ка, – думала она, – выплыл. И даже кандидатом будет. А ведь он любил меня, очень любил. Нет, надо обязательно с ним увидеться…»
Накануне заседания ученого совета Сычихина сходила в парикмахерскую, завилась и подкрасилась, надела самый нарядный костюм, белые, на широком каблуке туфли. Придирчиво оглядела себя и нашла, что выглядит элегантно.
Но все это оказалось лишним. Свирин даже внимания не обратил на ее вид и явно тяготился ее присутствием, когда она поймала его по выходе из зала. Ее красоту и обаяние унесло время, а душу Сычихиной Свирин знал очень хорошо.
Его холодность, однако, не обескуражила Сычихину. На второй или третий день она появилась у Свирина на работе.
Увидев ее сквозь окно своей конторы, Алексей удивился, и какая-то неосознанная тревога, предчувствие неприятностей сжали сердце. Он вполне обоснованно предположил, что эти встречи и посещения, конечно, не случайны. Надо было, не откладывая, выяснить, чего же Сычиха домогается. И когда она показалась в дверях конторы, Алексей пригласил ее в комнату и, указав на табурет около стола, спросил:
– Ты чего ходишь за мной, Прасковья? Есть какие-нибудь вопросы?
Сычихина распахнула в удивлении черные ресницы своих все еще сине-бездонных глаз и, кокетливо улыбаясь, ответила вопросом на вопрос:
– А ты не рад этой встрече?
– Я хочу знать, чего ты хочешь.
– Фу, какой официальный тон! Алексей, неужели ты не можешь иначе? Ведь мы все-таки не чужие.
– Чужие, совершенно чужие, – поспешил уточнить Свирин и добавил: – Если есть что сказать – говори. Если нет – до свидания. И кончим на этом.
– Ну, Алексей, не надо так со мной. Неужели у тебя ничто не шевельнулось в душе, когда ты меня увидел? А я вот ужасно терзаюсь, нещадно кляну себя за все, что произошло. Ну, виновата, виновата. Ошиблась. Так ведь, наверное, и ты не святой. Забудем все и простим. Ведь мы любили друг друга. Переезжай ко мне. А потом и квартиру выбьем.
Перед взором Свирина, как на стремительно прокрученной ленте, пронеслись картины из той, прежней их жизни. Скандалы, суд, ее письмо… И ему захотелось, чтобы она сейчас же, немедленно исчезла и не попадалась ему на глаза никогда! С трудом сдерживая гнев, Алексей выдавил из себя:
– Очень прошу вас: уходите. Нам не о чем разговаривать. Не о чем. Поймите это.
Сычихина встала. В злом прищуре глаз мелькнули зеленые огоньки, и уже от порога она бросила:
– А все-таки подумай, Алексей. Как известно, даже худой мир лучше доброй ссоры.
Что она хотела этим сказать, выяснилось на следующий же день. Придя с работы, Свирин увидел на тумбочке письмо. Сычихина без обиняков излагала свою программу: он должен вернуться к ней. Они теперь с учетом опыта и ошибок заживут по-настоящему. Если же Свирин отвергнет этот ее крик души и сердца, то пусть пеняет на себя…
Свирин долго вертел в руках серый, исписанный небрежным почерком листок и брезгливо бросил его на тумбочку. Ночь прошла без сна. Утром, не заходя на стройплощадку, он поехал к управляющему трестом, показал ему цидульку Сычихиной. Тот признался, что в таких делах он не силен, и повел его к секретарю партийной организации. Тот прочел письмо, потом попросил Свирина рассказать «самую суть» и резюмировал так: про заключение – знаем. За что – тоже знаем. Диссертация? Ну, тут уж дело совсем ясное. Мнение ученого совета единое: разработки Свирина – ценные. Да это и на практике видно… Так что угроз Сычихиной опасаться нечего.
Сычихина больше к Свирину не приходила. Однако прокуратура города получила пространное заявление «от группы жильцов» дома, где когда-то проживал Свирин. «Жильцы» писали о его незаконной прописке после отбытия наказания за тяжкое преступление. Началась проверка. И не успело закончиться это дело, Свирина вызвали в Министерство высшего образования. Оказалось, что там тоже «сигнал». Только что вернувшийся из заключения, незаконно прописанный в Москве некто Свирин защитил диссертацию. Куда смотрят руководящие организации?
Принимавший его работник аттестационной комиссии беседовал недоверчиво и холодно:
– Как же это, батенька? Нехорошо.
Это «нехорошо» так и повисло над Свириным. Диссертация перекочевала в шкаф «неутвержденных».
Но и на этом, однако, Сычихина успокаиваться явно не собиралась. Свирину принесли… повестку в суд «по поводу иска бывшей супруги на ее содержание в связи с ее неспособностью к труду». И суд неожиданно решил: высчитать энную сумму из заработной платы гражданина Свирина в пользу его бывшей супруги Сычихиной.
Как Алексей ни доказывал, что это нелогично и незаконно, – не помогло. У судьи была своя логика.
– Вы были в супружестве?
– Были. Но ведь она сама расторгла брак.
– Но тем не менее вы можете и обязаны помочь ей. Все-таки бывшая жена. Потом, надо иметь и сознательность, гражданин Свирин.
Свирин подает кассацию. Городской суд отменяет приговор народного суда и передает дело на новое рассмотрение. Суд собирается в новом составе и оставляет просьбу Сычихиной без удовлетворения. Тогда подает кассацию она. Дело супругов Свириных разбирается уже в суде соседнего района, чтобы исключить какую-либо необъективность. И этот суд не находит оснований к удовлетворению сыхичинского иска. Она, разумеется, недовольна этим и вновь идет в городской суд. Дело рассматривается, и принимается единственно разумное решение: в иске гражданке Сычихиной отказать… Но Сычиха не сдается. Ее заявления идут во всевозможные адреса. Дело рассматривает высшая судебная инстанция.
Сычихина понимала, что это решение будет окончательным. Вот почему она волновалась, ожидая выхода судей. Ведь под угрозой был тщательно продуманный ею план возвращения Свирина. Если он не осуществится, что же ей делать? Тянуть эти хлопотные обязанности диспетчера в ЖЭКе? А жить еще хочется легко, бездумно.
«Ну нет, не может быть, чтобы наши советские законы так отнеслись к беззащитной женщине!» – в озлоблении думает Сычихина.
Она увидела, как в зал вошел Свирин и сел на свое место. Он уже привык и к судебным заседаниям, и к перерывам между ними, привык терпеливо ожидать приговора. Выводила его из себя только Сычиха. При виде ее у него вдруг появлялась какая-то дурнота, она подступала к горлу, в нервном тике начинала дергаться то левая, то правая бровь.
Вот и сейчас, как только Свирин увидел Сычихину, его забила мелкая дрожь. Он, однако, взял себя в руки и спросил:
– Кончится когда-нибудь это или нет?
– Давай решим миром, тогда все кончится.
Высшая судебная инстанция подтвердила ранее вынесенные решения и признала «иск гражданки Сычихиной к гражданину Свирину необоснованным и удовлетворению не подлежащим». После оглашения приговора председательствующий обратился к Сычихиной с небольшой речью:
– Поймите наконец, гражданка Сычихина, что вы требуете невозможного, незаконного. Ваши претензии к гражданину Свирину ничем не обоснованы.
– Но позвольте, товарищ председатель, – вскинулась Сычихина, – а как же я? Как мне жить?
– Своим трудом. Только своим.
– И вы думаете, я соглашусь с вашим решением? Да ни в жизнь. Я дальше пойду. В правительство. В Верховный Совет…
Все, кто был в суде, возмущенно, с осуждением смотрели на эту женщину, которая то плакала, то злобно грозила всем, а после своих выкриков кончиками платка вытирала глаза, боясь смазать обильную краску с ресниц.
Все понимали, что да, такая действительно не остановится, будет писать дальше и дальше, будет вновь трепать нервы Алексею Свирину, имевшему когда-то несчастье полюбить ее. Но все знали и другое – результат ее домогательств будет тот же. Ибо наши законы одинаково оберегают права любого из граждан.
Ошибка может быть прощена и забыта, но подлость и низость не забываются и не прощаются ни обществом, ни людьми, пусть когда-то и близкими.
Быль
Внезапный уход из жизни инженера Василия Орехова был столь невероятен, что известие о его самоубийстве вызвало полное недоумение у сослуживцев, повергло в смятение друзей, неизбывным горем, словно каменной плитой, придавило отца и мать.
Записка, оставленная Ореховым, была предельно лаконична: «Не могу больше… Сердце рвется на части. Простите меня, мама, отец и ты, Лена…» И постскриптум: «В смерти моей прошу никого не винить…»
Смерть любого человека, как бы она ни произошла – событие в нашей стране чрезвычайное, и советские законы требуют тщательнейшей проверки обстоятельств и причин, приведших к такому исходу.
Следователь городской прокуратуры советник юстиции Сергей Решетников уже несколько дней занимался трагедией, случившейся в семье Ореховых, но ясности все не было, причины, толкнувшие Василия на самоубийство, пока были неизвестны.
В конструкторском бюро, где работал Орехов, его характеризовали как человека спокойного, уравновешенного. Дело свое знал и любил, был хорошим специалистом. О его личной жизни сослуживцам мало что было известно. Вспоминали лишь, как он удивил их своей женитьбой. Все ходил в холостяках, терпеливо, с виноватой улыбкой сносил шутки по этому поводу, а тут поехал на курорт и привез жену. Пошутили по этому поводу, упрекая Орехова за то, что лишил сослуживцев возможности погулять на его свадьбе, но… кончался квартал, дел было много, и скоро его промашку забыли. Через некоторое время сотрудники, работавшие с Ореховым в секторе автоматики и общавшиеся с ним поближе, стали замечать, какую-то его удрученность, подавленное настроение, но причин не знали. Сам он ничего не рассказывал, а расспрашивать… Мало ли бывает поводов для подавленного настроения, И неизвестно, станет ли человеку легче, если посторонние будут докучать ему своими расспросами.
Решетников понимал, что беседовать с близкими погибшего, когда так нестерпимо остра боль понесенной утраты, – значит еще раз разбередить свежую рану. И все же он был вынужден идти на эти встречи, ибо вопросы, поставленные Василием Ореховым своим уходом из жизни, требовали ответа.
Отец, Михаил Сергеевич Орехов – массивный, неторопливый человек с ежиком седых, коротко подстриженных волос и хмурым взглядом – ответил после недлительного раздумья:
– Как жили? Да как многие живут. У старых и молодых все по-разному. Но скандалов не затевали.
Его словам вторила и вдова Василия – Елена Орехова:
– Особой теплоты не было, но и не враждовали. Ведь жили-то мы отдельно от родителей, так что поводов для конфликтов не было.
И старшие Ореховы и Елена на контакты со следователем шли неохотно, говорили скупо. Просили об одном – оставить их в покое. «Васю нам вы все равно не вернете, а эти допросы и расспросы только ворошат наше горе». Объяснить причины смерти сына и мужа не могли.
Решетникову было известно, что трагедия произошла вскоре после традиционного семейного торжества Ореховых – дня рождения главы семьи Михаила Сергеевича. В ответ на вопросы, как прошло это событие, Михаил Сергеевич ответил все так же скупо и сумрачно:
– Ну как? Скромно, по-домашнему. Пирогов жена напекла, друзья давние пришли. Когда человеку шестьдесят пять – не до балов, знаете ли…
– А как Василий? Как вел себя, как держался? Ничего странного вы в нем тогда не заметили?
– Нет, ничего.
Елена на этот вопрос ответила еще более скупо, неохотно:
– Сами знаете, как проходят такие торжества в семейном кругу.
Решетников был, в сущности, в тупике, что нередко бывает в следственной практике. Он чувствовал, что причина трагедии Орехова кроется где-то в его личных, семейных делах. Но это была лишь интуиция, фактов же, сколько-нибудь конкретных доказательств этих предположений не было ни одного.
Решетников стал расширять круг поисков, устанавливать друзей, более или менее близких знакомых Орехова. По институту, по дому, где жил до женитьбы, по его увлечениям.
В Союзе охотников дали справку: да, Орехов член союза, недавно брал путевку в Клинцы на Московское море. На двоих – фамилия напарника Касьянов, работник седьмого автокомбината.
Владимир Касьянов, энергичный, патлатый парень, с ходу, лишь переступив порог кабинета Решетникова, зачастил:
– Я, видимо, вызван в связи с делом Орехова? Правильно я понимаю?
– Правильно, правильно.
– А что случилось? Почему он учудил эту глупость?
– Вот это я и стараюсь выяснить. Потому и вас пригласил.
– Ну, я-то мало чем помогу.
– Вы с Ореховым хорошо были знакомы?
– Да как вам сказать. Охотники. Встречаемся редко – в августе на уточек да зимой на кабанчика сходишь. И все. Но люди подбираются обычно стоящие. Ведь понимаете, охота – это дело тонкое…
Касьянов, видимо, любил охоту и подготовился всласть поговорить на эту тему, но Решетников остановил его:
– Вы расскажите о вашей последней охоте с Ореховым.
Касьянов задумался и, посерьезнев, заговорил:
– А ведь, пожалуй, действительно есть что рассказать. И возможно даже, это вам будет небезынтересно. Был он какой-то странный. Знаете, когда мужчины полгода не видятся, у всех радость от встречи. Новостями делятся, угощают друг друга кто чем может, охотничьими покупками хвастаются. А Василий сидел молча, ни с кем ни слова. Мы не очень докучали ему, может, думаем, забота какая гложет. А когда выехали на охоту, он меня совсем удивил. Шалаши нам достались по соседству. И представьте, утка на него так и прет, ну прямо-таки чуть на голову не садится, а он молчок, ни одного выстрела. Я думаю: уснул, может? Крикнул ему. Нет, не спит. Пострелял потом малость, но так, видно, без азарта. На обратном пути спрашиваю его: что, мол, с тобой, будто сам не свой. Болен, что ли? Утки-то прямо же на тебя пикировали. Вздохнул он и отвечает: «Дома у меня, Касьяныч, плохо. Так плохо, что хоть в петлю лезь». Пока мы до базы-то плыли, порассказал он мне свою эпопею. Подробно рассказал. Посочувствовал я ему, но и отматюгал основательно за то, что такой рохля, что себя в половую тряпку превратил. На базе отошел он немного, малость повеселел. Вторую зорьку ничего, стрелял справно. По пути в Москву опять у нас тот разговор затеялся. Опять поругал я его. Советовал вскрылиться, не давать себе на ноги-то наступать. Когда прощались у метро, я спросил:
– Ну, когда в следующий раз соберемся?
Он ответил как-то вяло, неопределенно. Его мысли, видимо, опять были поглощены домашними делами. И когда я узнал о случившемся, сразу подумал: укатали сивку крутые горки.
– Один только вопрос к вам, Касьянов. Вы точно запомнили рассказ Орехова? Он говорил, что на дне рождения Михаила Сергеевича не было Елены?
– Говорил и не раз. Это его почему-то особенно удручало.
Решетников не задавал больше вопросов Касьянову. Его рассказ и так был достаточно подробен и очень многое прояснил.
То, что Елена не была на торжестве у стариков Ореховых, было совершенно новое обстоятельство. Не столь уж оно важное, казалось бы, но почему-то именно его так тщательно обходили и старшие Ореховы, и их невестка. Решетников нещадно ругал себя за то, что не обратил внимания на эту деталь раньше, не разобрался, что за ней кроется. Если невестка не была в доме родителей мужа даже по такому случаю, то как это вяжется с утверждением, что родственные взаимоотношения были обычными, нормальными, как у всех?
Елена Орехова стояла на своем, хотя Решетников видел, что говорит она неправду. Стариков он решил по этому поводу не трогать, чтобы не ставить в неловкое положение.
Свет на эту загадку пролила Ирина Щагина – подруга Елены Ореховой, что жила неподалеку.
Ирина оказалась довольно бойкой, словоохотливой девицей, имела склонность к решительным, безапелляционным суждениям, знала все новости не только своего микрорайона, но и близлежащих к нему. На случай у Ореховых имела свой и тоже довольно уверенный взгляд.
– Комплексы, неврастения, эмоциональные перегрузки. Издержки века, знаете ли.
Решетников спорить не стал, но попросил вспомнить в деталях день и вечер десятого августа.
– Десятого? Это что же у нас было? Суббота? Да, суббота. Ну, днем я работала. Выходные у нас скользящие. А вечером? Вечером в эстрадном театре, на концерте. Музыка – моя страсть.
– Вы знаете, нас интересует истина. А вы… вы фантазируете.
– Я говорю правду.
– Нет, правду вы не говорите. Вы ездили с Еленой Ореховой в Люберцы?
– Значит, вы об этом уже знаете? Тогда, конечно, темнить глупо. Извините, ложь вынужденная. Я дала слово. Ездили мы в Люберцы, ездили. Портниха у нас там, некая Валька, отличная мастерица, но страшная обманщица. Всю душу вымотает, пока что-нибудь сошьет. Но шьет отлично. Так вот, съездили мы к ней, я на примерку, а Ленка за готовым костюмом. Вечером вернулись. Я удивилась тогда, что Елена не пошла к старикам. Журила ее. Такие обостренные отношения не по мне. Я вот тоже живу отдельно от предков. Но мы общаемся. Не часто, чтобы не надоедать друг другу, но общаемся. У них же – у Ореховых – все наоборот. Я говорила ей: заскочи на полчаса, чего тебе стоит? Она и слышать не хотела. Ничего, говорит, перебьются. А потом и совсем меня оглушила. Знаешь, говорит, я вообще ухожу от Василия. Сначала я не поверила, за шутку приняла. Однако вижу, она всерьез. В Сочи, говорит, улетаю.
Вижу, с ума сходит моя Ленка. Взялась я за нее по-серьезному, но все без толку. На своем стоит. Она такая, решит что – не переломишь. Я, говорит, его проучу, пусть поймет, он ведь знал мои условия…
– Может, у нее был кто-то другой? Согласитесь, такое поведение для замужней женщины по меньшей мере странно.
– Мужиков-то увивалось около Ленки немало. Женщина она заметная. Но чтобы кто-то еще у нее был – не думаю. Не знаю этого. Капризная она, своевольная. Любит, чтобы всегда и все под ее дудку плясали. А насчет мужчин – нет, без разбору не бросится. Да и любила она Василия-то. И мучила, и любила. Такие случаи не редки. Людская душа – потемки.
По уходе Щагиной Решетников долго сидел задумавшись. Действительно, чужая душа – потемки, а женская – ночь непроглядная. Что было нужно Елене Ореховой? Чего она, добивалась? И в какой связи находятся эти ее экстравагантные поступки с роковым решением мужа? И какова роль родителей Орехова в этой трагической истории?
Понадобилась не одна встреча и с Ореховыми, и со многими другими людьми, прежде чем картина жизни и гибели Василия Орехова стала предельно ясной и легла в скупые строчки официального следственного заключения по делу.
Василий Орехов рос единственным сыном в семье, родители до безумия были рады позднему ребенку и от самого рождения до последних его дней дрожали над ним, в нем и только в нем видели смысл своей жизни, оберегали от всего, ублажали всем. И только благодаря тому, что в школе, где учился Василий, оказались хорошие учителя и сверстники, он не вырос пустым баловнем – учился сносно, школу и затем технический вуз закончил. Правда, оранжерейная жизнь под неослабным оком родителей сказалась на характере парня. Вырос он в сущности «мимозой», без личных практических навыков, совершенно неподготовленным даже к малым житейским бурям.
Пуще всего родители оберегали его от соблазнов любви. Они тщательно сортировали школьных и институтских приятельниц Василия, исподволь, но настойчиво, изо дня в день подмечали те или иные их недостатки и внушали, внушали сыну одну мысль: не женись рано, все это пока не то, совсем не то. Ты еще встретишь на своем пути куда более интересных, умных, красивых девушек. Все придет в свое время.
В сущности Ореховы ничего не имели против этих девушек, что забегали накоротке к Василию, с которыми он ходил в кино или на лыжные прогулки. Просто в их представлении он все еще был мальчиком, и одна мысль, что он будет привязан к кому-нибудь другому, а то, не дай бог, вообще уйдет из дома, бросала их и в жар, и в холод, приводила в отчаяние.
Василия пока эти страхи лишь забавляли. До сих пор ему нетрудно было выбирать между легкой юношеской увлеченностью и упреждающими родительскими советами.
Но вот и школа и институт уже позади. И трудовая деятельность началась, и возраст уже перевалил за четверть века, а у родителей Вася все ходит еще в юношах, они все еще берегут его от соблазнов жизни.
И знай бы Михаил Сергеевич, предугадай он события заранее, не доставал бы сыну путевку в санаторий на Кавказское побережье Черного моря.
…Василий увидел ее в кабинете врача на ознакомительном приеме. Карие озорные глаза, смуглое, загорелое лицо, накрахмаленный халатик, игриво повязанная косынка на каштановом тюрбане волос.
Она вышла вслед за ним в коридор и простецки спросила:
– Ты чего на меня так зыркал глазами?
– А что? Нельзя?
– Можно. Но не советую.
– Почему?
– Я трудная.
– Да? Это очень хорошо. Мне давно недоставало трудностей.
Так они познакомились. Василий теперь неотлучно дежурил где-нибудь поблизости от врачебных кабинетов, когда Лена была на дежурстве, кружился вокруг ее дома, когда она была свободной от смены: неотлучно сопровождал ее и к морю, и на танцы, и на любую прогулку. Час, проведенный без Лены, казался Василию вечностью, а мир выглядел в самых серых и невыносимо скучных тонах. Ему нравилось в ней все – лицо, глаза, фигура, громкий заливистый смех, каждое слово казалось верхом мудрости, каждая шутка или шалость были полны какого-то особого смысла.
Жизнь Лены Зажигиной сложилась далеко не так, как у Василия. Она выросла и все свои двадцать пять лет прожила на юге, около санатория, где работала врачом ее мать. У матери не сложилась семейная жизнь, муж ушел через год их совместной жизни. Вторая и третья попытки создать семью кончились тем же, и Зажигина-старшая подалась с юга куда-то в другие места искать свое счастье, оставив дочь на попечение своей старухи матери. Лену, однако, вырастила не столько бабушка, сколько сердобольные подруги матери – сотрудницы санатория. Ей не пришлось расти впроголодь, вое ей старались помочь, чем могли, но сознание того, что ее бросили, что она как бы обсевок в ноле, осталось в сердце постоянной саднящей болью. Замкнутость характера, диковатая резкость во взаимоотношениях с людьми, повышенная склонность к самозащите, обереганию своего собственного внутреннего мирка стали свойствами ее натуры. А взгляды на жизнь, на жизненные стежки-дорожки в немалой степени формировались той атмосферой праздничности, что неизбежно сопутствует любому месту, куда приезжают люди на отдых.
Встреть Лена не только любовь Василия, а и глубокую родительскую теплоту его отца и матери, возможно, оттаяло, смягчилось бы ее сердце и нашли бы Ореховы не только сноху, а еще одно любящее их существо.
Однако сложилось все иначе.
Через две недели после отъезда сына в санаторий Ореховы получили от него пространное, восторженное письмо. Оно было о ней и только о ней. Задыхаясь от обуревавших его чувств, Василий рисовал образ любимой – как она ходит, как говорит, смеется, одевается. В конце письма он сообщил, что вернется в Москву вместе с ней, Леной. Из пяти страниц убористого текста Ореховы поняли только эти строчки. Их сын безрассудно, опрометчиво, по-мальчишески увлекся какой-то там никому не известной особой.
Ответное письмо родителей было сухим и гневным. Они писали, что потрясены легкомыслием сына, его несерьезностью и безответственностью. Да разве хоть один нормальный человек принимает всерьез санаторные увлечения? Настойчиво требовали, чтобы Василий выбросил из головы свои глупые, нелепые мысли и не строил каких-то там серьезных планов со своей санаторной Джульеттой. Требовали, чтобы все с ней было прекращено и притом незамедлительно. В конце письма родители недвусмысленно предупреждали, что если он ослушается, то пусть не рассчитывает на их снисходительность. В дом эту санаторную потаскушку они не пустят.
Василий знал, что испуг, удивление родителей неизбежны. Но что он получит такую отповедь – не ожидал. Он читал и перечитывал письмо несколько раз в надежде найти хоть какую-то обнадеживающую мысль, какое-то понимание его сердечного и такого искреннего порыва. Нет, ничего этого не было. Прочтя письмо, он опустился на кровать и долго сидел опустошенный и обескураженный.
«Что это с ними? – думал он. – Отчего столько гнева, ругани? И даже угроз. Не мальчик же я в конце концов, не дитя малое».
Ему пришла в голову мысль, что не поняли его старики, не разобрались, как это серьезно у него. «Я же не могу, не могу без Лены». Василий ринулся в центральный вестибюль санатория к телефону.
Через несколько минут после его ухода в комнату зашла Лена. Они собирались в городской парк, и, как было условлено, она зашла за ним. Письмо лежало открытым на столе, и Лена ревниво подумала: наверное, от какой-нибудь москвички. Пробежала первые строчки: «Дорогой сынок…» Поняла, что это именно то письмо от родителей, которого с нетерпением ждал Василий. Она поразмыслила немного, но, не предвидя тех страшных мыслей, что были заложены в крупных размашистых строчках Орехова-старшего, начала читать. И прочла до последнего слова, не отрываясь. Скоро вернулся Василий. По ее суженным глазам, по бледному лицу он понял, что письмо прочитано.
– В крепкой узде тебя держат предки. Лихие старики. Скорые. Вот и меня уже в потаскухи произвели. Спасибо.
Василий не отошел еще от нервного, напряженного разговора с отцом, и потому до него не сразу дошел смысл сказанного Леной.
– Не обращай внимания, – махнул он рукой. – Старики есть старики.
– Ну нет, я смотрю на это иначе. Я эти их слова запомню. На всю жизнь запомню.
– Ну зачем же возводить все в степень. Чепуха все это.
– Если такое… ты считаешь чепухой, то мы очень, очень разные люди. – И Лена, не говоря больше ни слова, стремительно встала и, резко хлопнув дверью, вышла из комнаты.
Василий всерьез, в полную силу неистраченного чувства увлекся Леной, и поэтому все, что было, кроме этого чувства, в том числе и явная ссора с родителями, казалось чем-то мало существенным, второстепенным. Он бросился вслед за Леной.
Нашел ее в сквере. Лена сидела на скамейке колючая, непримиримая. Василий сел рядом, взял было девушку за руку. Она отчужденно отодвинулась.
– Ну что ты, Ленок, так на все реагируешь? В конце концов при чем тут старики? Важно, что я тебя люблю и ты меня любишь. Остальное неважно. – Он говорил это, искренне убежденный, что все так и будет.
Это был важный, решающий разговор, закончился он объятиями, поцелуями, клятвами быть всегда вместе. Сознание того, что Лена любит его, окрашивало мир Василия в радужные тона, глушило тревогу, помогало не так остро и болезненно ощущать ссору с домашними. И даже условие, что поставила Лена в итоге этого разговора на скамейке, – никогда и ни при каких условиях она не будет общаться с его стариками, – не вызвало у него сколько-нибудь осознанного протеста. Он попросту не придал этим словам серьезного значения. Правда, – его несколько удивила злая непримиримость Лены, ее расчетливая деловитость при обсуждении того, как они будут жить дальше, но он постарался не задумываться и над этим. Мысль спасительная, успокаивающая, что все так или иначе наладится и утрясется, бодрила его, не давала впасть в уныние, глушила тревогу и беспокойство, что жили в глубине души.
По своей житейской неопытности Василий не смог хорошо распознать Лену. Плохо знал и своих чадолюбивых родителей. Его спасительное убеждение, что «все наладится и утрясется», как оказалось, было построено лишь на его горячем желании такого исхода, но отнюдь не на реальной оценке того, что произошло.
Отсутствие собственного жизненного опыта, жизнь по готовым рецептам, на шелковом поводке у кого бы ни было, всегда мстит за себя.
…Всю дорогу до Москвы Василий убеждал Лену, что они должны непременно поехать прямо к нему домой. «Ну пошуршат малость старики, этим все и кончится». Лена, однако, ничего не хотела слышать. В Москве у нее жила подруга, и она настояла, чтобы Василий отвез ее к ней.
– С твоими предками встречаться не буду. Не знаю их и знать не хочу. Я ведь предупреждала.
Василию ничего не оставалось, как отвезти Лену к подруге.
Разговор с родителями был не менее тяжелым и удручающим. Начался он сразу же, как только Василий появился в доме.
– Мы тебя не встречали, как ты сам пожелал этого. Но ведь поезд пришел уже четыре часа назад. Что так долго добирался?
– Пока довез Лену до подруги, пока устроил ее.
– Значит, ты все-таки привез ее?
– Мы решили пожениться.
Отец отложил газету, позвал из кухни хлопотавшую над обедом мать.
– Послушай, что говорит твой недоносок. Свою потаскуху он, оказывается, в Москву привез. И даже жениться надумал.
Василий в умоляющем жесте поднял руки, хотел остановить эти тяжелые, унизительные слова, но не успел.








