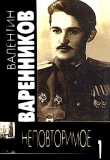Текст книги "Октябрьские рассказы"
Автор книги: Николай Тихонов
Жанр:
Детские приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц) [доступный отрывок для чтения: 2 страниц]
Мы спускаемся к воде. Я не умею плавать. Вода черная, страшная…
– Боже мой, – сказала Елена Константиновна, прижав платок к виску.
– Этот предводитель говорит: «Бросай мешок». Я положил мешок к его ногам. Я ничего не соображал. Я только понял: это смерть. Тут вдруг остальные сумасшедшие кричат: «Дай хоть немного!» – «Берите», – говорит этот Монте-Кристо, и они хватают из мешка кто сколько захватит. Он отодвинул их, сказал «хватит» и тут взглянул на меня. Кричит: «На тебе, бери, буржуй проклятый, небось первый раз в жизни работал, бери заработанное». И вот, вот, – тут Пьер засопел, всхлипнул, – вот они, эти деньги. Мне их в карман всунули и кулаком по спине дали. А потом, я не верил своим глазам: этот бандит, зверь, скотина, поднял мешок и вытряс все, что там было, в воду, вы представляете – в воду. «Туда, говорит, им и дорога – эти деньги грязные, от них народу горе! Туда бы и тебя следовало», – но, после жуткой паузы, он сказал: «Пощадим. Иди и благословляй богиню под черным знаменем – Анархию!»

Мы вышли наверх, на набережную, и он сказал: «Живи, буржуй, катись, пока цел!» – дал в воздух выстрел, и я побежал. Уже у самого дома я все вспомнил так отчетливо и остановился сам как сумасшедший, потому что, если бы не эти грязные деньги в карманах, я думал бы, что это бред, что я сам впал в транс, сошел с ума, а они вот, вот они. – Он разбрасывал по столу бумажки, и все смотрели на них расширенными глазами.
Он театрально повалился на диван и закрыл глаза. Потом открыл их и, как актер, говорящий последние слова монолога, произнес выразительно и горячо:
– Ну, мерзавцы, ну, грабьте, и до вас грабили, и после вас будут грабить, а почему нужно издеваться над тем, что составляет самое дорогое – закон, порядок, честь? Деньги, деньги, которыми двигается в мире наука, техника, искусство, все, торговля, оплачивается труд, и эти деньги, и серьги, браслеты кольца – прекрасные вещи уничтожать. Вандалы, дикари… – Он снова задохся в пароксизме злобы.
– Мда, – сказал генерал, – мы думаем еще, что живем в городе, который прославлен в истории, в литературе. Его больше нет. Есть джунгли, есть дикие звери, которые бросаются на людей. Вот он, последний распад сознания…
– Вы американец, свободный человек свободной страны. Вы должны все это описать, все это должно стать достоянием цивилизованных людей. Вы видите, наша страна, наше государство больше не существует, – воскликнула Елена Константиновна.
– Да, да, – закричал статский советник, – мы вас умоляем, мы вас просим защитить последние остатки культурных людей. Сегодня они уничтожают ценности, завтра они будут уничтожать города, памятники – все. Апокалипсис! Что думаете вы об этом, что скажете вы о том, что происходит…
– Что происходит… – сказал задумчиво гость, – садитесь, господа, я скажу, что, по-моему, происходит. Только прошу не удивляться тому, что я скажу. Может быть, я ошибаюсь, я все-таки чужой человек в вашей стране, но я хорошо ее видел и видел, как все происходило в этот месяц, который войдет в историю человечества.
Вы называете восстание большевиков авантюрой, но это самая чудесная авантюра, какую когда-либо переживал род человеческий. Большевики призваны выполнить и они выполнили самое великое и простое стремление широких народных масс. Без поддержки этих масс революция не была бы возможна. Большевики – единственная партия в России, имеющая творческую программу и достаточно сил, чтобы провести ее в жизнь по всей стране. То, что кажется вам сегодня всеобщей гибелью, есть гибель старого мира, и в этой ночи, в этой грязи, в этой крови встает великолепный рассвет, встает эра человечества. Так я думаю и с этим хочу поздравить вас, как людей, которые являются современниками величайшего в мире события. – Он замолчал, но сейчас же добавил: – И в Америке и в Европе скоро скажут то же самое, что сказал я…
Все оцепенело смотрели на этого широкоплечего, приятного собеседника, который так хорошо держался в их обществе и вдруг заговорил какими-то страшными, светящимися словами, которые связали им язык, сковали их движения, обессилили.
Все молчали. Никто не знал, что сказать. Только одна Елена Константиновна, странно усмехнувшись, сказала:
– Вы романтик и фантаст! Вы, конечно, мистифицировали нас. Кто вы? Как вас зовут?
Гость улыбнулся хорошей, доброй улыбкой. Он сказал:
– Я не фантаст и не романтик. Я журналист, социалист американец, – меня зовут Джон Рид! Я очень благодарен вам за эту интересную ночную беседу!
Счастливая улица
Комиссар Глебов Иван Филиппович, монтер по профессии, в изрядно потрепанной кавалерийской шинели, с длинными отворотами на рукавах, не показывая усталости, шел, как по плацу, впереди длинного обоза, конец которого терялся в темно-ржавой мути, обволакивавшей бесконечную ленту домов и заборов села Смоленского.
Несколько поодаль от него, стараясь идти в ногу с комиссаром и постоянно сбиваясь, шагал совсем юный красноармеец, Алексей Дымов, бывший конторщик крохотного кирпичного завода из-под Шлиссельбурга. Он шагал с усталым и хмурым лицом, насупившийся, смахивая с носа холодные капли, падавшие с намокшего, сломанного для лихости козырька легкой летней фуражки. Он не смотрел по сторонам. Эти места были ему знакомы с детства и не представляли ни тогда, ни теперь ничего привлекательного.
В холодной пропасти осенней ночи, в самый глухой ее час, среди оголенных, как будто зажавших стоны деревьев с судорожно вытянутыми сучьями, стояли, похожие на большие ящики, домики. За глухими занавесками, за тяжелыми ставнями то ли спали тяжелым сном, то ли притаились, прислушиваясь, что делается на улице. А на улице двигался темный обоз, на грохот которого угрюмо и лениво отзывались дворовые псы и устало замолкали, как только все лязги и скрежеты уходили от них.
Ветер гудел в проводах, иногда с такой пронзительной невыносимой силой, что становилось еще тоскливей и неуютней и от него, и от тяжкого безмолвия вымершей местности и реки, застывшей у высокого берега. Дождь прекратился. Порывы холодного ветра обжигали щеки. Когда ветер проносился, качая ветви, они начинали позвякивать, как жестяные. Привыкший в темноте глаз различал крупные булыжники под ногами и видел впереди мутные, расплывающиеся очертания домов, теснившихся друг к другу.
Комиссар резко остановился, отступил с дороги, пропустил вперед первую подводу и подошел к Дымову. Они стояли рядом. Плечистый, с тонкими рыжими усами комиссар и худой, тонконогий красноармеец. Оба молча смотрели, как проходили мимо них темные подводы с высокими, чуть наклонными бортами. Нельзя было увидеть, чем они нагружены, но Дымов знал, что там, на этих подводах, лязгают большие и малые лопаты, киркомотыги, ломы, пилы, топоры – весь шанцевый инструмент, нужный для саперных работ. На других подводах подпрыгивали черные катушки телефонного провода и кривые, тяжелые, неуклюжие мотки колючей проволоки.
– Иди-ка, – сказал Глебов, слегка дотронувшись до руки Дымова, – и посчитай подводы, все ли тут, да посмотри, где Крынкин с Мохиным: а то эти колонисты, – он махнул головой на подводы, – могут там с конца и к дому завернуть…
Дымов ничего не ответил, он пошел вдоль длинного ряда подвод. Возницы сидели, согнувшись, иные клевали носом, иные спали, привалившись к моткам телефонного провода, закрепив поводья за край подводы, иные сидели, неестественно выпрямившись, и никто не мог бы сказать, о чем думают эти мрачные люди, подчинившиеся только приказу о реквизиции подвод и лошадей для срочных военных нужд. Они знали, что их сразу же отпустят, как они довезут груз, но кто знает – так ли это? Сейчас такие времена, что, глядишь, вернешься домой через несколько лет, да еще вернешься ли?
Дымов не будил спящих. Он шел и считал подводы. Когда сказал про себя «шестнадцать», перед ним оказалась пустая улица. Он стоял, поеживаясь, не понимая, куда девались еще две подводы и куда пропали Крынкин с Мохиным. Сырая мгла окружала его. Ему тоже захотелось идти дальше от этой дороги, от этого обоза, идти не останавливаясь, пока не блеснет огонек маленького домика, где есть хорошая теплая кровать и мать даст крепкого сладкого чая… Он стоял один, поеживаясь. Винтовка оттягивала плечо. Обоз исчез. Он прислушался. Приближался какой-то шум. Показались две подводы. Красноармейцы шли и разговаривали с подводчиками.
До слуха Дымова долетели обрывки слов. Говорил Мохин, обращаясь к колонисту-подводчику. Дымов услышал:
– Ты мне не объясняй. Я ученый на объяснения. Тут воды нет – сам знаешь. Чего ты вздумал среди дороги лошадь поить – хозяин особенный?..
– Больна она, ногу ранила. Вот надо ногу промыть, – отвечал спокойно подводчик, – хромает, идет плохо. Не дойдет…
– Знаю тебя, – сказал Крынкин, – как за вами не посмотри, так вы раз в сторону – и все. И ищи-свищи…
– А зачем мне твоя проволока? Что я, душиться на ней буду? – сказал, сплюнув, второй подводчик. – Если тебе нравится – сам душись…
– Душиться не душиться, а изгородь колючую за милую душу сделаешь. Вон у вас колючкой все огороды огорожены.
Подводчики не отвечали. Увидев Дымова, красноармейцы подошли к нему.
– Чего ты? Чего ждешь?
– Комиссар послал…
– Зачем?
– Проверить, налицо ли все подводы… Вас посмотреть…
– Ишь ты, – сказал Мохин, – он, гляди ты, и вперед смотрит и назад норовит. Порядок соблюдает. Скажи, что вот поотстать кое-кто сообразил, да мы смотрим в оба. А ночью смотреть – надо уметь… Закурим. Свернуть хочешь?
– Я не курю, – сказал сердито Дымов.
– А что ты сердишься, ты не сердись, ты злость побереги – пригодится, а мы закурим…
– Я не сержусь, – ответил Дымов, вынимая спички и давая огня прикурить красноармейцам…
– Какие у тебя спички-то, – с восхищением сказал Мохин, беря в руки коробок.
– Я их в восковой бумаге держу, чтоб от сырости не пострадали. Я побегу, а то комиссар ответа ждет…
– Ну, беги, да скажи там комиссару, что мы тут на посту. Беспорядка не позволим. Ишь ты, он взял да в сторонку, там в улочку, а этот, второй, за ним, как будто из любопытства. Хорошо, я посмотрел, а то так бы и утекли. А там лови их… Одно слово – колонисты, знаешь, – он взмахнул самокруткой в воздухе, и искры посыпались на дорогу, – они вот так соображают, что все добро из города им перейдет. За их картошку, за молоко, за муку. Первые они грабители, буржуи, кулаки, ей-богу. Им, брат, доверия ни на копейку. Сейчас же в кусты, как не усмотришь. Вишь, ему лошадь надо ночью мыть. Пошел воду искать. Тут мы их и накрыли… Ну, беги, а то комиссар волнуется – две подводы пропали. Так скажи, что налицо…
Последние слова Дымов слышал уже на бегу. Чтобы согреться, он побежал по дороге, и хотя винтовка изрядно ему мешала, но он бежал, будто хотел обогнать кого-то. Глебов, остановив обоз, ждал его. Когда он рассказал про то, что случилось с двумя подводами, Глебов усмехнулся, обтер свои мокрые рыжие усы рукой, точно выпил рюмку водки, и сказал:
– Смотри-ка, Крынкин и Мохин сообразили, а мне показалось, что они думать ленивы. Молодцы! Значит, наш арьергард обеспечен. Продолжаем продвижение…
И снова шагали они почти рядом впереди обоза, а ночь не только не подходила к концу, но казалось, она потеряла конец. Никогда не перестанет налетать ветер с Ладоги, никогда не будет рассвета, никогда они не дойдут до города, куда должны явиться с обозом.
«Как в сказке», – подумал Дымов. Они будут идти годами, умрут, и скелеты лошадей будут тащить прогнившие подводы, и скелеты-подводчики будут скрипеть костями на ржавой проволоке, а он, Дымов, прозрачный, как привидение, будет проверять, все ли подводы на месте, а комиссар… Черт знает что придет в голову, когда начинаешь засыпать на ходу… А комиссар – он что-то спрашивает.
– Эта улица кончится когда-нибудь? – спросил Глебов, поднявши воротник шинели и заложив руки в карманы.
– Эта кончится – другая начнется, – ответил Дымов, хотя прекрасно знал, что это не улица, а проспект, но ему нравилось называть его уничтожающе улицей, потому что и в самом деле это была деревенская улица с садами и домишками, с канавами и заборами. Только разве за длину назвали ее проспектом.
Дымов был зол на все, он был страшно зол на белых, которые шли сейчас с царским генералом Юденичем, которые угрожали ему уничтожением всех его мечтаний и надежд, угрожали возвратом всего старого, хотели его убить, растерзать. Он был зол на то, что он должен в такую холодную ночь идти по бесконечным дорогам куда-то в темноту и не знать, что несет ему завтрашний день. И вместе с этой злостью неясная тревога заползала в его сердце, и он недоверчиво посматривал на притихшие дома и заборы, точно ожидая, что оттуда вдруг из темноты загремят выстрелы по обозу, хотя знал, что этого не случится.
Он вспоминал о матери с сестрой. Они, может быть, не спят в своем маленьком домике в Шлиссельбурге, на улочке, поросшей травой, с подмерзшими лужами, и тихо говорят о нем, не зная, что он идет с винтовкой в сырой, тяжелой шинели по черной ночной дороге неизвестно куда.
Вдруг он услышал смех. Это смеялся комиссар. Он смеялся искренним, душевным смехом человека, которому вдруг пришло на ум, что нельзя же быть все время серьезным, только серьезным.
– А чем тебе не нравится эта улица? – сказал он. – Я на ходу чуть подремывать стал, так мне сон приснился в одну секунду, что идем мы по этой улице, а она вся в громадных зданиях. Все окна открыты, и свет во всех горит, как иллюминация, и нам с тобой цветы бросают. Здорово! А открыл глаза – тьма, брат, на этой улице. А ты на какой улице родился?
– На несчастной улице я родился, – сказал с чувством Дымов, – на шлиссельбургских задворках, вот где. Извозчик, чтобы проехать, с козел слезал и кнутом коров прогонял, что посреди улицы лежали и дороги не давали. Тупик, а не улица, а вы говорите – иллюминация…
– Ну, молодой, ты еще свою счастливую улицу найдешь. Такую счастливую улицу обретешь, что вся в огнях, в золоте будет, как мне приснилась. Пляши и пой, веселись – вот какую улицу найдешь…
– Вы скажете, товарищ Глебов. Что-то вместо огней мы с вами в темноте шагаем, по булыжнику, и за нами обоз тарахтит не с золотом, а с лопатами да проволокой колючей. А правда, – вдруг спросил он совсем другим голосом, понизив его, – правда, Деникин к Туле подходит, а Колчак опять на Волгу вышел? А Юденич уже в Царском Селе, правда?
– Насчет Деникина и Колчака точно не знаю. А Юденич в Царском, это факт. А ты что – боишься, молодой, скажи?
– Я ничего не боюсь…
– Это хорошо, что не боишься. А чего ж ты хочешь? О чем думаешь?
– Я учиться хочу, вот чего я хочу…
– Вот эти мысли в самый раз, – сказал комиссар и хотел продолжать, но в эту минуту до них долетел какой-то громкий окрик. Подчиняясь ему, остановилась первая подвода, за ней другая, и постепенно встал весь обоз.
Возница, сидевший на борту подводы, сказал хрипло, со сна:
– Комиссара зовут в голову. Пропуск требуют. Застава…
Из темноты вышли штыки и перегородили дорогу. Комиссар вытащил пропуск из-за длинного обшлага своей шинели и показал его.
Командир долго рассматривал мятый от частого предъявления и складывания кусочек пожелтевшей бумаги. Потом спросил:
– С вами есть кто еще, кроме подводчиков?
– Есть три красноармейца, – сказал комиссар.
– Давно идете?
– Всю ночь идем…
– Ну, скоро отдыхать будете, – сказал командир.
Штыки разошлись. Дорога была свободна. Обоз потянулся дальше.
– А знаешь, молодой, – Глебов подтолкнул Дымова локтем, – давай-ка и мы сядем. Садись на вторую подводу, я на первую сяду, а то ноги не палки – уходились.

Возчик, сидевший рядом с Глебовым, был одет в теплую, толстую черную куртку, в высоких сапогах, на руках – вязаные перчатки. Он сидел небритый, с потухшей трубкой в зубах, с сизым от холода лицом. Молча подвинувшись и давая место комиссару, он через несколько минут сказал, как будто просто в темноту перед собой:
– Едем, все едем, а лошадей кормить где будем, да если сена с собой нет…
Глебов выпрямился в телеге насколько мог и ответил сразу, нахмурившись:
– А что сам не захватил? Говорили же – запастись. Скажешь, сена нет, бедняк. Скажешь – не говорили?
– Говорили, да ведь не думал, что всю ночь ехать. Думал – в Царское или в Павловск, на фронт, что ли, я не знаю, а тут конца нет…
– Как это в Царское? – воскликнул Глебов. – Да там же белые. К белым, к Юденичу?
– Я ничего не знаю. Я не разбираюсь в политике. Мне что. Я не воюю. У меня оружия нет. Вот подвода есть. Лошадь тоже есть. Куда прикажут – еду. А сена нет – то и говорю. Лошадь на ногах не стоит. А то возьмет – упадет…
– Не упадет, – сказал Глебов, – она у тебя здоровая, как и ты. Похудеет немного, на пользу ей.
– А куда идти будем? – спросил возница.
– Вперед! – сказал весело Глебов. – Большевики всегда вперед идут, а там разберемся.
Жестяная, холодная ночь кидала им навстречу как будто все одни и те же садики, дома, стены, заборы, но иногда проплывали высокие строения, деревья становились толпой, потом опять редели и также сменялись звуки. То стояла настороженная тишина, прорезанная какими-то тонкими скрипами, приглушенным собачьим лаем, далекими свистками поездных составов, то наплывал далекий гул, точно доносился шум ночных работ неизвестного завода, слышались даже наплывы пушечной стрельбы где-то очень далеко, все чаще появлялись патрули, все чаще лез за обшлаг Глебов, вытаскивал пропуск и предъявлял его то шутившим, то мрачным, то недоверчиво осматривавшим обоз людям, которых рождала темнота.
Темнота, казалось, набилась в карманы и в уши. Как угольная пыль, она висела в воздухе. Обоз шел мимо длинных кирпичных амбаров, зданий, не похожих ни на что, так их очертания расплылись. Глебов качался, как мешок. Дымову приснилась улица, о которой рассказывал комиссар, – Счастливая улица с огнями, переливавшимися отливами червонного золота. Вдруг сон прервался. Резкий толчок чуть не сбросил его на катушки с телефонным проводом. Он приоткрыл глаза, обоз стоял посреди большой улицы с многоэтажными домами. Но ни одно окно не сияло червонным золотом. Тусклые стекла, как слепые зеркала, отражали блики разноцветных трамвайных огней.
Справа улица уходила куда-то вдаль, и конца ей не было видно. На всем ее протяжении блестели мокрым глянцем трамвайные рельсы, пешеходов не было. Рядом с обозом проходили трамвайные вагоны, тащившие на прицепе площадки и платформы, нагруженные мешками. Вагоновожатые звонили, давали сигналы, как в обычные часы. На мешках сидели и стояли люди, равнодушно смотревшие на обоз. Трамвайные площадки точно выплывали откуда-то из-за угла и уходили друг за другом, и в этой непонятной ночи они казались торжественными и полными особого смысла.
Слева, за неширокой площадью, освещенной огнями трамваев, виднелась большая стена, шедшая полукругом, и в ней большие, красивые ворота, широко открытые. Из них появлялись люди, которые влезали на площадки трамваев и ехали в город.
Дымов, хорошо знавший город, сразу увидел, где они находятся. Они стояли посреди Старо-Невского проспекта, и прямо против них был вход в Александро-Невскую лавру. Возчики стучали нога об ногу, стоя у подвод, старались согреться, размахивая руками, били друг друга по спине. Комиссар внимательно оглядывался по сторонам. Он то подходил к углу улицы, то возвращался к подводам. Мимо него с тяжелым скрежетом и звоном проносились трамваи. Но никто не обращал внимания на комиссара и на обоз. Точно они, как призрачные люди и подводы, пришли в город, который живет своей, ни на что не похожей жизнью и ему нет дела до этих ночных пришельцев. Дымов подошел к комиссару.
– Что будем делать? Куда пойдем?
Комиссар посмотрел на него, как будто впервые видел перед собой это обветренное, усталое юное лицо, и почесал щеку.
– Маяка-то нет, – сказал он, – тут было условлено – нас встретят, выставят маяк. Перерешили, что ли… Никого нет…
– Так пойдем прямо в штаб, в какой-нибудь районный, – воскликнул Дымов, – вы свяжетесь, и все в порядке!
– Не можем мы идти никуда, – ответил комиссар, облокачиваясь о подводу.
– Почему? – спросил Дымов, озадаченный решительным ответом Глебова.
– А, черт его, – вдруг мрачно произнес комиссар, – бодай его нечистую душу, я пропуск потерял. Тут этих патрулей было столько. Вытаскивал, вытаскивал то и дело. За обшлаг совал. Вытрясло, что ли… Теперь нам пути по городу нету без пропуска…
– Как же быть? – Дымову стало внезапно холодно, точно ему предложили проделать снова весь путь в обратном порядке.
Возчик-колонист, который говорил с комиссаром о сене, тронул Глебова за плечо, но тот, как зачарованный, смотрел на ворота лавры, откуда выезжали в эту минуту грузовики, полные людей.
Потом вход в лавру закрыл трамвайный вагон, тащивший на прицепе платформу с песком и мешками.
Колонист снова тронул плечо Глебова.
– Что тебе? – спросил комиссар.
Показывая какой-то лоскут бумаги, возница проговорил:
– Не нужно это, начальник? Свернуть можно – бумага мягкая…
Глебов взял от него лоскут.
– Где нашел?
– Тут внизу валялся. Думал, ты, начальник, бросил. Курить можно?
– Я тебе дам курить, – воскликнул Глебов, – это пропуск мой. Он из обшлага, нечистый дух, выпал.
И, пряча снова за обшлаг поглубже пропуск и не обращая внимания на возницу, он сказал, схватив за руку Дымова:
– Нечего ждать и некого искать тут на улице. Будем ночевать. Все устали – и лошади и люди. Будем ночевать…
– А где? – спросил Дымов.
– Там, – указал на ворота лавры комиссар.
– В лавре?
– В лавре. Давай заворачивай туда всех. Скажи Мохину и Крынкину, чтобы смотрели, чтобы никто не отстал.
Это была, конечно, необыкновенная ночь. Никто не удивлялся тому, что совершалось в эту ночь. Поэтому обоз из восемнадцати подвод тяжело прокатился под гулкими сводами ворот лавры и втянулся внутрь этого городка могил, церквей и служебных домов.
Во внутренних пространствах лавры Дымов никогда не был, и все-таки он понимал, что в лавре полный переворот, потому что он видел не только белые кресты и черные ржавые венки, но и освещенные, несмотря на такой поздний час, окна в зданиях, выходящих на могилы, и множество людей в закоулках между деревьями и домами, и даже лошадей, не принадлежащих к его обозу.
– Слушай, – сказал ему Глебов, – я тут оставлю Крынкина и Мохина с этими друзьями, – он кивнул головой на колонистов, – а мы с тобой разделимся и пойдем на разведку, может быть, крышу найдем для людей, а лошади пусть пока тут постоят.
И вдруг все стало походить на цыганский табор. Возницы распрягали лошадей, откуда-то появились попоны, одеяла, начался гвалт, шум, возня, слышался начальственный голос Крынкина, наводившего порядок.
– Нехорошо, – сказал Мохин, – товарищ комиссар, это нехорошо…
– Что это нехорошо? – спросил Глебов, оглядываясь, как полководец в пылу боя. – Что вам кажется нехорошим?
– Нехорошо, что на кладбище заехали…
– Э, это, наоборот, хороший знак, сто лет жить будем, – засмеялся Глебов, – поищем, может, для ночлега что другое найдем… Пошли, молодой… Я сейчас со штабом попытаюсь связаться.
Глебов направился в сторону ворот. Дымов пошел к двухэтажному дому, в окнах которого был такой ясный, спокойный свет, что просто манило к этому тихому и уютному свету.
Дымов прошел к нему напрямик через кусты, осторожно раздвигая ветви, бережно, чтобы не поломать, и дошел до высокой стены дома. Пройдя вдоль нее, он не обнаружил двери; по-видимому, вход был с противоположной стороны. Прямо над ним светилось так манившее его окно, за спиной он видел близко белевшие кресты на могилах.
Он нашел приступок, встав на который можно было заглянуть вовнутрь, но только на мгновение, потому что приступок был скользок и ноги на нем не держались. Напрягаясь изо всех сил, Дымов приподнялся на приступке и заглянул в окно. Перед ним была небольшая комната, освещенная настольной лампой, которую он не видел, так как она была на столике рядом с окном. В комнате стояли две или три кровати.
Дымов видел только спину женщины, сидевшей с книгой у кровати, на кровати лежал страшно бледный, с темными тенями у глаз, в повязке, охватывавшей всю голову, молодой человек. Его неестественно раскрытые глаза смотрели на женщину в белом халате, но он, по-видимому, не слушал, что она ему читала. Он думал о чем-то своем. Он весь ушел в свои мысли. Женщина перевернула страницу. Вдруг глаза его перекинулись на окно, и он, возможно, увидел голову Дымова. Голова в окне так поразила его, что он закричал. Дымов не мог слышать его крика, но видел, как женщина вскочила, бросилась к нему. Дымов потерял равновесие и, пролетев по стене, стоял, собираясь с духом. «Это госпиталь, сиделка читает. Больше нечего выяснять», – подумал он. Ему захотелось еще раз взглянуть, – а что, если сиделка обернется, подойдет к окну и откроет его. Он тогда попросит ее пустить их с комиссаром куда-нибудь переспать до утра.
Он совершенно не был уверен, что так и будет, но что-то надо было делать. Он с трудом вскарабкался на приступок и посмотрел в палату, прижав лицо вплотную к стеклу. Сиделка действительно встала и даже оглянулась на окно, но что было дальше, он не мог видеть, потому что снова соскользнул вниз. Когда Дымов в третий раз утвердился на своем приступке, он ничего уже не увидел: окно было закрыто плотной занавеской.
По-видимому, сиделка решила, что больному что-то кажется в окне, и опустила занавеску.
Дымов пошел обратно через кусты. Он обошел продолжавший галдеть табор, где уже два начальственных голоса – Крынкина и Мохина – наводили порядок, и скоро стоял перед длинным зданием с высокими окнами и дверями, у каждой двери было что-то вроде крыльца, с широкими, плоскими ступенями, на которых валялись пожухлые, свернувшиеся листья.
Перед одной наглухо закрытой дверью, на золоченом стуле, – этот золоченый стул особенно поразил Дымова, – сидел монах, казавшийся неестественно большим из-за огромной, обтекавшей его, как мантия, рясы. Он сидел, как восковая кукла, нелепый, неподвижный, насторожившийся. Его глаза застыли. Казалось, он заслушался нестройным гомоном человеческих голосов, долетавших отовсюду, конским ржаньем, визгом, бессвязным криком, всей суматохой ночного лагеря, в который превратили лавру.
Он весь замер, только его толстые пальцы тихо, но быстро перебирали четки, желтые старые янтарные четки. Испуг был написан на его темно-оранжевом, как кусок мяса, лице и светился в его глазах, следивших с крайней растерянностью за всеми движениями дьявола.
Дьявол же был необычен, и даже Дымов немного опешил, увидя его. Он был молод, слегка раскос, скуласт, дышал дьявольской молодостью и силой, он разгуливал в лохматой, сбитой набекрень папахе, сверкая зелеными глазами, показывая большие сахарные зубы, смеясь узким и сильным смехом. Он размахивал нагайкой, которая то со свистом резала воздух перед лицом ошеломленного монаха, то проносилась низко над землей и, совсем ослабев, ударялась легко о желтые высокие сапоги с приподнятыми носками. У пояса дьявола болталась шашка, изогнутая с какой-то наглой щеголеватостью.
Этот дьявол прохаживался перед монахом, изредка свистел каким-то колдовским свистом. По такому свисту является или волшебный конь, или нечто вроде джинна-помощника. Монах ждал страшного конца и, чтобы отдалить его, судорожно перебирал четки, пот тек по его жирным, дряблым щекам. Губы тряслись.
Дымов подошел ближе, как раз когда дьявол в папахе взмахнул нагайкой, как шашкой, рассек воздух перед самым носом монаха с такой силой, что воздух заскрипел, и монах, не выдержав, закрестился мелкими крестиками, забыв про четки.
Увидев Дымова, вид которого говорил о его принадлежности к Красной Армии, дьявол широко раскрыл рот, блеснув ослепительной улыбкой, и сказал:
– Батька шайтан какой, сидит, как бык, квартир не дает… Дай, говорю – не дает… Ах ты, батька шайтан…
– Так вы тоже квартиру ищете, – воскликнул Дымов радостно.

Было просто удивительно, что такой, как из сказки, невесть откуда взявшийся наездник вдруг, как и они с комиссаром, добивается приюта под крышей. С таким союзником Дымов, конечно, почувствовал себя куда сильнее. Но монах, услышав, что новый появившийся красный дьявол и старый, ему знакомый, говорят по-человечески, обрел неожиданную подвижность. Как будто с него слетело все оцепенение, он вскочил, схватил свой золоченый стул, толкнул широкой спиной дверь, влетел в нее с легкостью дымного облака и захлопнул ее так стремительно, что закричавший проклятье дьявол в папахе не успел достать его нагайкой. Она со свистом ударилась о запертую дверь и прокатилась по ней сверху вниз.
Дымов невольно засмеялся. Засмеялся и широкоскулый великан и ударил нагайкой по сапогу.
– Пойдем, – сказал он, показывая нагайкой в глубину лаврских дворов, – башкирска дивизья… – добавил он.
Они пошли. Дымов увидел зарево над деревьями, костры оказались совсем рядом. Они были поставлены, как на сцене, среди могил и домов, и то, что они горели, треща, бросая золотые и красные отсветы на кресты и стены, делало все место необычным. Дымову стало страшно весело. Странно было вспомнить, что еще совсем недавно он шел по пустынной, холодной, черной дороге и думал грустные думы. И вдруг все заиграло перед ним огнями, шумом, разбежалось раздольем, раскрылось в каких-то глубоких неожиданностях.
Казалось, что это все происходит не в центре Петрограда, не в Александро-Невской лавре, а где-то на просторах степей, среди никогда не виденных им людей, которые толпились вокруг в удивительных шапках и нарядах. Но еще удивительнее были их лица, сиявшие при свете костров, как бронзовые маски, их тонкие коричневые руки, державшие винтовки и шашки или гладившие коней, морды которых как бы усмехались, высовываясь из кустов, звеня блестящими уздечками.
Дымов не мог отвести глаз от окружавшего его зрелища, потом стал искать своего знакомца, но он как будто растаял в родственной ему обстановке, слился с толпой, и как ни пробовал его отыскать Дымов, он все время натыкался на другого, похожего, и вот он уже совсем нашел его и хотел ударить по плечу, но это был двойник, совершенно схожий с тем великаном, но не он. Этот великан что-то добродушно сказал ему, фыркнул шутливо и отвернулся. Так, побродив среди пестрого бивака башкирской конницы, Дымов вернулся к месту, где сидел монах, но там уже было пусто, и только сцарапанная краска на двери, узкая полоса удара нагайки, напоминала о происшедшем.
Дымов набрел на какой-то проход, под слабо освещенной аркой. Он вел куда-то в глубину здания. Из этой глубины выходили люди. Все они были военные. Другие лежали на земле под аркой. Дымов пошел к этим лежащим, чтобы узнать, в чем дело. Может быть, они расположились на ночлег прямо на земле. Тут появилась группа людей, двигавшихся с криком и шумом. Среди них, размахивая руками во все стороны, шла женщина в халате и человек с повязкой на рукаве. На повязке Дымов увидел красный крест.