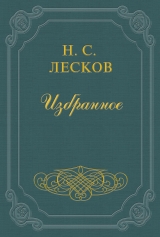
Текст книги "Обойдённые"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
Глава восьмая
Пансионер
Нестор Игнатьевич зажил так, как еще не жилось ему ни одного дня с самого выхода из отцовского дома. Постоянная внутренняя тревога и недовольство и собою, и всем окружающим совершенно его оставили в доме Анны Михайловны. Аккуратный, как часы, но необременительный, как несносная дисциплина, порядок в жизни его хозяек возвратил Долинского к своевременному труду, который сменялся своевременным отдыхом и возможными удовольствиями. Всякий день неизменно, в восемь часов утра, ему приносили в его комнату стакан кофе со свежею булкою; в два часа Дорушка звала его в столовую, где был приготовлен легкий завтрак, потом он проходил с Дорою (которой была необходима прогулка) от Владимирской до Адмиралтейства и назад; в пять часов садились за стол, в восемь пили вечерний чай и в двенадцать ровно расходились по своим комнатам.
В неделю раза два Долинский с Дорой бывали в театре. Дни у них проходили за делом, но вечерами они не отказывали себе в роздыхе и некоторых удовольствиях. Жизнь шла живо, ровно, без скуки, без задержки.
Пансионер совершенно привык к порядкам своего пансиона и удивлялся, как мог он жить иначе столько лет сряду!
Со смертью своей благочестивой матери, Нестор Игнатьевич разлучился со стройной домашней жизнью. Жизнь у дяди, в которой поверх всего плавало и все застилало собою эгоистическое самовластие его тетки, оставила в нем одни тяжелые воспоминания. Воспоминания о семейной жизни с женою и тещею, уничтожившими своею требовательностью всякую его свободу и обращавшими его в раба жениной суетности и своекорыстия, были еще отвратительнее. С тех пор Нестор Игнатьевич вел студенческую жизнь в Латинском квартале Парижа, то есть жил бездомовником и отличался от прочих, истинных студентов только разве тем, что немножко чаще их просиживал вечера дома за книгою и реже таскался по ресторанам, кафе и балам Прадо. Впрочем, несмотря на это, Нестор Игнатьевич все-таки совсем отучился вовремя встать, вовремя лечь и в свое время погулять. Обращать светлый день в скучную ночь, и скучную ночь в бедный радостями день для него не составляло ничего необыкновенного. Он знал, что ему будет скучно на балу, потому что все удовольствия этого бала можно было всегда рассказать вперед – и все-таки он шел от скуки на бал и от скуки зевал здесь, пока не пустела зала. От скуки он валялся в постели до самого вечера; между тем позарез нужно было изготовить срочную корреспонденцию, и потом вдруг садился, читал листы различных газет, брошюр и работал напролет целые ночи. Огромный расход сил и постоянная тревога, происходящая оттого, что работа врывалась в сроки отдыха, а отдыху посвящалось время труда, вовсе не обращали на себя внимания Долинского.
– Все равно, как ни живи, – все скучно, – говаривал он себе, когда нестройность жизни напоминала ему о себе утомлением, расстройством нервной системы, или неудачей догнать бесполезно потерянное время в работе.
Теперь он не мог надивиться, как в былое время у него недоставало досуга написать в неделю двух довольно коротких корреспонденции, когда нынче он свободно вел порученный ему целый отдел газеты и на все это не требовалось ни одной бессонной ночи. Нестор Игнатьевич не только успевал кончить все к шести часам вечера, когда к нему приходил рассыльный из редакции, но даже и из этого времени у него почти всегда оставалось несколько свободных часов, которые он мог употребить по своему произволу. С шести часов он обыкновенно сидел в столовой и что-нибудь читал своим хозяйкам. Анна Михайловна любила чтение, хотя в последнее время за хлопотами и недосугами читала далеко меньше, чем Дора. Эта перечитала бог знает сколько и, обладая неимоверной памятью. обо всем имела собственное, иногда не совсем верное, но всегда вполне независимое мнение.
Гостей у Анны Михайловны и у Дорушки бывало немного; даже можно сказать, что, кроме Ильи Макаровича, у них почти никто не бывал, но к Долинскому кое-кто таки навертывался, особенно из газетчиков. По семейному образу жизни, который Долинский вел у Прохоровых, его знакомые незаметным образом становились и знакомыми его хозяек. Газетчики для Дорушки были народ совершенно новый, и она очень охотно с ними знакомилась, но потом еще скорее начинала тяготиться этим знакомством и старалась от них отделываться. Особенно ее антипатией были два молодые газетчика: Спиридон Меркулович Вырвич и Иван Иванович Шпандорчук. Это были люди того нехитрого разбора, который в настоящее время не представляет уже никакого интереса. Нынче на них смотрят с тем же равнодушием, с каким смотрят на догорающий дом, около которого обломаны все постройки и огонь ничему по соседству сообщиться не может; но было другое, старое время, года три-четыре назад, когда и у нас в Петербурге и даже частью в просторной Москве на Неглинной без этих людей, как говорят, и вода не святилась. Было это доброе, простодушное время, когда в известных слоях петербургского общества нельзя было повернуться, не сталкиваясь с Шпандорчуком или Вырвичем, и когда многими нехитрыми людьми ум и нравственные достоинства человека определялись тем, как этот человек относится к Шпандорчукам и Вырвичам. Такое положение заставляет нас несколько оторваться от хода событий и представить читателям образцы, может быть, весьма скудных размеров, выражающих отношение Доры, Анны Михайловны и Долинского к этому редкостному явлению петербургской цивилизации.
И Шпандорчук, и Вырвич в существе были люди незлые и даже довольно добродушные, но недалекие и бестактные. Оба они, прочитав известный тургеневский роман, начали называть себя нигилистами. Дора тоже прочла этот роман и при первом слове кстати сказала:
– Нет, вы совсем не нигилисты.
– Как это, Дарья Михайловна?
– Да так, не нигилисты, да и только.
– Как же, когда мы сами говорим вам, что мы в бога не веруем и мы нигилисты.
– Сами вы можете говорить что вам угодно, а все-таки вы не то, что тут названо нигилистом.
– Так что же мы такое по-вашему?
– Бог вас, господа, знает, что вы такое!
– Вот это-то и есть; вот такие-то люди, как мы, и называются нигилистами.
– Знаете, по-моему, как называются такие люди, как вы? – спросила, смеясь, Дора.
– Нет, не знаем; скажите, пожалуйста.
– А не будете сердиться?
– Сердиться глупо. Всякая свобода – наш первый принцип.
– Так видите ли, такие люди, как вы, называются скучные люди.
– А! А вам веселья хочется.
– Да не веселья, но помилуйте, что же это целую жизнь сообщать, в виде новостей, то, что каждому человеку давно очень хорошо известно: «А знаете ли, что мужик тоже человек? А знаете ли, что женщина тоже человек? А знаете ли, что богачи давят бедных? А знаете ли, что человек должен быть свободен? Знаете ли, что цивилизация навыдумывала пропасть вздоров?» – Ведь это ж, согласитесь, скучно! Кто ж этого не знает, и какой же умный человек со всем этим давно не согласен? И главное дело, что все-то вы нас учите, учите… Право, даже страшно подумать, какие мы, должно быть, все умные скоро поделаемся! А в самом-то деле, все это нуль; на все это жизнь дунет – и все это разлетелось; все выйдет совсем не так, как написано в рецепте.
– Да вот, то-то и есть, Дарья Михайловна, что вы и сами выходите нигилистка.
– Я! Боже меня сохрани! – отвечала Дора и как бы в доказательство тотчас же перекрестилась.
– Да что же дурного быть нигилисткой?
– Ничего особенно дурного и ничего особенно хорошего, только на что мне мундир? Я не хочу его. Я хочу быть свободным человеком, я не люблю зависимости.
– Да это и значит быть независимой. Вы сами не знаете, что говорите.
– Благодарю за любезность, но не верю ей. Я очень хорошо знаю, что я такое. У меня есть совесть и, какой случился, свой царь в голове, и, кроме их. я ни от кого и ни от чего не хочу быть зависимой, – отвечала с раздувающимися ноздерками Дора.
– Крайнее свободолюбие!
– Самое крайнее.
– Но можно найти еще крайнее.
– Например, можно даже стать в независимость от здравого смысла.
– А что ж! Я, пожалуй, лучше соглашусь и на это! Лучше же быть независимою от здравого смысла, и так уж и слыть дураком или дурой, чем зависеть от этих господ, которые всех учат. Моя душа не дудка; и я не позволю на ней играть никому, – говорила она в пылу горячих споров.
– Ну, а что же будет, если вы, в самом деле, наконец станете независимым от здравого смысла, – отвечали ей.
– Что? Свезут в сумасшедший дом. Все же, говори. вам, это гораздо лучше, чем целый век слушать учителей. сбиться с толку и сделаться пешкой, которую, пожалуй, еще другие, чего доброго, слушать станут. Я жизни слушаюсь.
– Да ведь странны вы, право! Теорию ведь жизнь же выработала, – убеждали Дору.
– Нет-с; уж это извините, пожалуйста; этому я не верю! Теория—сочинение, а жизнь—жизнь. Жизнь– это то. что есть, и то, что всегда будет.
– Значит, у вас человек—раб жизни?
– Извините, у меня так: думай что хочешь, а делай что должен.
– А что же вы должны?
– Должна? Должна я прежде всего работать и как можно больше работать, а потом не мешать никому жить свободно, как ему хочется, – отвечала Дора.
– А не должны вы, например, еще позаботиться о человеческом счастье?
– То есть как же это о нем позаботиться? Кому я могу доставить какое-нибудь счастье—я всегда очень рада: а всем, то есть целому человечеству – ничего не могу сделать: ручки не доросли.
– Эх-с, Дарья Михайловна! – ручки-то у всякого доросли, да желанья мало.
– Не знаю-с, не знаю. Для этого нужно очень много знать, вообще надо быть очень умным, чтобы не поделать еще худшей бестолочи.
– Так вы и решаете быть в сторонке?
– Мимо чего пойду, то сделаю – позволения ни у кого просить не стану, а то, говорю вам, надо быть очень умной.
– Нестор Игнатьич! Да полноте же, батюшка, отмалчиваться! Какие же, наконец, ваши на этот счет мнения? – затягивали Долинского.
– Это, господа, ведь все вещи решенные: «ищите прежде всего царствия Божия и правды Его, а вся сия приложатся вам».
– Фу ты, какой он! Так от него и прет моралью! Что это за царствие, и что это за правда?
– Правда? Внутренняя правда – быть, а не казаться.
– А царствие?
– Да что ж вы меня расспрашиваете? Сами возраст имате; чтите и разумейте.
– Это о небе.
– Нет, о земле.
– Обетованной, по которой потечет мед и млеко?
– Да, конечно, об обетованной, где несть ни раб, ни свободь, но всяческая и во всех один дух, одно желание любить другого, как самого себя.
– Я за вас, Нестор Игнатьич! – воскликнула Дора.
– Да и я, и я! – шумел Журавка.
– И я, – говорили хорошие глаза Анны Михайловны.
– Широко это, очень широко, батюшка Нестор Игнатьич, – замечал Вырвич.
– Да как же вы хотите, чтобы такая мировая идея была узка, чтобы она, так сказать, в аптечную коробочку, что ли, укладывалась?
– То-то вот от ширины-то ее ей и не удается до сих пор воплотиться-то; а вы поуже, пояснее формулируйте.
– Да любви мало-с. Вы говорите: идея не воплощается до сих пор потому, что она очень широка, а посмотрите, не оттого ли она не воплощается, что любви нет, что все и во имя любви-то делается без любви вовсе.
Дорушка заплескала ладонями.
Эти споры Доры с Вырвичем и с Шпандорчуком обыкновенно затягивались долго. Дора давно терпеть не могла этих споров, но, по своей страстной натуре, все-таки опять увлекалась и опять при первой встрече готова была спорить снова. Шпандорчук и Вырвич тоже не упускали случая сказать ей нарочно что-нибудь почудней и снова втянуть Дорушку в споры. За глаза же они над ней посмеивались и называли ее «философствующей вздержкой».
Дора с своей стороны тоже была о них не очень выгодного мнения.
– Что это за люди? – говорила она Долинскому, – все вычитанное, все чужое, взятое напрокат, и своего решительно ничего.
– Да чего вы на них сердитесь? Они сколько видели, сколько слышали, столько и говорят. Все их несчастье в том, что они мало знают жизнь, мало видели.
– И еще меньше думали.
– Ну, думать-то они, пожалуй, и думают.
– Так как же ни до чего путного не додумаются?
– Да ведь это… Ах, Дарья Михайловна, и вы-то еще мало знаете людей!
– Это и неудивительно; но удивительно, как они Других учат, а сами как дети лепечут! Я по крайней мере нигде не видная и ничего не знающая человечица, а ведь это… видите… рассуждают совсем будто как большие!
Долинский и Дора вместе засмеялись.
– Нет, а вы вот что, Нестор Игнатьич, даром что вы такой тихоня, а прехитрый вы человек. Что вы никогда почти не хотите меня поддержать перед ними? – говорила Дора.
– Да не в чем-с, когда вы и сами с ними справляетесь. Я би ведь так не соспорил, как вы.
– Отчего это?
– Да оттого, что за охота с ними спорить? Вы ведь их ничем не урезоните.
– Ну-с?
– Ну-с, так и говорить не стоит. Что мне за радость открывать перед ними свою душу! Для меня что очень дорого, то для них ничего; вас вот все это занимает серьезно, а им лишь бы слова выпускать; вы убеждаетесь или разубеждаетесь в чем-нибудь, а они много – что если зарядятся каким-нибудь впечатлением, а то все так…
– Это, выходит, значит, что я глупо поступаю, споря с ними?
Долинский тихо улыбнулся.
– Ммм! Какой любезный! – произнесла Дора, бросив ему в лицо хлебным шариком.
– Вы думаете, что для них ошибаться в чем-нибудь – очень важная вещь? Жизни не будет стоить; скажет: ошибся, да и дело к стороне; не изболит сердцем, и телом не похудеет.
– Ах, Нестор Игнатьич, Нестор Игнатьич! Кому ж, однако, верить-то остается? А ведь нужно же кому-нибудь верить, хочется, наконец, верить! – говорила задумчиво Дора.
– Веруйте смелее в себя, идите бодрее в жизнь; жизнь сама покажет, что делать: нужно иметь ум и правила, а не расписание, – успокаивал ее Долинский, и у них переменялся тон и заходила долгая, живая беседа, кончая которую Даша всегда говорила: зачем эти люди мешают нам говорить?
Долинский сам чувствовал, что очень досадно, зачем эти люди мешают ему говорить с Дорой, а эти люди являлись к ним довольно редко и раз от разу посещения их становились еще реже.
– Ну, какое сравнение разговаривать, например, с ними, или с простодушным Ильею Макаровичем? – спрашивала Дора. – Это – человек, он живет, сочувствует, любит, страдает, одним словом, несет жизнь; а те, точно кукушки, по чужим гнездам прыгают; точно ученые скворцы сверкочат: «Дай скворушке кашки!» И еще этакие-то кукушки хотят, чтобы все их слушали. Нечего сказать, хорошо бы стало на свете! Вышло бы, что ни одной твари на земле нет глупее, как люди.
– Это мы вам обязаны за такое знакомство, – шутила она с Долинским. – К нам прежде такие птицы не залетали. А, впрочем, ничего – это очень назидательно.
– А не спорить я все-таки не могу, – говорила она в заключение.
Вырвич и Шпандорчук пробовали заводить с Дорушкой речь о стесненности женских прав, но она с первого же слова осталась к этому вопросу совершенно равнодушною. Развиватели дали ей прочесть несколько статей, касавшихся этого предмета; она прочла все эти статьи очень терпеливо и сказала:
– Пожалуйста, не носите мне больше этого сора.
– Неужто, – говорили ей, – вы не сочувствуете и тому, что люди бьются за вас же, бьются за ваши же естественные права, которые у вас отняты?
– Я очень довольна моими правами; я нахожу, что у меня их ровно столько же, сколько у вас, и отнять их у меня никто не может, – отвечала Дора.
– А вот не можете быть судьей.
– И не хочу; мне довольно судить самое себя.
– А других вы судите чужим судом?
– Нет, своим собственным.
– Спорщица! Когда ты перестанешь спорить! – останавливала сестру Анна Михайловна, обыкновенно не принимавшая личного участия в заходивших при ней длинных спорах.
– Не могу, Аня, за живое меня задевают эти молодые фразы, – горячо отвечала Дора.
– Но позвольте, ведь вы могли бы пожелать быть врачом? – возражал ей Шпандорчук.
– Могла бы.
– И вам бы не позволили.
– Совершенно напрасно не позволили бы.
– А все-таки вот взяли бы, да и не позволили бы.
– Очень жаль, но я бы нашла себе другое дело. Не только света, что в окне.
– Ну, хорошо-с, ну, положим, вы можете себе создать этакое другое независимое положение, а те, которые не могут?
– Да о тех и говорить нечего! Кто не умеет стать сам. того не поставите. Белинский прекрасно говорит, что том'. нет спасения, кто в слабости своей натуры носит своего врага.
– Ах, да оставьте вы, сделайте милость, в покое вашего Белинского! Помилуйте, что же это, приговор, что ли. что сказал Белинский?
– В этом случае, да – приговор. Попробуйте-ка отнять независимость у меня, у моей сестры, или у Анны Анисимовны! Не угодно ли?
– Что за Анна Анисимовна?
– А, это счастливое имя имеет честь принадлежать совершенно независимой швее из нашего магазина.
Дорушка любила ставить свою Анну Анисимовну в пример и охотно рассказывала ее несекретную историю.
– Вот видите! – говорили ей после этого рассказа развиватели, – а легко зато этой Анне Анисимовне?
– Ну, господа, простите меня великодушно! – запальчиво отвечала Дора. – Кто смотрит, легко ли ему, да еще выгодно ли ему отстоять свою свободу, тот ее не стоит и даже говорить о ней не должен.
– Да, женщина, почти каждая – раба; она раба и в семье, раба в обществе.
– Потому что она большей частью раба по натуре.
– То есть как это? Не может жить без опеки?
– Не хочет-с, не хочет сама себе помогать, продает свою свободу за кареты, за положение, за прочие глупые вещи. Раба! Всякий, кто дорожит чем-нибудь больше, чем свободой, – раб. Не все ли равно, женщина раба мужа, муж раб чинов и мест, вы рабы вашего либерализма, соболи, бобры – все равны!
– Даже досюда идет!
– А еще бы! Ведь вы не смеете, быть не либералом?
– Потому что мы убеждены…
– Убеждены! – с улыбкой перебивала Дора. – Не смеете, просто не смеете. Не знаете, что делать; не знаете, за что зацепиться, если вас выключат из либералов. От жизни даже отрекаетесь.
– Вот то-то, Дарья Михайловна, – говорили ей, – не знаете вы, сколько труда в последнее время положено за женщину.
– Это правда. Только я, господа, об одном жалею, что я не писательница. Я бы все силы мои употребила растолковать женщинам, что все ваши о нас попечения… просто для нас унизительны.
– Да что ж, Дарья Михайловна, унизительно, вы говорите? Позвольте вам заметить, что в настоящем случае вы несколько неосторожно увлеклись вашим самолюбием. Мы хлопочем вовсе и не о вас – то есть не только не о вас лично, а и вообще не об одних женщинах.
– ао себе – я это так и догадывалась.
– Да хотя бы-с и о себе! Пора, наконец, похлопотать и о себе, когда на нас ложится весь труд и тяжесть заработка; а женщины живут в тягость и себе, и другим – ничего не делают. Вопрос женский – общий вопрос.
– Да то-то вот; пожалуйста, хоть не называйте же вы этого вопроса женским.
– А как же прикажете его называть в вашем присутствии?
– Барыньский, дамский — одним словом, как там хотите, только не женский, потому что, если дело идет о том, чтобы русская женщина трудилась, так она, русская-то женщина, monsieur Шпандорчук, всегда трудилась и трудится, и трудится нередко гораздо больше своих мужчин. А это вы говорите о барышнях, о дамах – так и не называйте же ихнего вопроса нашим, женским.
– Мы говорим вообще о развитой женщине, которая в наше время не может себе добыть хлеба.
– Развившаяся до того, что не может добыть себе хлеба! Ха-ха-ха!..
Дорушка неудержимо расхохоталась.
– Не смешите, пожалуйста, людей, господа! Эти ваши таким манером развившиеся женщины не в наше только время, а во всякое время будут без хлеба.
– Нет-с, это немножко не так будет. А впрочем, где же эти ваши и не-дамы, и не-барышни, и уж, разумеется, тоже и не судомойки же, а женщины?
– А-а! Это, господа, уж ищите, да-с, ищите, как голодный хлеба ищет. Женщина ведь стоит того, чтоб ее поискать повнимательнее.
– Но где-с? Где?
– А-а! Вот то-то и есть. Помните, как Кречинский говорит о деньгах: «Деньги везде есть, во всяком доме, только надо знать, где они лежат; надо знать, как их взять. Так точно и женщины: везде они есть, в каждом общественном кружочке есть женщины, только нужно их уметь найти!» – проговорила Дорушка, стукая внушительно ноготком по столу.
– Да и о чем собственно речь-то? – вмешался Долинский. – Если об общем счастии, о мужском и о женском, то я вовсе не думаю, чтобы женщины стали счастливее. если мы их завалим работой и заботой; а мужчина, который, действительно, любит женщину, тот сам охотно возьмет на себя все тяжелейшее. Что там ни вводите, а полюбя женщину, я все-таки стану заботиться, чтобы ей было легче, так сказать, чтоб ей было лучше жить, а не буду производить над ней опыты, сколько она вытянет. Мне же приятно видеть ее счастливою и знать, что это я для нее устроил!
– Да-с, это прекрасно, только с одной стороны – со стороны поэзии; а вы забываете, что есть и другие точки, с которых можно смотреть на этот вопрос: например, с точки хлеба и брюха.
Долинский несколько смутился словом «брюхо» и отвечал:
– То есть вы хотите сказать: со стороны денег; ну, что же-с! Если женщина дает вам счастье, создает ваше благополучие, то неужто она не участвует таким образом в вашем труде и не имеет права на ваш заработок? Она ваш половинщик во всем – в горе и радостях. Как вы расцените на рубли влияние, которое хорошая женщина может иметь на вас, освежая ваш дух, поддерживая в вас бодрость, успокоивая вас лаской, одним словом – утешая вас своим присутствием и поднимая вас и на работу, и на мысль, и на все хорошее? Может быть, не половина, а восемь десятых, даже все почти, что вы заработаете, будет принадлежать ей, а не вам, несмотря на то, что это будет заработано вашими руками.
– Все же, я думаю, согласитесь вы, что нужно развить в женщине вкус, то есть я хотел сказать, развить в ней любовь и к труду, и к свободе, чтоб она умела ценить свою свободу и ни на что ее не променивала.
– Да против этого никто ничего не говорит. Давай им бог и этой любви к свободе, и уменья честно достигать ее – одно другому ничуть не мешает.
– Кто ценит свою свободу, тот ни на что ее и так не променяет, тот и сам отстоит ее и совсем не по вашим рецептам, – равнодушно сказала Дора.
– А вы забываете наши милые законы, – заговорил, переменяя тон, Шпандорчук.
– Очень они мне нужны, ваши законы! Я сама себе закон. Не убиваю, не краду, не буяню – какое до меня дело закону?
– Ну, а если вы полюбите и закон станет вам поперек дороги?
– Что за вздор такой вы сказали! Где же есть для любви законы? Люблю – вот и все.
– И как же будете поступать?
– Как укажет мое чувство. Нет, все вы, господа, – рабы, – заканчивала Дора.
С нею обыкновенно никто из спорящих не соглашался и даже нередко ставили Дорушку в затруднительное положение заученными софизмами, ко всего чаще она наголову побивала своею живою и простою речью всех своих ученых противников, и Нестор Игнатьевич ликовал за нее, молча похаживая по оглашенной спором комнате.
– Бедовая эта ученая швейка! – говорили о ней ее новые знакомые.
– Да, рассуждает!
– Придет, брат, видно, точно, шекспировское время, что мужик станет наступать на ногу дворянину и не будет извиняться. Я, разумеется, понимаю дворянина мысли.
– Ну, еще бы!
– Над ней, однако, очень бы стоило поработать прилежно, – заключил Вырвич.
– Очень жаль, что вы без системы все читаете, – поучительно заявлял он ей один раз.
– Напротив, спросите Нестора Игнатьевича; я его, я думаю, замучила, заставляя переводить себе.
– Нестор Игнатьич – известный старовер.
– А какая же новая-то есть вера? – спросил сквозь зубы Долинский.
– Вера в лучших людей и в лучшее будущее.
– Это самая старая вера и есть, – так же нехотя и равнодушно отвечал Долинский.
– Да-с, да это не о том, а о том, что Дарья Михайлов-па с вами, я думаю, в чем ведь упражняется? Все того же Шекспира, небось, заставляет себе переводить?
– Русских журналов я более не читаю, – отвечала за Делийского Дора.
– Это за что такая немилость?
– Нечего читать. Своих прежних писателей я всех знаю, а новых… да и новых, впрочем, знаю.
– Даже не читавши!
– А это вас удивляет? Тут ничего нет такого удивительного. Дело очень известное: все ведь почти они на один фасон! Один говорит: пусть женщина отдается по первому влечению, другой говорит – пусть никому не отдается; один учит, как наживать деньги, другой – говорит, что деньги наживать нечестно, что надо жить совсем иначе, а сам живет еще иначе. Все одна докучная басня: «жили были кутыль да журавль; накосили они себе стожок сенца, поставили посередь польца, не сказать ли вам опять с конца?» – зарядила сорока «Якова», и с тем до всякого.
– А у вашего Шекспира?
– А у моего Шекспира? А у моего Шекспира – вот что: я вот сегодня устала, забила свою голову всякой дрязгой домашней, а прочла «Ричарда»—и это меня освежило; а прочитай я какую-нибудь вашу статью или нравоучение в лицах – я бы только разозлилась или еще больше устала.
– В Ричарде Третьем—жизнь!.. О, разум! – к тебе взываю. Что это такое, эта Анна? Урод невозможный. Живая на небо летит за мертвым мужем, и тут же на шею вешается его убийце. Помилуйте, разве это возможно.
– Иль палец выломить любя, как леди Перси, – вставил со своей стороны Шпандорчук.
– Да… и палец выломить, – спокойно отвечала Дора.
– Так уж, последовательно идя, почему ж не свернуть любя и голову?
– Да… свернуть и голову.
– Любя!
Дорушка помолчала и, посмотрев на обоих оппонентов, медленно проговорила, качая своей головкою:
– Эх, господа, господа! Какие у вас должны быть крошечные-крошечные страстишки-то! – Она приложила палец к концу ногтя своего мизинца и добавила, – вот этакие должно быть, чупушные, малюсенькие; меньше воробьиного носка.
– Прекрасно-с! Ну, пусть там страсти, так и страсти; но зачем же в небо-то было лезть?
– Да что вы так этого неба боитесь? Не беспокойтесь, пожалуйста, никто живьем ни в небо не вскочит, ни в землю совсем не закопается.
Журавка обыкновенно фыркал, пыхал, подпрыгивал и вообще ликовал при этих спорах. Вырвич и Шпандорчук один или два раза круто поспорили с ним о значении художества и вообще говорили об искусстве неуважительно. Илья Макарович был плохой диалектик; он не мог соспорить с ними и за то питал к ним всегдашнюю затаенную злобу.
Чуть, бывало, он завидит их еще из окна, как сейчас же завертится, забегает, потирает свои руки и кричит:
«Волхвы идут! волхвы, гадатели! Сейчас будут нам будущее предсказывать».
С появлением Вырвича и Шпандорчука Журавка стихал, усаживался в уголок и только тихонько пофыркивал. Но зато, пересидев их и дождавшись, когда они уйдут, он тотчас же вскакивал и шумел беспощадно.
– Кошлачки! Кошлачки! – говорил он о них, – отличные кошлачки! Славные такие, все как на подбор шершавенькие, все серенькие, такие, что хоть выжми их, так ничего живого не выйдет… То есть, – добавлял он, кипятясь и волнуясь, – то есть вот, что называется, ни вкуса-то, ни радости, опричь самой гадости… Торчат на свете, как выветрелые шишки еловые… Тьфу, вы, сморчки ненавистные!
Долинский всей душой сочувствовал Доре, но вследствие ее молодости и детского ее положения при нежной, страстно ее любящей сестре, он привык смотреть на нее только как на богато одаренное дитя, у которого все еще… не устоялось и бродит. Он очень любил Дору и с удовольствием исполнял каждое ее желание, но ко многим ее требованиям относился как к капризам ребенка и даже исполнял их с снисходительной улыбкой. Дорушка, при всем своем уме и прочих хороших качествах, действительно, иногда позволяла себе немножко покапризить, и материнское снисхождение Анны Михайловны к этим капризам упрочивало за ее сестрою положение дитяти. В поведении Дорушки таки случались своего рода грешки и странности, и Анна Михайловна не без основания говаривала, что Дора про себя самое поет романс:
То без речей, то говорлива, То холодна, то жжет в ней кровь.
Отношения Долинского к Анне Михайловне были совершенно иные. Это было что-то вроде благоговейного почтения. Долинский даже переменялся в лице, когда Анна Михайловна относилась к нему с вопросом. Он смотрел на нее как на что-то неприкосновенное, высшее обыкновенной женщины; разговаривал с ней он, не сводя своего взора с ее прекрасных глаз; держался перед ней как перед идолом: ни слова необдуманного, ни шутки веселой – словом, ничего такого, что он даже позволял себе в присутствии одной Доры – он не мог сделать при Анне Михайловне. Если Анна Михайловна, которая любила походить в сумерки по комнате, заводила с Долинским речь о делах, он весь обращался в слух, во внимание, и Анна Михайловна скоро стала чувствовать безотчетное влечение о всех своих нуждах и заботах поговорить с Нестором Игнатьевичем. В его беседе не было ни энергической порывчивости Доры, ни верхолетной суетливости Ильи Макаровича, и слова Долинского ближе ложились к сердцу тихой Анны Михайловны, чем слова сестры и художника. В чувстве Долинского к Анне Михайловне преобладало именно благоговейное поклонение высоким и скромным достоинствам этой женщины, а вместе и глубокая, нежная любовь, чуждая всякого знакомства с страстью. Анна Михайловна очень уважала в Долинском хорошего человека, жалела о его разбитой жизни и… ей нравилось то робкое благоговение к ней, которое она внушила этому человеку без всякого умысла, но которого, однако, не могла не заметить и которым не отказывало себе иногда скромно любоваться ее женское самолюбие.
Так прошел целый год. Все были счастливы, всем жилось хорошо, все были довольны друг другом. Илья Макарович, забегая раза два в неделю хватить водчонки, говорил Долинскому:
– Спасибо тебе, Несторка, отлично, братец, ты себя ведешь, отлично!
Илье Макаровичу и даже проницательной Доре и в ум не приходило пощупать Анну Михайловну или Долинского с их сердечной стороны. А тем временем их тихие чувства крепли и крепли.
Задумал Долинский, по Дорушкиному же подстрекательству, написать небольшую повесть. Писал он неспешно, довольно долго, и по мере того, что успевал написать между своей срочной работой, читал по кусочкам Анне Михайловне и Дорушке.
Сначала Дора, внимательно следившая за медленно подвигавшеюся повестью, не замечала в ней ничего, кроме ее красот или недостатков в выполнении; но вдруг внимание ее стало останавливаться на сильном сходстве характера самого симпатичного женского лица повести с действительным характером Анны Михайловны. Еще немножко позже она заметила, что ее всегда ровная и спокойная сестра следит за ходом повести с страшным вниманием; увлекается, делая замечания; горячо спорит с Дорой и просто дрожит от радости при каждой удачной сценке. Дописал Долинский повесть до конца и стал выправлять ее и окончательно приготовлять к печати. Через неделю он прочел ее всю разом в совершенно отделанном виде.








