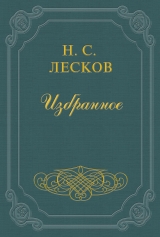
Текст книги "Обойдённые"
Автор книги: Николай Лесков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 22 страниц)
– Это редкое счастье, Жервеза.
– Ах правда, mademoiselle, что редкое! Мы оба с Генрихом такие… как бы вам сказать? Мы оба всегда умно ведем себя: мы целый день работаем, а уж зато, когда он приходит домой, mademoiselle, мы совсем сумасшедшие; мы все целуемся, все целуемся.
Дора и Долинский оба весело рассмеялись.
– Ax, pardon, monsieur, что я это при вас рассказываю!
– Пожалуйста, говорите, Жервеза; это так редко удается слышать про счастье.
– Да, это правда, а мы с Генрихом совсем сумасшедшие: как я ему только отворяю вечером дверь, я схожу с ума, и он тоже.
– А что вы думаете, Жервеза, об этом господине? Недурненький он или нет? – говорила Дора, прощаясь и указывая Жервезе на Долинского.
„Молочная красавица“ посмотрела на Нестора Игнатьича, который был без сравнения лучше ее Генриха, и улыбнулась.
– Что же? – переспросила ее Дора.
– Генрих лучше всего мира! – отвечала ей на ухо Жервеза. – Он так меня целует, – шептала она скороговоркой, – что у меня голова так кружится, кружится-кружится, и я ничего не помню после.
На первой полуверсте от дома молочной красавицы Дорушка остановилась раз шесть и принималась весело хохотать, вспоминая наивную откровенность своей Марии.
– Да-с, однако, шутить-то с вашей Марией не очень легко: за ухо приведет и скажет: нет, ты мой муж; помни это, голубчик! – говорил Долинский.
– Ну, да, да, это очень наивно; но ведь она на это имеет право: видите, она зато вся живет для мужа и в муже.
– Вы это оправдываете?
– Извиняю. Если бы Жервеза была не такая женщина, какая она есть; если бы она любила в муже самое себя, а не его, тогда это, разумеется, было бы неизвинительно; но когда женщина любит истинно, тогда ей должно прощать, что она смотрит на любимого человека как на свою собственность и не хочет потерять его.
– А если она ревнует, лежа как собака на сене?
– Тогда она собака на сене.
– Видите, – начала, подходя к городу, Дора, – почему я вот и назвала таких женщин Мариями, а нас – многоречивыми Марфами. Как это все у нее просто и все выходит из одного люблю. – Почему люблю? – Потому, что он такой недурненький и ласковый. А совсем нет! Она любит потому, что любит его, а не себя, и потом все уж это у нее так прямо идет – и преданность ему, и забота о нем, и боязнь за него, а у нас пойдет марфунство: как? да что? да, может быть, иначе нужно? И пойдут эти надутые лица, супленье, скитанье по углам, доказыванье характера, и прощай счастье. Люби просто, так все и пойдет просто из любви, а начнут вот этак пещися и молвить о многом – и все пойдет как ключ ко дну.
– Правда в ваших словах чувствуется великая и, конечно, внутренняя правда, а не логическая и, стало быть, самая верная; но ведь вот какая тут история: думаешь о любви как-то так хорошо, что как ни повстречаешься с нею, все обыкновенно не узнаешь ее!.. Все она беднее чем-то. И опять хочется настоящей любви, такой, какая мечтается, а настоящая любовь…
– Есть любовь Жервез, – подсказала Дора.
– Любовь Жервез? Я не корю ее, но почем вы знаете, чего здесь более – любви, или привязанности и страсти, или убеждения, что все это так быть должно. Ох, настоящая любовь—большое дело! Она скромна, она молчит… Нет, настоящая любовь… нет ее, кажется, нигде даже.
Дорушка тихо повернулась лицом к Долинскому.
– Настоящая любовь, – сказала она, – верно там, где нет нас?
– Может быть.
– И где мы не были, пожалуй?
– Да это будет одно и то же.
– Ай, ай, ай, на каких вещах вы даете ловить себя, Долинский! – протянула Дора и дернула за звонок у ворот своего дома.
– Вы, кажется, вчера вывели из нашего разговора какое-то новое заключение? – спрашивал ее на другой день Нестор Игнатьич.
– Новое!.. никакого, – отвечала, улыбнувшись, Дора.
Дней через пять Дора снова вздумала идти к Жервезе. Проходя мимо одной лавки, они накупили для детей фруктов, конфект, лент для старшей девочки, кушак для самой молочной красавицы и вышли с большим бумажным конвертом за город.
Не нужно много трудиться над описанием этих сине-розовых вечеров береговых мест Средиземного моря: ни Айвазовского кисть, ни самое художественное перо все-таки не передают их верно. Вечер был божественный, и Дора с Долинским не заметили, как дошли до домика молочной красавицы.
Когда Долинский нагнулся, чтобы сбить углом платка пыль, насевшую на его лакированный ботинок, из растворенного низенького и очень широкого окна послышалось какое-то очень стройное пение: женский, довольно слабый контральт и детские, неровные дисканты.
Дорушка приподняла платье, тихонечко подошла к окну и остановилась за густым кустом, по которому сплошною сетью ползли синие усы винограда; Долинский так же тихо последовал за Дорой и остановился у ее плеча.
– Tec! – произнесла чуть слышно Дора и, не оборачиваясь к Долинскому, погрозила ему пальцем.
Чистенькая белая комната молочной красавицы была облита нежным красным светом только что окунувшегося в море горячего солнца; старый ореховый комод, закрытый белой салфеткой, молящийся бронзовый купидон и грустный лик Мадонны, с сердцем, пронзенным семью мечами, – все смотрело необыкновенно тихо, нежно и серьезно. Из комнаты не слышно было ни звука. Через верхние ветки куста Долинский увидал Жервезу. Молочная красавица в ярком спензере и высоком белом чепце стояла на коленях. На локте левого рукава ее белой рубашки лежал небольшой черненький шарик. Это была головка ее младшего сына, который тихо сосал грудь и на которого она смотрела в какой-то забывчивости. Рядом с Жервезой, также на коленях, с сложенными на груди ручонками, стояла десятилетняя сестра Жервезиного мужа, и слева опять на коленях же помещался ее старший сын. Пятилетний Пьеро был босиком, в синих нанковых штанишках и желтоватой нанковой же курточке. Мальчик тоже держал руки сжавши на груди, но смотрел в бок на окно, на котором сидел белый котенок, преграциозно раскачивающий лапкою привешенное на нитке красное райское яблочко.
Жервеза взяла мальчика за плечо и тихо повернула его лицо к Мадонне и тотчас же запела: „Ты, который все видишь, всех любишь и со всеми живешь, приди и живи в нашем сердце“.
Дети пели за Жервезой не совсем согласно, отставали от нее и повторяли слова несколько позже, но тем не менее, в этом несмелом трио была гармония удивительная.
„И тех, которых нет с нами. Ты также помилуй, и с ними живи“, – пела Жервеза после первой молитвы. – „Злых и недобрых прости, и всех научи нас друг друга любить, как правду любил Ты, за нас на кресте умирая“.
При конце этой молитвы двое старших детей начинали немного тревожиться. Они розняли свои ручонки, робко дотрагивались до белых рукавов Жервезы и заглядывали в ее глаза. Видно было, что они ожидали чего-то, и знали чего ожидают.
„А тех, которые любят друг друга“, – запела молочная красавица голосом, в котором с первого звука зазвенели слезы – „тех Ты соедини и не разлучай никогда в жизни. Избави их от несносной тоски друг о друге; верни их друг к другу все с той же любовью. О, пошли им, пошли им любовь Ты до века! О, сохрани их от страстей и соблазнов, и не попусти одному сердцу разбить навеки другое!“
Слезы, плывшие в голосе Жервезы и затруднявшие ее пение, разом хлынули целым потоком, со стонами и рыданиями тоски и боязни за свою любовь и счастье. И чего только, каких только слов могучих, каких душевных движений не было в этих разрывающих грудь звуках!
– Молись, молись. Пьеро, за своего отца! Молись за мать твою! Молись за нас, Аделиночка! – говорила Жервеза, плача и прижимая к себе обхвативших ее детей.
Минуты три в комнате были слышны только вздохи и тихий, неровный шепот; даже белый котенок перестал колыхать лапкой свое яблочко.
Долинский оглянулся на Дашу: она стояла на коленях и смотрела в окно на бледное лицо Мадонны; в длинных, темных ресницах Доры дрожали слезы.
Долинский снял шляпу и смотрел на золотую голову Доры.
– Полно нам плакать, – произнесла в это время, успокаиваясь, Жервеза, – будем молиться за бедных детей.
„Бедным детям, – запела она спокойнее, – детям-сироткам будь Ты отцом и обрадуй их лаской Твоею, и добрых людей им пошли Ты навстречу, и доброй рукою подай им и хлеба, и платья, и дай им веселое детство…“
Дети начали кланяться в землю, и молитва, по-видимому, приходила к концу. Дорушка заметила это: она тихо встала с колен, подняла с травы лежавший возле нее бумажный мешок с плодами, подошла к окну, положила его на подоконнике и, не замеченная никем из семьи молочной красавицы, скоро пошла из садика.
– Что молится так, Долинский? – спросила она, остановившись за углом, и прежде чем Долинский успел ей что-нибудь ответить, она сильно взяла его за руку и с особым ударением сказала – так молится любовь! Любовь так молится, а не страсть и не привязанность.
– Да, это молилась любовь.
– Это сама любовь молилась, Нестор Игнатьич, истинная любовь, простая, чистая любовь до слез и до молитвы к Богу.
Дорушка тронулась вперед по серой, пыльной дорожке.
– Что ж, вы не зайдете, разве? – спросил ее Долинский.
– Куда?
– Да к ним?
– К ним?.. Знаете, Нестор Игнатьич, чем представляется мне теперь этот дом? – проговорила она, оборачиваясь и протягивая в воздухе руку к домику Жервезы. – Это горящая купина, к которой не должны подходить наши хитрые ноги.
– Стопы лукавых.
– Да, стопы лукавых. Сделайте милость, не пробуйте опять нигилистничать: совсем ведь не к лицу вам эти лица.
– Они только будут удивляться, откуда взялся мешок, который вы им положили.
– Не будут удивляться: это Бог прислал детям за их хорошие молитвы.
– И прислал через лучшего из своих земных ангелов.
– Вы так думаете?
– Удивительная вы девушка, Дора! Кажется, нежнее и лучше вас, в самом деле, нет женского существа на свете.
– Тут одна, – сказала Дора, снова остановись и указывая на исчезающий за холмом домик Жервезы, – а вон там другая, – добавила она, бросив рукою по направлению на север. – Вы, пожалуйста, никогда не называйте меня доброю. Это значит, что вы меня совсем не знаете. Какая у меня доброта? Ну, какая? Что меня любят, а я не кусаюсь, так в этом доброты нет; после этого вы, пожалуй, и о себе способны возмечтать, что и вы даже добрый человек.
– А разве же я, Дарья Михайловна, в самом деле, по-вашему, злой человек?
– Эх, да что, Нестор Игнатьич, в такой нашей доброте проку-то! Вон Анина, или Жервезина доброта – так это доброта: всем около них хорошо, а наша с вами доброта, это… вот именно художественная-то доброта: впечатлительность, порывы. Вы ведь не знаете, какое у меня порочное сердце и до чего я бываю иногда зла в душе. Вот не далее, как… когда это мы были первый раз у Жервезы?.. Ух, как я тогда была зла на вас! И что это, в самом деле, вам тогда пришло в голову уверять меня, что это не любовь, а привязанность одна и какие-то там глупые страсти.
– Мне так показалось.
– Врете! Все врете, и опять начинаете сердить меня. Ох, да как я вас знаю, Нестор Игнатьич! Если бы я заметила, что меня кто-нибудь так знает и насквозь видит, как я вас, я бы… просто ушла от такого человека на край света. Вы мне это тогда говорили вот почему: потому что бесхарактерность у вас, должно быть, простирается иногда так далеко, что даже, будучи хорошим человеком, вы вдруг надумаете: а ну-ка, я понигилистничаю! может быть, это правильней? И я только не хотела вам говорить этого, а ужасно вы мне были противны в тот вечер.
– Даже противен?
– Даже гадки, если хотите. Что это такое? Первое дело – оскорблять ни за что, ни про что любовь женщины, а потом чем же вы сами-то были? Шпандорчук какой-то, не то Вырвич – обезьянка петербургская.
– Вот то-то оно и есть, Дарья Михайловна, что суд-то людской—не божий: всегда в нем много ошибок, – отвечал спокойно Долинский. – Совсем я не обезьянка петербургская, а худ ли, хорош ли, да уж такой, каким меня Бог зародил. Вам угодно, чтобы я оправдывался – извольте! Знаете ли вы, Дарья Михайловна, все, о чем я думаю?
– Конечно, не знаю.
– Совершенная правда, и потому, стало быть, не знаете, до чего и как я иногда додумываюсь. Я не нигилистничал, Дарья Михайловна, когда выразил ошибочное мнение о любви Жервезы, а вот как это было: очень давно мне начинает казаться, что все, что я считал когда-нибудь любовью, есть совсем не любовь; что любовь… это совсем не то будет, и я на этом пункте, если вам угодно, сбился с толку. Я все припоминаю, как это случалось, хоть и со мною даже… идет, идет будто вот совсем и любовь, а потом вдруг – крак, смотришь – все какое-то такое вялое, сухое, и чувствуешь, что нет, что это совсем не любовь, и я думаю, что нет, ну, вот нет любви. Тут совсем не за что на меня сердиться. Разве в том только моя вина, что не отучусь именно из себя-то сто раз все мотать, да перематывать, а уж в обезьянничестве я не виноват. Помилуйте, мне вот очень даже часто приходит в голову, как люди умирают? Как это последняя минута?.. Вот вдруг есть, и нету… Бывают минуты, когда я никак этого вообразить себе не могу, и отчего, откуда приходят эти страшные минуты? – этого никак не подстережешь. Вы помните, как я один раз в Петербурге уронил стенные часы в мастерской и поймал их за два каких-нибудь вершка от полу?
Дорушка кивнула утвердительно головою.
– Ловок! – подумал я себе тогда. – А вот как-то ты увернешься от смерти? – пошло ходить у меня в голове; вот-вот-вот схватиться бы за что-нибудь, и не схватишься. И что ж вы скажете? – я до такой степени все это выматывал, что серьезно, ясно и сознательно стал ощущать, что я уж когда-то что-то такое ловил и не поймал, и умер, и опять живу. Умрет кто-нибудь – мне сейчас опять какой-то этакий бледный шар представляется; ловишь его, и вдруг – бац! не поймал, умер и сейчас что-то мне в этом знакомое есть, что я уж это пережил… Я уверен в этом, наконец, бываю! Так не осуждайте же меня, пожалуйста, за Жервезу; я, право, больной человек; мне в тот день так казалось, что нет, нет и нет никакой любви, а, право, это не обезьянничество.
– Ну, хорошо, ну, пусть вам эта вина прощается за ваши недуги; но нынче-с!.. позвольте вас искренно, по душе, по совести просить ответить: чего вы стояли этаким рыцарем и таращили на меня глаза, когда мне захотелось помолиться с Жервезой?
– Я таращился! – нисколько! Я просто смотрел на вас, потому что мне приятно было смотреть на вас, потому что вы необыкновенно как хороши были у этого куста на коленях!
– Пожалуйста, пожалуйста, Нестор Игнатьич! Знаю я вас. Я знаю, что я хороша, и вы мне этим не польстите. И вы тоже ведь очень… этакий интересный Наль, тоскующий о Дамаянти, а, однако, я чувствовала, что там было нужно молиться, и я молилась, а вы… Снял шляпу и сейчас же сконфузился и стал соглядатаем, ммм! ненавистный, нерешительный человек! Отчего вы не молились?
– Ах, Дарья Михайловна, какой вы ребенок! Ну, разве можно задавать такие вопросы? Ведь на это вам только Шпандорчук с Вырвичем и ответили бы, потому что у тех уж все это вперед решено.
– А у вас, мой милый, ничего не решено?
– По крайней мере, очень многое. – Да вы, пожалуйста, не думайте, что решимость это уж такая высокая добродетель, что все остальное перед нею прах и суета. Решимостью самою твердою часто обладают и злодеи, и глупцы, и всякие, весьма непостоянные, люди.
– И герои.
– Да, и герои, но героев ведь немного на свете, а односторонних людей, способных решать себе все наоболмашь, гораздо больше. Вы вот теперь даете мне вопрос, касающийся такого предмета, которого обнять-то, уразуметь-то нет силы, и хотите, чтобы я так вот все и решил в нем. Вы знаете моего дядю? Его не одна Москва, а вся Русь знает. Это не был профессор-хлыщ, профессор-чиновник или профессор-фанфарон, а это был настоящий, комплектный ученый и человек, а я вам о нем расскажу вот какой анекдот: был у него в Москве при доме сад старый, густой, прекрасный сад. Дядя работал там летом почти по целым дням: подсаживал там деревца, колеровал и разные, знаете, такие штуки делал. Я спал в этом саду в беседке. Только один раз как-то очень рано я проснулся. Дело было перед последним моим экзаменом Я сел на порожке и читаю; вдруг, вижу я, за куртиной дядя стоит в своем белом парусинном халате на коленях и жарко молится: поднимет к небу руки, плачет, упаде! в траву лицом и опять молится, молится без конца Я очень любил дядю и очень ему верил и верю. Когда он перестал молиться и начал что-то вертеть около какого-то прививка, я встал с порожка и подошел к нему. На дворе было самое раннее утро и, кроме нас да птиц, в саду никого не было. Не помню, как мы там с ним о чем начали разговаривать, только знаю, что я тогда и спросил его. что как он, занимаясь до старости науками историческими, естественными и богословскими, до чего дошел, до какой степени уяснил себе из этих наук вопрос о божестве, о душе, о творении? Напоминаю вам, что утро было самое раннее, из-за каменных стен в большом саду нас никто не мог ни видеть, ни слышать, разве кроме птичек, которые порхали по деревьям. Так старик-то мой-с несколько раз оглянулся во все стороны, сложил вот так трубочкой свои руки, да вот так поднес их к моему уху и чуть слышно шепнул мне:
– Ни до чего не дошел. Говорю ему:
– А как же вы относитесь… называю, знаете, ему две крайние-то партии.
– Как отношусь? – говорит. И опять нагнулся к моему уху и шепнул:
– Не верю ни тем, ни другим.
– Так вот вам, Дарья Михайловна, какие высокие и честные-то души относятся к подобным вопросам: боятся, чтобы птицу небесную не ввести в напрасное сомнение, а вы меня спрашиваете о таких вещах, да еще самого решительного ответа у меня о них требуете. Можно сомневаться, можно надеяться, но утверждать… О, боже мой, сколько у людей бывает странной смелости! Я, действительно, человек очень нерешительный, но не думайте, что это у меня от трусости. Чего же мне бояться? У меня только всегда как-то вдруг все стороны вопроса становятся перед глазами и я в них путаюсь, сбиваюсь и делаю бог знает что, бог знает что! Ах, это самое худшее состояние, которое я знаю: это хуже дня перед казнью, потому что все дни перед казнью. Перестанемте об этом говорить, Дарья Михайловна, а то вон опять нас птица слушает.
Долинский сделал шаг вперед и поднял с пыльной дороги небольшую серую птичку, за ножку которой волокся пук завялой полевой травы и не давал ей ни хода, ни полета. Дорушка взяла из рук Долинского птичку, села на дернистый край дорожки и стала распутывать сбившуюся траву. Птичка с сомлевшей ножкой тихо лежала на белой руке Доры и смотрела на нее своими круглыми, черными глазками.
– Как бьется ее бедное сердечко! – проговорила Дора, шевеля мелкие перышки пташки и глядя в розовый пушок под ее крылышками.
– Милая! – сказала она, поцеловала птичку в головку, приложила ее к своей шейке и пошла к городу. Минут десять они шли в совершенном молчании; на дворе совсем сырело; Дорушка принималась несколько раз все страстнее и страстнее целовать свою птичку. Дойдя до старого, большого каштана, она поцеловала ее еще раз, бережно посадила на ветку и подала руку Долинскому.
– Нестор Игнатьич, – сказала она ему, идучи по пустой улице, – знаете, чтоб вам расстаться с вашими днями перед казнью, вам остается одно – найти себе любовь до слез.
– Полноте шутить, Дарья Михайловна, я ничего не желаю находить и не умею находить.
– А вот птиц же на дорогах находите. Это тоже ведь не всякому случается.
Глава девятая
Повторение задов
У Жервезы Дора и Долинский более не были, прогулки их снова ограничивались холмом над заливом.
Всякий вечер они сидели на этом холмике, и всякий вечер им было так хорошо и приятно.
Как ни коротки были между собой Дора и Долинский, но эти вызываемые Дорою рассказы о прошлом, раскрывая перед нею еще подробнее внутренний мир рассказчика, давали ее отношениям к нему новый, несколько еще более интимный характер.
– Послушайте, Нестор Игнатьич! – сказала раз Даша, положив ему на плечо свою руку, – расскажите мне, мой милый, как вы любили и как вас любили?
– Бог знает, что это вы выдумываете, Дора?
– Так расскажите. Мне очень хочется найти ключ к вашей душевной болезни.
– Забыл уж я, как я любил.
– Э! Врете!
– Право, забыл.
– Забвенья нет.
– Кто ж это вам сказал, что забвенья нет?
– Я вам это говорю.
Нестор Игнатьич молчал, и Даша молчала и дулась.
– Ну, перестаньте дуть свои губки, Дора! Что вам рассказать?
– Как вы любили первый раз в жизни.
Долинский рассказал свою почти детскую любовь к какой-то киевской кузине. Дора слушала его, не сводя глаз, и когда он окончил, вздохнула и спросила:
– Ну, а как вы любили на законном основании? Долинский рассказал ей в главных чертах и всю свою женатую жизнь.
– Какая гадость! – прошептала Даша и, вздохнув еще разспросила:
– Ну, а дальше что было?
– А дальше вы все знаете.
– Вы грустили?
– Да.
– Встретились с нами?
– Да.
– И счастливы?
– И счастлив.
Даша задумчиво покачала головкой.
– Что? – спросил ее Долинский.
– Так, ключ найден! – чуть слышно уронила Дора. – А как вы думаете, – начала она, помолчавши с минуту, – верно это так вообще, что хорошего нельзя не полюбить?
– Что хорошее? Есть польская пословица, что не то хорошо, что – хорошо, а то хорошо, что кому нравится.
– Я вам говорю, что хорошего нельзя не любить; ну, пожалуй, того, что нравится.
– К чему же вы это говорите?
– Ни к чему! К тому, что если встречается что-нибудь очень хорошее, так его возьмешь да и полюбишь, ну, понимаете, что ли?
– Да…
– Да, я думаю, что да.
Произошла пауза, в течение которой Даша все думала, глядя в небо, и потом сказала:
– Знаете что, Нестор Игнатьич? Мне кажется, что наши сравнения сердца с монетой никуда не годятся.
– Я это уж вам говорил.
– С чем же его сравнить?
– Много есть этих сравнений, и все они никуда не годятся.
– Ну, а, например, с чем можно еще сравнить сердце?
– С постоялым двором, – смеясь, отвечал Долинский.
– Гадко, а похоже, пожалуй.
– А, пожалуй, и непохоже, – отвечал Долинский.
– Один постоялец выедет, другому есть место.
– А другой раз и пустой двор простоит.
– Нет, и это не годится. Не верю я, не верю, чтобы можно было жить без привязанности.
– Бывает, однако.
– Вы помните эти немецкие, кажется, стихи…
– Какие?
– Ну, знаете, как это там: Юпитер посылал Меркурия отыскать никогда не любивших женщин?
– Я даже этого никогда не читал.
– То-то вот и есть; а я это читала.
– Что ж, Меркурий отыскал?
– Трех!
– Только-то?
– Да-с, и эти три, знаете, кто были? Три фурии! – протяжно произнесла Даша, подняв вверх пальчик.
– Ведь это только написано.
– Да, но я этому верю и очень боюсь этакого фуриозного сообщества.
– Вы с какой же это стати?
– А если Юпитеру после моей смерти вздумается еще раз послать Меркурия и он найдет уж четырех.
– Еще полюбите и как полюбите.
– Нет уж, кажется, поздно.
– Любить никогда не поздно.
– Вот за это вы умник! Люди жадны уж очень. Счастье не во времени. Можно быть немножко счастливым, и на всю жизнь довольно. Правда моя?
– Конечно, правда.
– Какое у нас образцовое согласие!
– Не о чем спорить, когда говорят правду.
– А ведь я бы могла очень сильно любить.
– Кто ж вам мешает? Разборчивы очень.
– Нет, совсем не то. По-моему любить, значит… любить, одним словом. Не героя, не рыцаря, а просто любить, кто по душе, кто по сердцу – кто не по хорошу мил, а по милу хорош.
– Ну-с, я опять спрошу: за чем же дело стало?
– А если „законы осуждают предмет моей любви“? – улыбаясь, продекламировала Даша.
– Но, кто—о, сердце! может противиться тебе? – отвечал Нестор Игнатьич, продолжая речитативом начатую Дашей песню.
– Помните, как это сказано у Лермонтова:
Но сердцу как ума не соблазнить? И как любви стыда не победить? Любовь для неба и земли – святыня, И только для люден порок она!
То скотство, то трусость… бедное ты человечество! Бедный ты царь земли в своих вечных оковах!
– Вы сегодня, Дорушка, все возвышаетесь до пафоса, до поэзии.
– Нестор Игнатьич! Прошу не забываться! Я никогда не унижалась до прозы.
– Виноват.
– То-то.
Даша замолчала и, немного подождавши, сказала:
– Ну, смотрите, какие штучки наплетены на белом свете! Вот я сейчас бранила людей за трусость, которая им мешает взять свою, так сказать, долю радостей и счастья, а теперь сама вижу, что и я совсем неправа. Есть ведь такие положения, Нестор Игнатьич, перед которыми и храбрец струсит.
– Например, что ж это такое?
– А вот, например, сострадание, укор совести за чужое несчастье, за чужие слезы.
– Скажите-ка немножко пояснее.
– Да что ж тут яснее? Мало ли что случается! Ну, вдруг, положим, полюбишь человека, которого любит другая женщина, для которой потерять этого человека будет смерть… да что смерть! Не смерть, а мука, понимаете – мука с платком во рту. Что тогда делать?
– На это мудрено отвечать.
– Я думаю, один ответ: страдать.
– Да, если тот, кого вы полюбите, в свою очередь, не любит вас больше той женщины, которую он любил прежде.
– А если он меня любит больше?
– Так тогда какой же резон делать общее несчастье! Ведь если, положим, вы любите какое-нибудь А и это А взаимно любит вас, хотя оно там прежде любило какое-то Б. Ну-с, теперь, если вы знаете, что это А своего Б больше не любит, то зачем же вам отказываться от его любви и не любить его самой. Уж ведь все равно не отошлете его обратно, куда его не тянет. Простой расчет: пусть лучше двое любят друг друга, чем трое разойдутся.
Даша долго думала.
– В самом деле, – отвечала она, – в самом деле, это так. Как это странно! Люди называют безумством то, что даже можно по пальцам высчитать и доказать, что это разумно.
– Люди умных людей в сумасшедшие дома сажали и на кострах жгли, а после через сто лет памятники им ставили. У людей что сегодня ложь, то завтра может быть истиной.
– Какой вы у меня бываете умник, Нестор Игнатьич! Как я люблю вашу способность просто разъяснять вещи! Если б вы давно были со мной, как бы много я знала!
– Я, Дарья Михайловна, не принимаю это на свой счет. Я знаю одно то, что я ничего не знаю, а суда людского так просто-таки терпеть не могу. Не верю ему.
– Да, говорите-ка: не знаете! Нет, большое спасибо вам, что вы со мной поехали. Здесь вас у меня никто не отнимает: ни Анна, ни газета, ни Илья Макарыч. Тут вы мой крепостной. Правда?
– Да, уж если вы сказали так, то, разумеется, – правда. Иначе ж ведь быть не может! – отвечал, шутя, Долинский.
– Ну, да, еще бы! Конечно, так, – отвечала живо и торопясь Дора и сейчас же добавила, – а вот, хотите, я вам задам один такой вопрос, на который вы мне, пожалуй, и не ответите?
– Это еще, Дарья Михайловна, будет видно.
– Только смотрите мне прямо в глаза. Я хочу видеть, что вы подумаете, прежде чем скажете.
– Извольте.
– А что…
– Что?
– Эх, нетерпение! Ну, отгадывайте, что?
– Не маг я и не волшебник.
– Что, если б я сказала вам вдруг самую ужасную вещь?
– Не удивился бы ни крошки.
Даша серьезно сдвинула брови и тихо проговорила:
– Нет, я прошу вас не шутить, а говорить со мною серьезно. Смотрите на меня прямо!
Она пронзительно уставила свои глаза в глаза Долинского и медленно с расстановками произнесла:
– Ч-т-о, е-с-л-и б-ы я в-а-с п-о-л-ю-б-и-л-а? Долинский вздрогнул и, быстро выпустив из своей руки ручку Даши, ответил смущенным голосом:
– Виноват, проспорил. Можно, действительно, поручиться, что такого вздора ни за что не выдумаешь, какой вы иногда скажете.
Даша тоже смутилась. Она просто испугалась движения, сделанного Долинским, и, приняв свою руку, сказала:
– Чего вы! Я ведь так говорю, что вздумается. Она была очень встревожена и проговорила эти слова, как обыкновенно говорят люди, вдруг спохватясь, что они сделали самый опрометчивый вопрос.
– Пойдемте домой. Мы сегодня засиделись; сыро теперь, – сказал несколько сухим гувернерским тоном, вместо ответа, Долинский.
Даша встала и пошла молча. Дорогою они не сказали друг Другу ни слова.








