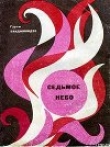Текст книги "Двое на рассвете"
Автор книги: Николай Голощапов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 4 страниц)
– Ну, ладно, коли так.
Елька ударил мерина, и тот потрусил. Женька подошел к кухне, потоптался, прикурил. Ксюшка вспарывала карасей, думала: «И зачем умирают люди?..» Женька вздохнул и посоветовал:
– Ты не жулькай их, Ксюша.
Она отвела запястьем волосы со лба, посмотрела на серую мягкую дорогу, по которой уехали Мызин и Елька. Нож ширкал по мягкой брюшине.
– Давай наточу ножик…
Кипела, торопливо поговаривая, вода в котле. В колке, подернутом зеленым дымком листвы, отсчитывала кому-то годы кукушка. Женька тихо попросил:
– А за вчерашнее не сердись.
Свежо и остро пахла земля. Духмяной горчинкой веяло от цветущих берез. От трактора крикнул бригадир:
– Жариков, ты долго там дышать будешь? Сохнет земля, а мы ухажерочки крутим.
– Ну, так как, Ксюша? – снова тихо спросил Женька.
– А никак, – она выпрямилась, сунула руку в вырез кофточки, достала фотографию. – Верни мою…
Женька растерянно взял твердый глянцевый снимок, теплый еще и пахнущий Ксюшкой, попробовал пошутить, но губы вздрагивали:
– Значит так… Как у этих там… у разных там дипломатов: обменялась нотами – и разрыв всяческих отношений…
Он потоптался, безнадежно махнул рукой и, загребая побелевшими носками разбитых ботинок, поплелся к трактору.
– Мою верни! Сегодня же, – крикнула вслед Ксюшка и вспомнила, что Женька пошел работать без напарника. Значит, она сегодня не увидит его. Подумала как о чем-то далеком: «Вот и все. Кончилась наша любовь», – схватила крышку котла и обожгла руку. Повернулась спиной к трактору и тихо заплакала от саднящей боли…
5
Женька уже полные сутки поднимал пары без пересменщика. Ночью Ксюшка не вытерпела, разогрела на костерке трех карасей, сварила кашу, пошла его разыскивать. Во мраке мерещилось невесть что; торная дорога вначале ползла по перелеску, полному настороженной, такой пугающей тишины, что собственное дыхание казалось громким и заставляло вздрагивать, а потом, перед самым Вороньим логом, глубоко ныряла в погребную тьму и сырость оврага, непролазно заросшего хлыстами ивняка. Ксюшка, потаенно придохнув, вдруг вся замерла перед спуском и, зажмурившись, кинулась опрометью вниз, как кидаются в холодную воду. А когда вымахнула на теплое поле, почувствовала прилипшую к спине рубашку, не улегшуюся еще ознобную дрожь в коленях и засмеялась – страхов вокруг не было. Долго шла по черной пашне.
Женька обрадовался и тут же глупо спросил:
– Не танцевала?
Ксюшка вечером не танцевала. Но она сказала с вызовом:
– Танцевала. С Мишкой танцевала. Он и проводил меня сюда.
Женька поскучнел, облизнул вяло ложку, убежденно пообещал:
– Я ему ноги переломаю.
Она удивилась: до чего же он глуп. Сонный, наверно, потому и ничего не соображает. И все-таки опять сказала с вызовом:
– Он тебе быстрее переломает и ноги, и руки. Мишка сильный, – ей было приятно.
– Все равно переломаю, – еще убежденнее сказал Женька. – Вот вернется Сенька и переломаю.
– А он скоро вернется?
– Не знаю. У него мать умирает, – Женька отодвинул чашки, встал и молча полез в кабину. Ксюшка сидела на земле и не думала подниматься. Женька повозился, выглянул обратно:
– Ты чего сидишь? Мишка ждет…
– Дурак ты, – сказала Ксюшка и отвернулась.
Она сидела и думала о том, почему умирают люди. Если бы она была очень ученой, то придумала бы такое, чтобы люди жили лет до трехсот. Тогда бы на земле было очень много городов, много молодых, веселых людей… Земля – большая и надо, чтобы жило очень много молодого народу…
Женька спрыгнул с гусеницы, молча опустился рядом. Тронул Ксюшкино плечо. Она отдернула плечо и стала быстро собирать чашки. Он виновато протянул:
– Ксю-ю-ш…
Она туго затянула в платок чашки, чтобы не брякали.
– Не воображай о себе много-то. Задавака, – поднялась и снова пошла в ночь, словно это было привычным делом.
Вернулась на стан, когда уже затихал звездопад, а глухая ночь скупо расцеживалась. Осыпались последние звезды.
Утром Ксюшка проспала. Бригадир, ездивший с вечера в деревню, застал ее неумытой и долго ругал. Утихомирившись, буркнул:
– Скажу Жарикову, какая ты гулена.
Ксюшка приготовила завтрак, накормила всех и принялась за полдник.
Булькала уха. Каша с кусочками сала, горячо фукала паром и тогда на месте вырывающихся струек образовывались лунки.
Ксюшка села на камень, привалившись спиной к колесу кухни. Из вагончика вышел учетчик в клетчатой расстегнутой рубахе, в кирзовых сапогах. Голенища загнуты кверху белесой подкладкой и от этого ноги кажутся перебинтованными в икрах. Он хмурится на солнце, дымит папиросой. Ребята зовут его ласково – Десяточкой.
– Не хватает до процента двух десяточек. Не могу…
Иногда парень из-за двух десяточек сидит на черепахе, и тогда его фамилия становится популярной в бригаде. И тогда особенно часто его начинает вспоминать бригадир.
Ксюшка исподволь посматривает на учетчика: пойдет к доске показателей или нет. А он, увидев ее, весело машет рукой:
– Твой-то Жариков на сто двадцать и шесть десятых кроет…
Ксюшка в открытую молча смотрит на него. На сапогах Десяточки до щиколоток в палец пыль. Все лето мается в сапогах, а нельзя иначе: ботинки полные земли будут. Сколько же он от зари до зари вышагивает… Она встает, открывает бак, спрашивает:
– Карасей хочешь?
– Это что – премиальные за проценты Жарикова?
Ксюшка громко захлопывает крышку и опять садится на камень, не глядя в сторону Десяточки.
Солнечный день полон шелковистого блеска. Мерцают до боли в глазах полированные клейкие листья берез. Ксюшка вприщур смотрит на близкий горизонт, струящийся густым маревом, настолько густым, что трактор, идущий по самой кромке земли, начинает весь вздрагивать и, как в кривом зеркале, вдруг волнисто разрезается на отдельные части. Вот задрожала и приподнялась, отделившись от гусениц, кабина да так и повисла на какое-то мгновение в воздухе… Искривилась выхлопная труба и тоже отпрыгнула от трактора…
За спиной покрякивает Десяточка:
– Проснулась земля. Дышит…
Он садится рядом, легонько касается Ксюшки локтем:
– Давай, что ли, твоих карасей, а то слепая кишка прозревать начинает.
Ест учетчик всегда не вовремя. Редко попадает к горячему. Ксюшка выкладывает карасей, ворчит:
– Подождал бы уж. Разогреть недолго.
– Время беречь надо, – отмахивается он и ест споро, жадно, крупно откусывает от большого ломтя, жует, поигрывая желваками.
Ксюшка смотрит на него по-бабьи, с жалостинкой в глазах, потом начинает готовить бачки – ехать в поле, кормить работающих. Она плещет черпаком из кадки глинистую воду, пахнущую бочкой и илом, и до блеска трет зольной тряпкой крутые бока бачков.
К учетчику подсаживается насупленный бригадир с красным рубцом через всю щеку – следом от сладкого сна. Выбритые скулы розоваты, вдоль подстриженных висков чистая полоска незагоревшей кожи – вечером побывал в парикмахерской.
Он молчит, навалившись грудью на стол, тяжело и хмуро двигает бровями, будто ворочает каменные мысли.
– М-да… Сколько у нас паров-то поднято? – спрашивает, наконец, не поднимая головы.
Десяточка аккуратно обсасывает игольчатые кости, осторожно и внимательно оглядывает их и снова старательно сосет.
– Семьдесят и одна…
– Так. Еще дня четыре, значит, надо. М-да… А Мызин сегодня не вернется. Вряд ли и завтра будет. Управимся ли? В правлении торопят, да и время…
– Жариков кроет… Горожанин, а смотри какой!
– Он-то кроет. Да ведь не железный, не трактор – без сна-то.
Десяточка смеется:
– Вон Грибанову послать надо. Он с ней неделю не заснет…
Ксюшка краснеет, супит брови и сердится:
– А меня надолго к вашей кухне привязали?.. Две недели в бане не была. Завтрак-то и Стюрка сготовит. Не такая барыня. А мне в деревню надо, – она не надеется, что бригадир отпустит и грозит: – Так и знайте, сегодня же уйду. Брошу все и уйду.
– Ишь крутая какая! Всю посевную жила и не просилась, а тут – нате вам, – бригадир опять начинает говорить о Мызине, о том, что людей нет, а каждый час дорог.
– Это я из плакатов знаю. Вон сколько их понавешано: весь вагончик обклеен…
– Ладан с тобой. Топай, – неожиданно соглашается бригадир. – Обед сготовишь и топай… Но чтоб к утру категорически на месте.
6
Дома Ксюшка ведет себя гостьей. Сходила в баню и потерянно бродит по чистой горнице босая, разомлевшая, уставшая от горячей воды, со звоном в ушах от банного угара, с глянцевитым, розовым лицом, такими же глянцевитыми икрами, от которых не отхлынула еще краснота.
Мылась Ксюшка в соседской бане-развалюхе, дымной и копотной, и пока со сладким остервенением терла и скребла себя мочалкой, блаженно приохивая, мать сбегала к Сидоровым и, вернувшись, сообщила:
– Никифор в деревне. Как завечереет, он заедет за тобой. От озера-то рукой подать до бригады.
Ксюшка бродит по горнице, трогает зачем-то длинный рушник с бордовыми петухами, перекинутый через большую застекленную фотографию отца, поправляет легкий солнечный букетик бессмертника в углу сосновой рамки, гладит ломкую горку подушек на широкой кровати, сияющей никелем, – ее приданым.
Чуть ли не с середины зимы – задолго до того, как Ксюшка встретилась с Женькой, – зацвела вдруг пенно-розовыми шапками гортензия, на которую мать давно махнула рукой и не смогла выбросить только из-за недосуга, и цветет с тех пор все с той же неудержимой буйностью. Богатый цвет мать приняла за предзнаменование Ксюшкиного замужества и начала готовить ее на выданье, пряча грустнеющее лицо при каждой новой покупке. Ксюшке смешно, когда мать открывает заветный сундук с малиновым звоном замка и начинает заботливо и тихо заново укладывать прибывающее добро. Ксюшка никак не может представить себя невестой. Как это при всем застолье станет ее целовать Женька, а кругом будут кричать: «Горько!»…
Мать вымешивает тесто в избе, и Ксюшка слышит, как мутовка равномерно постукивает о ладку.
– Кого это ты пирогом-то кормить собираешься? – ревниво и громко спрашивает она.
– Да никого… Себя.
Ксюшка входит в избу и чувствует на себе короткий, из-под бровей, взгляд матери, укладывающей мясистые куски распластанных линей на толстый сочень. Она прячет глаза, будто ищет что-то на лавках, выскобленных до восковитости.
– Бесстыдница, поди, сама на шею вешаешься?..
В голосе матери нет строгости, Ксюшка садится и смотрит на ее руки. От работы они сухие, темные, в крупной сетке вспухших вен. Короткие пальцы с обломанными ногтями кажутся плоскими.
– Ты где рыбу купила?
– У Никифора.
– Вот хлюст! В бригады – карасей, а Сидориху линями кормит. Расчешу я его в правлении.
– Много вас, указчиков… Сети у Никифора свои, подкармливает вас – и то ладно.
– Что мы – нищие: подкармливать нас? Небось, трудодни ему каждый день пишут, а в колхозе живет, как вон на курортах.
– Не жадуй, – вдовьи годы приучили мать слепо держаться за немудрую заповедь тихой жизни, она все время пугается дочери. – Здоровьишком-то Никифор скрипит, как плетень: того и гляди от ветру завалится.
– Как же, завалится он тебе. Жди. Люди на севе сутками не спят, а он – завалится… Жить надо по-честному, а не одно свое корыто блюсти.
– Дружит он с кем-то в районе. Опять ныне туда катал. Шиферу на крышу привез, – мать говорит грустно, и Ксюшка угадывает ее мысли: хорошо бы им свой пятистенник перетрясти. Да разве перетрясешь одними бабьими руками да еще без знакомства.
– Так уж и дружит…
– Во всяком разе рыбу возит.
– А тебе дай волю, ты его на бригадирство поставишь…
Мать стукнула скалкой по столу:
– И за что такое наказанье: ты ей слово, а она тебе – десять. Марш отсюдова…
Ксюшка идет в горницу, снимает с кровати тяжелой вязки покрывало, разваливает подушки и тонет в пуховике – будто всем телом повисает в воздухе. Тихо. Прогремела заслонкой обиженная мать. Застучала в сенях костяными ногами курица. Это – рябая, самая нахальная из всех. Сейчас она замрет с поджатой ногой, потом вытянет шею и с какой-то особой небрежностью клюнет наискось порог и, независимая, войдет в избу. Глухо стучит на краю деревни мельничный движок. Стучит круглый год, попыхивая голубыми дрожащими кольцами. Под застрехами мельницы прижились голуби. Воркуют, а там все насквозь пропылилось и пропахло горячей мукой… Смешным ей показался тогда Женька. Когда убегала от него, совсем не думала, что через четыре дня станет взрослой и будет приходить домой за полночь…
Будит ее мать долго. Трясет за плечо, когда уже возвращается стадо с пастьбы и на улице гулко стучат ботала, висит облаком пыль, багряно просвечиваясь на предзакатном солнце. Ксюшка с трудом размыкает веки и лежит еще с минуту, о чем-то тупо соображая. Потом сладко потягивается, вздыхает протяжно и, пошатываясь от сна, идет к рукомойнику. Плещет в лицо колодезную воду, ледяную до ломоты в пальцах, трет глаза, а за чаем сидит все равно квелой, дует нехотя в щербатое блюдце и равнодушно ест промасленную пышную шаньгу.
– Разоспалась-то как, страсть, – говорит мать и рассказывает о новых товарах в сельпо у Кузьмича.
– Жоржет третьеводни завезли, веселенький такой, так брать аль нет?
Ксюшке отвечать лень, и она долго думает: брать жоржет или нет? Слышит тонкий скрип колес и у самых окон раскатистое: «Тр-р-у-у», – словно по железу прокатилась пригоршня галек. У окна Никифор – стучит кнутовищем по забору палисадника:
– Деваха-а, фаетон прибытший.
«Говорить разучился по-человечески», – кисло усмехается Ксюшка и встает из-за стола.
Мать сама несет до калитки шерстяной платок, связанный концами в узел – с горячим пирогом и шаньгами – незлобливо ворчит:
– Выросла без отца да без хворостины и сладу не знаешь. Примчалась, как напонуженная, наперечила матери, толком не огляделась и опять в поле, на ночь глядючи…
Ксюшка ступает рядом, тянет из рук матери теплый мохнатый узел.
– Успеешь еще, накормишь своего саженного, – искоса взглядывает мать и тут же озабоченно спрашивает: – А он хоть уважительный к старшим-то?..
К парням мать приглядывалась пристально и ревниво, и Ксюшка весело смеется:
– Уважительный, мама, уважительный, – выхватывает у ней узел и с разбегу боком вспрыгивает на телегу.
– Коза-а, – смеется Никифор и стегает лошадь.
Телега вырывается из глухого переулка, катит вдоль старого тока, обнесенного березовым пряслом, потом начинается прошлогодний выгон, вытоптанный до черноты, весь в сухих коровьих лепехах. В воздухе толкутся столбы мошкары. От Никифора несет водкой, чесноком и крепкой махоркой. Он блаженно прячет в складчатых веках маслянистые довольные глаза, вздыхает:
– Природа… Ин ведь оно што.
– Ты бы хоть телегу смазал, – говорит Ксюшка, отодвигаясь от него к заднему колесу.
– Телегу? – переспрашивает Никифор, не оборачиваясь. Затылок у него заросший и волосы из-под шапки косичками опускаются на жилистую побуревшую шею.
– Телегу смазать можно, – соглашается он. – Да ведь музыка… Едешь, а тут тебе будто радиво, – и он заливисто хохочет, мелко трясет плечами, довольный собой.
– Шел бы к нам сеяльщиком. Круглый день радио. От трактора особенно. Слушай да слушай…
Никифор хыкает и опять трясет плечами, словно Ксюшка сказала ему что-то нелепое. Прижимает вожжи локтем, достает кисет и ловко скручивает из газетной полоски цигарку. Затягиваясь, выпускает двумя длинными струями дым из носа и говорит рассудительно:
– Человек должон справлять работу, что душа просит. Чтоб кругом, значит, дух легкий, радостный шел. А так оно того… без проку обернется, – он всем корпусом поворачивается к Ксюшке и смотрит с любопытством, изучающе.
– Хитрый ты. Вон почему, оказывается, на стариковскую работу определился. Тебе пуды ворочать, а ты рыбку ловишь. Дух легкий… Выходит, коли меня поставили поварихой, а моя душа не хочет, так и толку не будет?..
Лошаденка плетется и по привычке постегивает себя хвостом. Густой махорочный дым долго висит над телегой. Цигарка у Никифора потрескивает и от глубокой затяжки занимается голубым огоньком. Он дует на пламя и, хмуря складчатые веки, говорит:
– Нет, деваха, не будет…
– Врешь ты, Сидоров, – обижается Ксюшка, – как пить дать врешь… У нас не коммунизм – душу твою во всем соблюдать.
– Хе-хе, девахонька… А как же ин того… в речах-то говорят: все, мол, для человека. Для меня, значит.
Ксюшка теряется: верно, говорят так. Напирает запальчиво и слепо:
– А если надо, тогда как? Как? – я спрашиваю… Ну, вот был ты трактористом… Хотя какой из тебя тракторист.
– А што?.. Я на финской участвовал. – обиженно и непонятно вдруг возражает Никифор. – И все справно было. Ноги вот только поморозил. Ну как есть мертвяками стали. С тех пор гуд в них сплошной, как тебе в столбах, ежели задувает особенно…
– Ну, ладно. Был бы трактористом, и у твоего напарника умирала мать. Пришлось бы работать одному на тракторе сутки, двое, а может и трое. За себя и за него…
– Как это того… одному? За него, значит?.. Такого закона нет, чтобы одному да без передыху. Вот и получается: обмишулилась ты со мной, – он хохочет, западая на спину и подстегивая лошадь.
Плывут, вращаясь вокруг телеги, поля с опаханными ометами летошной соломы. В прошлом году припозднилась Ксюшка с девчонками далеко от стана. Выкатила гроза со стремительными раскатами грома – точно крепкие холстины разрывались через все небо. Они нырнули под ближайший омет, разгребли, спрятались. Дышали солодовой прелью, запахом мышей. Когда придремнули, разморенные душным теплом, вдруг истошно вскрикнула Верка Думина, выскочила под ведерный ливень зеленовато-бледная, с нелепо машущими руками. Из широкого рукава выпал темный комочек и шмыгнул обратно под омет. А у Верки отхлынуло от сердца и она разревелась:
– Паразиты, вытравить вас не могут…
Ксюшка смотрит на сгорбленную, пропотевшую на лопатках спину Никифора, запоздало спрашивает:
– А такой закон есть – лучшую рыбу на базар, а нам карасей дохлых?..
– Как это дохлых? – вскидывается Никифор. – Ты, деваха, говори да не заговаривайся…
– А я скажу в правлении. Или в газету напишу. В область прямо.
– Ты того… видала меня на базаре, али бабу мою? Не видала. И будут тебя судить за понесение личности. А што линьков по-соседски твоей матери продал, так они в мои сети попали. Мои, значит.
– У тебя разберешь, где твое, а где – колхозное… Выжига ты, Сидоров. Выжига и больше никто.
– Што-о? – Никифор враз натянул поводья, задрав голову лошаденке. Та уперлась, нервно подрагивая шишковатыми коленями, осела на задние ноги, съезжая на круп. – Выжига, говоришь?..
Зазвенели комары. Дохнуло пылью. Никифор откинулся на спину, повертываясь одновременно к Ксюшке. Косил глазом, вывертывая желтый в вишневых прожилках белок.
– Выжига! – снова зловеще повторил он и неожиданно наотмашь замахнулся кнутовищем. – А ну слазь! Слазь! Кому говорю!..
Небритый подбородок будто с подпаленной щетиной мелко подрагивал. Ксюшка сидела, побалтывая ногами.
– Слазь! – взвизгнул он. – Сей минут, чтоб духу твоего не было!
Он спрыгнул с телеги и по-петушиному затоптался около Ксюшки, тряс головой, исступленно и беспомощно кричал:
– Порешу!.. Сей минут порешу и праху не оставлю!
Она нехотя посмотрела на Сидорова, спросила равнодушно и чуть удивленно:
– И чего ты разошелся? Брыкаешься, как глупый бычок, а того не сообразишь, что мне в бригаду надо. Люди ждут.
– Ах, так! Бычок я тебе, да? – Сидоров вскочил на телегу, вытянул с маху кнутом лошадь, та от неожиданности присела и, всхрипнув, рванулась. Он повернул к Ксюшке рассвирепевшее лицо и ткнул ее в бок коричневым, костистым кулаком. Не удержавшись, она слетела с телеги, распластываясь в пыли. Около нее мягко шлепнулся мохнатый узел с пирогом и шаньгами.
7
Всю ночь в бочажке в старом лезвистом камыше ошалело кричали лягушки. Казалось, звонко булькала там от сильного кипения вода. С вечера, когда Ксюшка добралась до Вороньего лога и было уже сумеречно, а на тускнеющем небе по-росному пробрызнули первые звезды, в камыше надсаживался одинокий кулик – не то хвалил свою жизнь, не то жаловался на весь белый свет. Ксюшка подумала сполоснуть лицо и подошла к бочажку уже вплотную, но из сухого грязного камыша повеяло такой студеной сыростью и гнилью, а из-под ног с каждым шагом взлетали и тут же плюхались такие лупоглазые, студенистые и бородавчатые ошметки, что Ксюшка, словно от озноба, передернула плечами и повернула обратно.
Она дождалась Женьку в конце гона, где борозды делают тугие полукружья и, точно по нитке, снова уходят в даль, сизеющую сумраком, накормила его теплым еще, чуть помятым с боку, пирогом и шаньгами.
Куски рыбы он брал прямо пальцами темными, как земля, и старательно уминал за обе щеки. Блестели белки и зубы.
– Ты спал?
– Угу.
– Когда ты спал?
– Днем. Вода в радиаторе закипела, я и уснул…
– Да ты не давись. Не пожар… А ночью?
– Тоже.
– Много?
– Не знаю. Мало, наверно. Будто и не спал вовсе.
Она сидела перед ним, потирая незаметно горящее колено, которое ломило после падения с телеги, и расспрашивала так, как, наверно, расспрашивала мать за ужином после работы отца: спокойно и даже как бы равнодушно. И наработавшийся отец отвечал так же скупо и как бы равнодушно.
– Устал, небось?
– Вроде бы нет… Я люблю уставать.
– Хвальбуша.
– Нет, я серьезно. Человеком себя чувствуешь.
Женька вытер пальцы о траву, отвалился на спину, осоловело уставился в небо. На востоке прорезался месяц. Из сумрака выплыл человек, поднял руку:
– Мир честной компании, – бросил сажень с плеча, тяжело опустился рядом с Женькой. Закуривая, сказал: – Здорово кроешь, Жариков. Я тебя на реактивный посажу. – Ксюшку он будто и не видел.
– Посади только, – по-недоброму отозвался Женька.
– А что? Заслуживаешь – посажу. Не рад, скажешь?
– Дурной ты, Десяточка, – Женька все так же лежал на спине. – Я же за дружка работаю. У него несчастье… А ты – реактивный…
– А ты чего хочешь?..
– Ничего. Приедет, тогда хоть на ракету баллистическую – луну распахивать.
– Что-то я тебя не пойму. Чудной ты…
– Какой есть.
Ксюшка молчала. Женька поднялся, ссутулившись, пошел к трактору. Десяточка вмял каблуком папиросу в землю, покрутил головой:
– Чудак твой Жариков. Не спит и на клячу просится…
– Он правильно говорит.
– А если показатели у него такие?
– Вот и сади их вместе с Мызиным на свой реактивный.
– Мызина-то нет. Он не работает.
– Бюрократ ты, Десяточка, и больше никто.
– А ну вас всех к черту!.. Я же и бюрократ, – он поднялся, посмотрел в сторону Женьки, спросил через плечо: – На стан-то пойдешь?
– Меня бригадир до утра отпустил. Утром и приду.
– Ну, бывай, коли так. Чудаки вы, честное слово…
Он ушел, перекинув сажень через плечо, а Ксюшка полезла в кабину.
В кабине было душно и горячо пахло маслом. Женька двинул рычагами, трактор пошел, а время, кажется, остановилось. Оно отсчитывалось изредка длинными, дремотными гонами, которым, вроде, не было ни конца, ни начала. Она хотела сказать Женьке, что он правильно сделал, отказавшись от реактивного, но трактор глушил голос, и в ответ на ее крик Женька только закивал головой. Он все время цепко держался за рукоятки, словно боялся неожиданно проклюнуть носом смотровое стекло. А голова сама по себе тяжело клонилась вперед и он часто вскидывал ее, усиленно моргая при этом глазами. Наверно, прошло уже много часов, а тьма была все такой же застывшей, чернильной. Среди ночи, когда они начинали новый гон, Женька незаметно свесил голову, не отпуская рукоятку. Ксюшка заглянула в лицо с закрытыми глазами и не зная, что делать, напугалась – вдруг трактор сойдет с борозды и пойдет в сторону, – крепко положила свои руки на Женькины кулаки. Его руками сжала рукоятки. Замерла так, вытягиваясь боком, подпирая Женьку плечом. Немигающими глазами со страхом смотрела на борозду. Женька шевельнулся, тихонько отодвинул Ксюшку на свое место…
На дымчатом рассвете они сидели прямо у гусениц теплого трактора. Женька нехотя доедал холодный пирог, тяжело двигал челюстями. На Ксюшку смотрел сонно, вяло и как-то виновато улыбался. Потом похвалил:
– А ты молодец, Ксюша. С тобой прямо, как с парнем, можно дружить…
Она сидела, поджав ноги, опираясь на руку. Есть не хотелось. В ушах стоял еще монотонный шум мотора. Немела спина, ноги.
– Ладно, ешь свой пирог. Оно лучше будет.
– Я где-то читал – людей так пытают. Не бьют, ничего, а просто не дают спать – и все.
– И что?
– Думал – ерунда. Главное – не истязали бы. Оказывается нет: дуреешь. Сам не свой становишься. Так, наверно, с ума можно сойти.
– А зачем напросился один работать? Хвастун…
– Я говорю, что вообще можно с ума сойти. А я что?.. Подумаешь, трое суток. Можно совсем не спать. А вот когда десять, пятнадцать, там – да. Но выдерживают все-таки. Знаешь, если человек очень захочет, он все может.
– Так уже и все?
– Все. Человек – он такой.
– А ты сможешь?
– Я?.. Не знаю, – он вытер губы рукой, подумал. – Нет, не смогу, наверно.
– А говоришь, человек может.
– Так то – человек. Знаешь, каким надо стать, чтобы до человека дорасти?
– Каким?
– Не знаю… Я бы комиссии такие создал, которые определяли бы какого ты класса, как человек: первого, второго, третьего там. Чтоб и на честность, и на выдержку, и на ум, и как к людям относишься. Тогда бы жизнь была.
– Мелешь ты что-то. Усни лучше.
– Может, и мелю. Только такие комиссии я бы обязательно создал.
– Ладно. Ты спи давай, а я пойду. Завтрак там готовить надо…
– Посиди еще немного, – он ткнулся лицом в ее грудь, ощущая упругость сильного тела. Замер так, сказал счастливо и сонно, не отнимая спрятанного лица:
– Хорошая ты. От тебя хлебом и землей пахнет. Хорошо…
Ксюшка сидела не шелохнувшись. Спутала рукой его волосы, вздохнула с сожалением:
– Идти надо, – вставая, потрогала бок – будто камнем саданул костлявым кулаком Никифор. Синяк, наверно, сидит. Встряхнула платок от крошек. – Ты не проспишь?
– Нет. Я – сидя. Да и заправщик скоро приедет, – он привалился спиной к гусенице, откинул голову и тут же замер.
Она пошла по дымной от рассвета пашне, думая, что ничего невероятного в ее жизни не случается и что опять надо будет варить кашу, чистить противных карасей… Потом оглянулась на уснувшего Женьку, вернулась и осторожно пошарила в нагрудном кармане легкой куртки – достала глянцевую фотографию, сунула ее в вырез платья. Женька в неловкой, изломанной позе, с опущенными вдоль тела руками, откинутой головой, с открытым ртом даже не пошевелился. Он, казалось, не дышал…