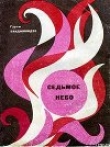Текст книги "Двое на рассвете"
Автор книги: Николай Голощапов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 4 страниц)
Она плотно прижала локоть Сазонова и взглянула в его лицо снизу вверх дерзковатыми прищуренными глазами. Такие же глаза были у нее, когда она кричала: «Паганель!» – и когда позднее разговаривала тоном старшей. Он увидел в ней прежнюю Катю, почувствовал вдруг тепло, разливавшееся до кончиков пальцев, и, не зная, как выразить свое чувство, молча повел с тропки на самую верхушку, к громадному ноздреватому валуну.
– Вот здесь, метров семьдесят – восемьдесят должна быть.
Катерина огляделась, присела на валун.
– По обычаю, перед дорогой, – пояснила она, поправляя пальто.
Взглянула на него искоса, словно не верила, что он, Сазонов, сумеет без нее поставить здесь, на Волчьей горе, свою мачту. Он сидел рядом, чуть сутулясь, словно нахохлившаяся птица, с сумрачным, тяжелым взглядом. Погладив рукав его плаща, поднялась.
– Вот и все… Да! Ты запиши мне свой адрес, я где-то вчера потеряла старую записную книжку. А так… могу забыть.
Сазонов пошарил по карманам. В руки попал бланк телеграммы.
– Карандаша нет. Возьми телеграмму. Здесь есть адрес.
– Спасибо, – она перечитала телеграмму, улыбнулась. – Ладно, не будем горевать… – И, увидев его невольное движение к ней, с улыбкой предупредила: – Не надо… Просто – до свидания…
– До свидания! – почти выкрикнул он. В горле что-то сжалось, запершило.
Катя, не оглядываясь, быстро заспешила вниз, туда, где лежали стальные пути.
ПРЯМО ЧЕРЕЗ ПОЛЕ
1
Сборы в районный центр у Марии обычно были хлопотливыми и праздничными.
Еще на пороге шумно сбрасывалось пальто; из распахнутого шкафа летело на спинку кровати лучшее платье из вишневой панамы; сосредоточенный и все понимающий Никитка вместе с гвоздями, деревяшками и молотком переселялся к соседке. Мария влетала к ней без стука, громко и радостно провозглашала: «В столицу еду!», чмокала на прощанье Никитку в упругую щеку, добавляла: «Будь умницей», и – легкая – спешила к себе, к маленькому настенному зеркалу.
Сегодня Мария, не снимая шляпки, как-то беспомощно опустилась на пол рядом с Никиткой, прижалась щекой к его теплому бугроватому лбу и шепнула, скорее советуясь, чем утверждая:
– Никита, завтра я привезу тебе отца…
Никита заглянул в ее лицо и серьезно спросил:
– А он где-ка?
– Ты же знаешь, – удивилась Мария. – Учился он…
Сын отвел глаза:
– А тетя Маша говорила…
Мария рассердилась: нет, дальше так нельзя, надо чтобы отец был дома. Она не стала слушать о тете Маше и обиженно крикнула:
– Что там твоя тетя Маша знает!..
Надув щеки, Никитка сосредоточенно нагромождал кубики друг на друга и, когда они с сухим треском рассыпались по полу, сказал:
– Учился… что ли всю жизнь?..
Мария почувствовала: перестал верить Никитка, вот и не радуется. А все – соседка. И говорит он неправильно. Из-за нее же. Поправлять не стала: бесполезно, да и надоело. Приедет муж и все образуется.
Она вытащила голубой конверт и сказала заискивающе:
– Соскучился он о тебе. Пишет, что привезет вот… самосвал.
Никитка сбросил кубики, потянулся к письму; Мария наугад ткнула пальцем в середину тетрадного листа: о самосвале соврала, в который раз уже за эти два года.
Сняв платье, она оглядела себя, отметила, что, пожалуй, еще больше заострился узкий нос, обозначились складки у губ. Стала расчесывать густые, коротко подрезанные волосы.
Два года…
Жили они в ту весну в полевых вагончиках, маленьких, как ульи. Вагончик женатых был разделен на крохотные закутки. Весна была поздняя, и по вечерам вот так же розовела степь, бурая и совсем дикая. В косом свете уходящего дня она казалась древней; Мария тосковала о Никитке, который жил у матери, думала о городе, его налаженном уюте и от одного взгляда на золотящиеся увалы становилось больно, словно кто-то огрубевшими ладонями брал сердце и медленно его стискивал.
По ночам Мария часто просыпалась от стреляющего звука жести, хлопавшего на ветру по крыше вагончика, долго слушала ночь, равнодушный рокот тракторов, жалась к мужу, посапывавшему в крепком сне, и думала, что все это просто затянувшийся неласковый сон.
А утро колодезной водой сгоняло дурь, тело крепло, свежела голова, и она посветлевшими глазами окидывала закуток, настолько тесный, что они с мужем одевались по очереди.
Муж с каждым днем становился молчаливее, за ужином пристально рассматривал свои налитые от усталости, сбитые руки и заговаривал о Челябинске. Мария молчала, грустно думала, что если человек начинает смотреть только в прошлое, он старится, но она понимала мужа и тоже какими-то остекленевшими глазами начинала видеть свои стоптанные, перепачканные за день в навозе, единственные туфли, которые все равно не были здесь нужны, и морщилась, как от зубной боли. Жизнь в степи оказалась иной, чем представлялась в городе, и Мария боялась не выдержать. Она стыдилась своей слабости, особенно той, что слепо брала ее по ночам за душу, молчала о ней, завидовала шустрому Юрке Зобину, который говорил: «Иной человек, как аккумулятор: пока его не зарядят, ни за что не заискрится», и тихо думала, что она тоже аккумулятор, только плохой: днем на ферме чувствует себя хорошо, а как вечер – тоскует по дому. А тут еще муж с настойчивыми уговорами вернуться. Спорить она не умела. Да и о чем спорить?.. Но почему-то ей трудно было посмотреть ему в лицо, и она, не поднимая глаз, тоскливо прерывала:
– Ну, запела наша Маланья…
Мужу не пришлось, наверно, ее уговаривать, если бы он догадался сделать так, чтобы она, как женщина, первая промолвилась о возвращении в город. А так Мария непонятно для себя ожесточалась против его слов и упорно избегала взгляда.
Вскоре муж с радостным блеском в глазах уехал в срочную командировку, которая почему-то стала удивительно затягиваться. Мария долго ждала его.
Привезли первые щитосборные домики и стали их устанавливать. Люди в брезентовых плащах разбивали взгорок на сквозные улицы. Молчаливые, эти люди казались Марии важными и очень нужными здесь, в неустроенной степи. Ей по-ребячьи хотелось заглянуть в маленький окуляр теодолита, как в подзорную трубу, и, может быть, увидеть не существующие дома и кипень зелени над ними.
А муж все не ехал. И однажды, когда к вечеру особенно остро заломило руки от двухчасовой дойки коров, и она, с трудом разгибая спину, чужими, негнущимися пальцами развязывала косынку, ей подали письмо. Дома Мария дважды прочитала его и уразумела только одно: «…устраиваюсь на работу. Сниму квартиру, приеду за тобой». Она задвинула щеколду на двери и стала очень тихо раздеваться, словно боялась, что соседи, стучавшие посудой в своем закутке, узнают что-то непристойное, стыдное для нее. Мария как бы со стороны отмечала каждое свое движение: сняла чулки, сняла платье, освободила грудь от лифчика… Боялась одного: чтобы вдруг не постучали в дверь.
Долго лежала застывшей, прислушиваясь настороженно к чему-то, подтянув колени к подбородку. Слезы пришли незаметно, обильно засолонили лицо и, чтобы не разрыдаться, она закусила подушку. Так с закушенной подушкой и кляла его, как в бреду:
– Когда тяжело, спину показал… А мне легко?.. Скажи – легко? Удрал. Мужчина. «Приеду за тобой». Как вор… тайком. Черт с тобой. Все равно тебе жизни не будет…
Слезы шли горячими волнами, душили, бросали плечи в крупную дрожь…
Не одну неделю (пока не привезла Никитку) она медленно, как после болезни, приходила к жизни.
Два года… И вот он опять – в бессчетный раз! – зовет к тебе, а завтра, пишет, что прибудет в район шефом от своего завода.
2
Приехала Мария в районный центр продрогшей, с тяжелым сердцем: разговор с сыном не выходил из головы.
Замирали охрипшие петухи. Попутный грузовичок, переполненный базарной снедью, в кузове которого она тряслась всю дорогу от совхоза «Синеволино», лихо развернулся у темных окон райисполкома и устало скрипнул тормозами. Шофер приоткрыл кабину, весело крикнул в предрассветную тишину:
– С добрым утром, красивая! Остановка Полезай, кому надо – вылезай! – и засмеялся довольный своей шуткой.
Мария, опершись о борт кузова, неловко спрыгнула.
Шофер прикуривал. В слабом свете спички порылась в сумочке, достала две десятирублевки, протянула их шоферу.
– Не обидитесь?..
Тот осветил деньги спичкой, небрежно двумя пальцами выщелкнул ее на промерзшую землю.
– Калым! Сто пятьдесят с прицепом – и никаких претензий. Порядочек! – и беспечно подмигнул Марии.
Поднимаясь на дощатое крыльцо райисполкома, Мария строго подумала, что шоферы – народ избалованный. Ни за что, ни про что – подвез человека – и выкладывай плату. Как будто и машина не государственная. «Сто пятьдесят с прицепом», а потом авария. Водка – дело известное.
Она подождала, когда отъедет машина и постучала в тяжелую холодную дверь. Сторожиха, закутанная поверх телогрейки в толстую шаль, молча впустила ее в полутемный коридор, закрыла дверь на длинный гремящий крюк и, не обмолвившись ни словом, отошла к печке – застучала поленьями, загремела чугунной печной дверкой.
– На диван ложись. Отдохни с дороги, – бросила она через плечо.
Мария прошла в глубь гулкого и длинного коридора, в котором пахло пылью и свежевымытым полом.
Диван оказался широким, просиженным. Она вытащила из сумки газету, расстелила и, осторожно, чтобы не смять плиссированную юбку, легла, укрывшись пальто. Было неуютно и холодно…
Какой-то получится встреча с мужем. Два года… «Зачерствел отрезанный ломоть, а ты приставить хочешь», – сказала ей вечером соседка. Зачерствел. Никитка совсем отца забыл… Из-за сына и поехала навстречу: врала, что отец учится, вот теперь и выкручивайся. Самосвал купить надо обязательно. Это – раз. Грим и парики достать – два. (В совхозе думают, что она уехала только по делам). Финансовый отчет в райком комсомола сдать – три. Поругаться с заведующим отделом культуры – четыре…
Она готовила горячие слова, после которых заведующий отделом, конечно, не сможет работать по-прежнему. Мария вспомнила почему-то лихого шофера. Заспорила с ним. Тот, нагловато улыбаясь, тянул из ее рук последний рубль и говорил бессмысленные слова: «Калым с прицепом – и вся игра»…
…Двери захлопали, послышались голоса, и в коридор потянуло холодом. Мария открыла глаза и смутилась: за окном полоскалось серенькое, ветреное утро, мимо сновали люди.
У дивана стоял высокий мужчина. Щурясь, он рассматривал ее и, благодушно улыбаясь, декламировал:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…
Мария растерянно прикрыла горло рукой, одернула подол и торопливо спустила ноги. Мужчина бесцеремонно смотрел на нее. Она крепко потерла ладонями щеки и зло посмотрела на него: «Цепляется тут всякий…»
Он стоял все так же улыбаясь, чуть склонив голову с четким пробором. Заговорил рокочущим голосом:
– Простите, разбудил… Но для сна должна быть постель…
– А вы постройте вначале гостиницу, – сердито прервала его Мария.
– Гостиницу?.. Это, пожалуй, убедительно, – он отошел к окну, запоздало спросил: – А разве ее здесь нет?..
Она промолчала. Придирчиво оглядела юбку, хотела поправить чулки, но не решилась: сновали люди, гулко выстукивали каблуки.
За дверью лениво и сухо, как дрова в печке, потрескивал арифмометр.
Мужчина стоял у окна, крупноголовый, с заложенными за спину руками и виновато уговаривал:
– Вы не сердитесь: все равно бы вас разбудили…
Мария подумала, что сердиться действительно нелепо: ничего плохого он не сделал. Взглянула на его крупную спину, сказала:
– Да я ничего…
Он повернулся к ней, все так же щурясь, влажно блеснул узкими, плотно посаженными зубами:
– Вот сразу бы так…
Мария отошла к другому окну. Рамы не были еще проклеены, и сквозь щели тянуло свежим воздухом. Под склон виднелась с мелкими перекатами и черной крупной рябью река. Грязными кусками льда плавали гуси. Вначале Мария даже удивилась: откуда лед, если река не застывала? На сырых мостках полоскала белье женщина. Вода в реке была мрачно-синяя, и выполосканное белье казалось пересиненным.
Мужчина громко восторгался:
– Нет, вы посмотрите: только у нас могут быть такие женщины. На ветру, в холод с голыми ногами – и нипочем! Лев Толстой, однажды увидев вот такую ядреную красавицу, решил, что именно они и произвели русский народ. А, как вы думаете? Верно, да?..
Мария отвела глаза от окна и скорее весело, чем сердито подумала: «Прилипчивый какой…»
Поддерживать разговор не хотелось. Она взяла сумку и пошла к двери, на которой был приколот потемневший листок ватмана, на нем славянской вязью было: «Культпросветотдел».
Не зная, что делать, заглянула в комнату, тесноватую от столов, в нерешительности остановилась у порога. В углу сидела девушка с легким пухом светлых кудряшек. «Одуванчик, – улыбнулась Мария. – Дунуть и облетит работник культуры».
– А Павла Ивановича еще нет?..
Светленькая девушка отрицательно тряхнула головой, кудряшки рассыпались и тут же привычно улеглись.
– А вы подождите.
Мария оглядела комнату. Столы была закапаны чернилами. На стене висел знакомый плакат с категорическим призывом – «Все на фестиваль!»и типографского производства лозунг со словами Маяковского:
Коммунизм —
это молодость
мира,
И его возводить
молодым!
«Я тоже молодая», – подумала Мария и вздохнула. Больше осматривать было нечего, и она опять взглянула на девушку. Та подняла голову, отчего-то смутилась, покраснела до шеи и спросила:
– А вы откуда?.. Из Синеволино?.. Заведующая клубом. Ах, простите: вам только что звонили. Что-то срочное. Не то скот заболел, не то еще что-то такое…
Мария испуганно подумала: «А как же встреча? Как Никитка?». Ей вдруг стало тоскливо.
Она до устали крутила ручку темного жестяного ящичка, наглухо прикрепленного к стене, и громко дула в трубку. Хорошо, если бы успеть сбегать на элеватор: может, он уже там – разыскивает машину до Синеволино… На коммутаторе, наконец, отозвались. Соединяли долго. В ухо потрескивало, слышались далекие неясные голоса. Неожиданно из всех шумов вырвался сердитый крик: «Какой еще лимит! Мне зябь – зябь! – пахать надо!..» Потом фальцет требовал автомашины и грозил скорым снегом. И совсем рядом, как будто это относилось к Марии, женский голос укоризненно вздохнул: «Ох, Миша, Миша. Ну нельзя же так. Я же не сказала…»
Мария терпеливо ждала, прислушиваясь ко всем этим сердитым, укоризненным, радостным голосам, недоумевала: что могло случиться за ночь? И вдруг сквозь треск и разноголосицу она услышала: «Ильюшина, это ты?». Голоса отдалились, и она крикнула:
– Синеволино!.. Я слушаю…
Говорил зоотехник. Он почему-то очень сердился и натужно кричал:
– Ильюшина!.. Где вы там все пропали?! Ни главного ветеринара, ни тебя – никого не найдешь… Я уже звонил. Что?.. Бросай все дела – это приказ директора! – и мчись в ветеринарную лечебницу. Скажи, что у нас эм-кар-р. Что? Эм-кар, говорю. Передаю по буквам. Записывай. Электричество. Мирон. Кирилл. Афанасий. Роман… Эм-кар. Ясно?.. Так вот, скажи – нужна сыворотка и формолвакцина… Там знают. Запиши. Сыворотка и формол-вак-ци-на… К вечеру будь дома… Не сможешь? Хоть пешком, но сегодня же доставь. Ясно? Давай действуй. Одна нога там, вторая здесь. Если не сделаешь – без ножа зарежешь.
В трубке что-то щелкнуло, замерло и звонким колокольцем рассыпался смех. По-домашнему теплым голосом женщина сказала: «Хорошо. Убедил. Приходи!..»
Мария тихо повесила трубку.
3
Ветеринарная лечебница стояла на самом взгорье – бревенчатое здание с порыжевшим и запыленным толем на крыше.
Мария прошла через двор, увидела створчатые двери и резко потянула железную скобу на себя.
В просторном помещении, остро пахнувшем карболкой, было пусто. В боковой стене оказалась еще дверь, покрытая охрой. Мария открыла ее и почувствовала сразу уютное тепло печи.
Мужчина, сидящий за небольшим конторским столом, не поднял головы.
– Мне нужно видеть главного ветеринара, – сказала Мария, глядя на его сивый ежик волос.
Мужчина словно не слышал. Мария ждала. Из умывальника звонко падали капли. Наконец он поднял голову, нетерпеливо спросил:
– Так в чем дело? Я вас слушаю…
Мария увидела, что брови у главного ветеринара странные – топорщатся черные кустообразные пучки волос. Высоко вскинутые, они делали лицо его удивленно-ошарашенным.
Выслушав Марию, он сердито пошевелил бровями, искоса, недоверчиво посмотрел на нее и как-то жестко воскликнул:
– Эмкар-р! – и в этом «кар-р» Марии послышалось нечто зловещее. – А вы не ошибаетесь, гражданочка?
Она молча подала ему бумажку. Он долго сидел за столом, вчитываясь в наскоро записанные ею три слова, наконец, протянул:
– Да-а, действительно эмфизематозный карбункул, – и вдруг сердито вспыхнул: – Да где же вы раньше-то были?..
– Я?.. В райисполкоме, – ответила Мария.
Он вскинул глаза, с изумлением посмотрел на нее и досадливо отмахнулся:
– Не о вас, гражданочка, речь. Я говорю: где были раньше ваши синеволинские ветеринары и прочая там братия?.. Времени-то, наверно, прошло немало, а вы – эх-ма! – за шестьдесят километров, – главный ветеринар не на шутку сердился. Его плохо выбритые щеки порозовели, он стоял уже рядом с Марией и больно упирался сухим пальцем в ее плечо: – Да вы знаете, что такое эмкар? Это – пожар! Это… ну, если, например, на сие почтенное заведение вылить пару бочек бензина и бросить горящую спичку, то попробуйте, зазевавшись, потушить… Вот и эмкар: вспыхнул и – баста! – нет скотинушки!..
Он прошел в соседнюю комнату и быстро вышел оттуда, прижимая к груди большие круглые флаконы, залитые сургучом, тряхнул одним, взбалтывая бурую жидкость, и сказал властно:
– Вот! Я вам даю сыворотку и формолвакцину. И, уважаемая, извольте не позднее ночи быть дома. А лучше всего – к вечеру. Иначе – хана! Хана и вам и скоту!..
Значит пропала встреча с мужем. Опять надо будет врать Никитке. Мария с трудом втолкала флаконы в сумку и осторожно потянула за ручки: сумка получилась увесистой. Главный ветеринар громко говорил по телефону и торопил какого-то Чеснокова. Брови его сердито топорщились и, когда он повышал голос, на длинной жилистой шее взбухали вены. Бросил трубку, шумно выдохнул воздух, словно сбросил тяжесть, хлопнул ладонью по столу:
– Оставайтесь. Ждите машину. Довезут до совхоза. А я пошел.
Надел залоснившийся плащ и, ссутулив угловатые плечи, ушел.
И вот Мария ждет машину, а ее все нет. За это время успела бы сбегать в раймаг, заглянуть на элеватор. Но уйти нельзя. А вдруг муж опередит: войдет в дом без нее. Думалось встретиться как бы случайно. В доме труднее разговаривать…
Она сидит у окна на высокой и узкой скамье. Над самым ухом усыпляюще, без передыха вызванивает тонкое стекло. Ознобно бьется пожелтевшая полоска газеты, оставшаяся от прошлогодней оклейки окон. Хочется спать: под вспухшими веками ощущение горячего песка, видимо, простудилась на грузовике.
Скорее бы пришла машина. Падают капли из умывальника. Она считает до десяти, двадцати, до ста и устает… И что за напасть с коровами? Она тоже хороша: все только собирается взять шефство над красным уголком животноводческой фермы… В комнате тишина, сюда никто не заходит. Только утомительный, настораживающий звон тяжелых капель. И почему не отремонтируют умывальник?
Она поднимается и выходит во двор.
На севере – завеса в полнеба, свинцово-пепельная, пухлая. Она дымится, растет, застилая блеклое небо.
Мария беспокойно проходит по двору, избитому копытами и густо усеянному шишляками, скучному от безлюдия, и выходит за ворота, на широкую дорогу, когда-то аккуратно обструганную грейдером. Дорога по-прежнему пустынна. Мария садится на зеленый плитняк у самых ворот, ее сразу прохватывает ветром, она ежится и, не выдерживая, возвращается в лечебницу.
На узкой скамье сидеть неудобно: ноги не достают до пола, колченогая скамья покачивается. Мария упирается локтем в подоконник, поддерживая голову кулаком, и сладко, дремотно думает о густом чае с сизоватым дымком и нагретой постели с тяжелым ватным одеялом.
А машины все нет. Директор бы мог прислать свой «газик». Хотя он, кажется, опять ремонтируется. Плохие дороги, вот и разбиваются машины. И это, свалившееся неожиданно на плечи: «Эм-карр!» – будто кричат вороны.
За окном, в кустах чахлой акации протяжно и тонко, словно сквозь зубы, насвистывает ветер.
Также тонко, но совсем неумело насвистывает иногда Никитка. Нос у него точно коноплей осыпан. Над бугроватым лбом волосы растут не прямо, как у всех людей, а сразу назад, к затылку, и опущенная челка повисает дугой. «Нашему Никитке волосы корова зализала», – смеется над ним соседка. Никитка не сердится – он выше этого, а только пыхтит, раздумывая над чем-то сосредоточенно. У него бывает уйма ошеломляюще пестрых вопросов, и Мария часто теряется: откуда он их берет?
Когда она возвращается домой, он, забыв о молотке и гвоздях, подходит к ней, долго молча смотрит в глаза и самым серьезным тоном спрашивает:
– Мам, блондин это что такое? А брюнет? Сначала брю, а потом нет? А что такое брю?..
Бывает так, что она не знает, как уйти от вопросов и тогда хватает его в охапку, валит навзничь и, щекоча шершавыми холодными губами его шею, сердито грозит:
– А ну, где у тебя нос? Сейчас покличу воробьев, и они склюют твою коноплю…
Но серьезного человека нельзя так просто обмануть. Он сучит ногами и смеется:
– Ага, не знаешь! Не знаешь, а еще щекотаешься. – Как будто есть прямая связь между тем, что она знает и тем, что хочется вот так бесконечно тискать и щекотать его шею губами.
Родной человек может целыми днями безропотно ждать ее, но подчас и он сердится. Однажды Никитка не спал до самой ночи и, когда она вернулась, горько сказал:
– Вся моя жизня ушла в любовь…
– Что-что? – удивленно переспросила она.
Но он, отвернувшись к стене, не захотел отвечать.
И вот он опять ждет ее. А она не смогла купить самосвал. Что сказать? Он и так перестал верить в ее россказни об отце.
А машины все нет. И опять слышится ей: «Эм-кар-р!» Тяжело падают капли.
За окном словно наступают сумерки – начинает валить снег. Лохматый, сухой, он наискось бьет по окну и тихо ложится на землю.
Мария трогает лоб. Горячий. Она пугается, что может заболеть: говорят, свирепствует какой-то вирусный грипп. А как же тогда скот? Их комсомольские ругачки о надоях и упитанности? Ведь назвал же директор однажды комсомольцев «гордостью и опорой совхоза». А какая из них опора! Прав был Юрка Зобин, когда говорил на последнем собрании:
– Товарищи! Мы построили совхоз и успокоились. Мы давно вышли из своих рамок и должны войти в них обратно.
Все согласились, что надо войти обратно в свои рамки, назначили посты, контроль, нарисовали в клубе красивые диаграммы, а теперь вот может все рухнуть. «Как пожар»! – вспоминает она, и ей становится жарко… Размечталась она тут о чае, о теплой постели. О Никитке раздумалась, будто не сумеет поставить его на ноги без мужа. А машины все нет. Может, ее и совсем не будет.
Мария встает, опять идет через двор к воротам, на широкую дорогу. Острая свежесть окатывает всю, словно холодной водой. Кажется, что где-то невидимо расцвели ландыши – тонкий, едва уловимый аромат пронизывает густой воздух. Ее бьет легкий озноб, она уныло возвращается в помещение. Вернее всего – пойти пешком. Да и опоздала она разыскивать мужа. Можно просидеть до морковкиного заговенья, а так все-таки будет двигаться к дому. Она старается представить коров, заболевших эмкаром, но только видит большие лилово-влажные глаза и кривые струйки слез на атласных мордах.
В помещении Мария взяла увесистую сумку и, чувствуя ее тяжесть, вышла.
4
Снег бил в правую щеку. Сначала ее покалывало будто ледяными иголками, потом кожа онемела и стало тепло.
Вдоль дороги уныло стояли телеграфные столбы. Провода молчали. Снег все валил. Из белой замяти столбы выплывали призрачно и медленно.
Она шла словно в какой-то дреме. Озноб больше не бил, только что-то давило на ушные перепонки, и в ушах гудело. Она прислушивалась к проводам, но провода молчали.
Дорога, схваченная холодом, была неровная, и Мария все время спотыкалась, будто об узловатые корни сосен.
Думалось о лете, о июльском солнцепеке. С детства Мария привыкла к паутинным перелескам, к густому настою хвойных лесов, когда стволы сосен, казалось, раскаливаются докрасна, а внизу – прохлада и дурман трав. В степи она до сих пор скучала от ее однообразия, но говорила себе: «Живут люди – и нравится. Могла и не приезжать. А приехала – финтить нечего. Степь – не Рижское взморье, тут работать надо».
Не то ветер переменился, не то повернула дорога: щека запылала.
Неожиданно впереди ударил наискось голубой дымный луч солнца, блеснула белизна косогора, ширясь и скатываясь к дороге. Мария увидела, как низко шевелятся тучи, поняла по крутизне луча, терявшегося в быстрых облаках, что далеко еще до вечера, и ободрилась. Сбоку, по горизонту, вскользь ударил второй луч, а первый, не докатившись до дороги, потух. Потом сразу прорвалась напоенная светом полоса, степь неоглядно разбежалась, – лучи словно бы гасили снегопад и от этого дымились.
Мария прибавила шагу и весело взглянула вдаль – на льющуюся полосу света, на шеренгу столбов в этом неохватном просторе. Столбы стояли уже не так уныло, и ей почудилось, что провода о чем-то пели.
За спиной послышался негромкий шум машины. Она оглянулась. С нарастающей басовитостью приближался тупорылый грузовик. Она поставила сумку к ноге, неуверенно подняла руку.
Обдав резкой гарью бензина, грузовик прошел мимо, по-утиному качнулся на колдобине и неожиданно замер, словно уткнувшись в стену. Мужчина в кожане, высунувшийся из кабины, крикнул:
– Подберем, хозяюшка!
Неловко ступая по застывшим комьям дороги, Мария поспешила к машине, сунула в кабину увесистую сумку с флаконами и втиснулась на сиденье – третьей. Мужчина рывком захлопнул тяжелую дверцу. Где-то под ногами у шофера скрежетнули шестерни, машина, словно бы вслепую, осторожно тронулась.
Мария искоса взглянула на мужчину и почувствовала неловкость: это он сегодня восхищался русской женщиной. Решила не узнавать. Так, вероятно, лучше будет и для него. Сладко вытянула ноги и закрыла глаза.
А он осторожно ерзал, устраиваясь, тихо покашливал. Машину встряхивало. К Марии вернулся противный озноб. Тело стало будто невесомым. В глазах таяли оранжевые круги, губы сохли. «Совсем расквасилась, горожанка», – с обидой подумала она. Вспомнила, что не спросила, куда идет машина, но подавать голос не хотелось. Дорога километров на сорок одна, а там рукой подать до Синеволино. К вечеру должна успеть. Стало покойно.
Человек в кожане опять задвигался, мягко спросил:
– Вы не будете возражать против папиросы?..
– Курите…
Сердился мотор: басил приглушенно, часто скрежетала коробка передач. Машина, видимо, шла в гору. Мария открыла глаза. Слоился табачный дым, густо пахло бензином. Воздух, казалось, мог вспыхнуть от папиросы.
Мужчина пристально смотрел на нее. Увидел опаленные, полуоткрытые губы, влажный, лихорадочный блеск глаз.
– Послушайте, вы простудились…
Мария облизнула губы, кивнула головой. Он забеспокоился:
– Что же вы молчали?
Вяло улыбнулась: беспокойство было преувеличенным.
– Не хлопочите. Ничего страшного… – слабо возразила она.
– Слыхал, Вась, – обратился мужчина к шоферу. – Ничего страшного!.. Остановись-ка на минуту…
А машина все шла в гору. Земля, в рыжих лишайниках жнивья, припорошенная снегом, дыбилась к жидкой сини неба, к лохмам низко несущихся облаков. Мотор тянул на басах. Шофер равнодушно смотрел на дыбившуюся дорогу, и только его руки со взбухшими венами, лежащие на захватанной эбонитовой баранке, руки стареющего человека жили своей сторожкой жизнью.
– Вася, останови машину, – просяще повторил мужчина, вытаскивая из-за спины раздувшийся портфель.
Шофер, не поворачивая головы, односложно обронил:
– Увал…
– Остановит, только на гору въедет, – пояснил мужчина. Потом улыбнулся широко, похвалил: – Дело знает. Шофер, как говорят, еще тот…
Машина въехала на увал, четко дала несколько облегченных тактов и умолкла. И сразу сипловато и однотонно засвистел по степи ветер. Погнал полутени облаков, сизовато-серых, как замшелые лбы валунов.
Мужчина щелкнул замками портфеля, вытащил сверток, благоговейно извлек веселый, ярко-малиновый термос, зажал его коленями, потер руками.
– Сейчас мы плеснем чаплашечку чайку, и вам легче станет. – Возбужденно хохотнул: – Как Иисус Христос по душе пройдет…
Мария взяла стаканчик, согревая руки. Она с интересом присматривалась к этому немолодому, чисто выбритому человеку. В мелких складках набрякших век таились горечь и усталость. Как будто человека много обижали в жизни и он не мог противопоставить обидам ни воли своей, ни ловкости, ни силы.
Мария как-то вся размякла – не то после горячего чая, не то после его трогательной заботы, когда он извлек все из того же портфеля кальцекс и почти силой заставил ее проглотить две таблетки.
– Вот теперь с вами через час можно будет разговаривать, – сказал он ей, вновь наливая чаю. – В здоровом теле – здоровый дух, как говорили в свое время антики. Так-то!
Мария не знала, кто такие «антики», но поняла – мужчина намекал на ее неприветливость и подумала, что она, наверно, излишне придирчива к людям. Вежливо спросила:
– А вы далеко едете?
– Далеко. За своей семьей еду. Переезжаю в ваш глинобитный, сквозняковый край, – с готовностью заговорил он. – Долинов я. Начальником районного статуправления буду работать, – вздохнул и грустно посмотрел вдаль: – Ни за что бы не поехал в эту степь. Там домик, что теремок. Садик, гуси-лебеди и прочая скотинушка. А здесь?.. – Он загрустил, но спохватился и спросил: – Что же вы один чай пьете? Вот хлеб, колбаса…
Мария благодарно улыбнулась, осторожно поинтересовалась:
– У вас там неприятность случилась?
– Если бы просто неприятность!.. Чуть в тюрьму не упекли… – Он заговорил возбужденно: – Я же статист. А мы, статисты, как зеркало, беспристрастны, – но тут же сник, поморщился. – Словом, история муторная. Вы лучше кушайте…
Мария наивно спросила:
– А если правда была на вашей стороне?..
– Правда? – хмыкнул Долинов. – Правда – она, как дышло, куда повернул, туда и вышло. Так-то!
– Правда, наверно, все-таки одна, – возразила Мария.
– Одна?.. – с сомнением переспросил он и пренебрежительно фыркнул: – Поживете с мое… Да вы лучше кушайте.
Она вернула порожний стаканчик и, отряхивая крошки, виновато сказала:
– Чего доброго, я вас опила…
– Опила? Да мы только в первый колхоз завернем… Председатели знают, что такое статистика. – Косо взглянул на Марию и, хлопнув безучастного Василия по колену, пояснил: – Чайку нам всегда одолжат. Так ведь. Вася?..
– Отчаевничались, что ли? – ответил тот вопросом.