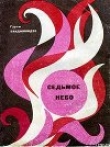Текст книги "Двое на рассвете"
Автор книги: Николай Голощапов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 4 страниц)
– Да, да, поезжайте, пожалуйста…
Долинов грустно вздохнул:
– Эх, какой ты, Вася, степняк… Ведь мы же не гора с горой, а ты… Степняк, словом.
Дорога пошла под уклон. Облака жались к земле, оставляя тающие клочья в космах полегшей некошеной травы. Шофер молчал, вел машину словно на ощупь и от этого ехать становилось особенно скучно. Не окажись рядом с ним Долинова, он бы и не заметил, что она больна. И машину бы не остановил. Конечно, Долинов верткий какой-то: никак не ухватишься, но он внимателен к человеку и в беде его не оставит. «Спас вот меня: я таблетками напичкал и чаем напоил».
Она вдруг куда-то быстро поплыла, заскользила как бы с пологой горки боком, вниз головой, в мягкую, кутающую темноту, хотела встряхнуться, открыть глаза, но сил не было и неожиданно близко увидела морды коров с влажными, широко раздутыми ноздрями, с глубокой тоской в налитых кровью глазах. Низко пригнув рога, они с каким-то судорожным порывом нацеливали их прямо на Марию. В стороне с вилами стоял Юрка Зобин и злорадно хохотал: «Ага, вот теперь сумей выскочить из рамок…» Она никак не могла понять, из каких рамок ей нужно выскочить и почему так нагло хохочет Юрка. Хотела крикнуть: «Что ты стоишь там кочкой? Человек в беде, а он хохочет! Комсомолец еще…», – но голоса не было и на сердце пала вдруг смертельная тоска – она не могла ни убежать, ни поднять руки. А коровы мелкими шажками надвигались на Марию. У ней подкосились ноги и выступил холодный пот. Падая, она закрыла глаза. И вдруг кто-то ее осторожно понес и лукаво сказал: «Мы же не гора с горой…».
Мария открыла глаза и вздохнула. Долинов курил, осторожно оглянулся.
– Уснули немного? Это хорошо. Пока доедете, будете здоровой…
Мария благодарно улыбнулась, вытерла холодный мокрый лоб, во рту был вяжущий привкус, словно лизнула железный ковшик. Голова кружилась. Она проверила сумку с флаконами, посмотрела в боковое стекло.
Оранжевое солнце висело над самым горизонтом. Осевший снег сохранился только по обочинам дороги. Редкие пухлые облака казались клубами пара и катились прямо по гребням увалов. Машина опять брала подъем, Мария переставила ноги – подошвам стало горячо. Наконец, въехали в розовое облако, – в носу защипало, и дышать стало труднее.
Она закашляла. Долинов возбужденно потер руки, радостно чертыхнулся:
– Дьявол! Заоблачные выси спустились на землю!.. Это здорово, я вам скажу…
Василий буркнул:
– За руль бы вас посадить, – презрительно добавил: – Вы-си.
– Ты прозаик, Вася, – Долинов обернулся к Марии: – Вот нашей милой попутчице эта поэзия по душе.
Мария не ответила. Долинов чувствовал себя радостно-возбужденным:
– Послушайте, я вас знаю с утра. Не так ли? Покаялся перед вами как на духу. А от вас ни слова. Это, по-моему, не очень вежливо, а?
Мария дружески улыбнулась:
– Мне каяться-то вроде бы не в чем… А впрочем, вот моя анкета. Мария Ильюшина. Тридцать четвертого года рождения. Комсомолка. Заведующая клубом совхоза «Синеволино». Замужняя, есть ребенок…
– Ого, это уже интересно! А муж кто?
– Участковым механиком работает, – соврала она и поверила: может, сидит он, блудный, в доме и разговаривает сейчас с Никиткой.
– Мытарь по полям, – Долинов засмеялся: – Ну вот видите, Маша, как хорошо поручается: муж в поле, а мы с вами за самоварчик, а?
Мария промолчала. Долинов расспрашивал, потом удивился:
– А вы-то почему в эту степь поехали?..
– По комсомольской путевке приехала.
– Так-таки и послали? И не раскаиваетесь?.. – ласково спрашивал он.
Марии не понравился этот ласковый тон. Словно он погладил ее по голове, пожалел, как беззащитную.
– Никакая я не подневольная, – она старалась сдерживаться. – Все поехали целину поднимать, а я что – в хвосте буду?..
– Э-э, да вы патриотка! – протянул он.
Ей показалось, что она ведет себя, пожалуй, глуповато. Вспомнив вычитанную где-то фразу, сказала:
– Говорят, старая вонь приятнее аромата новизны. Вот и решила проверить эту истину, – и тут же прикусила губу: брякнула чужие слова, сказала совсем не то, что лежало на сердце. Да и не так было: никакую истину она не проверяла и слова эти вычитала позднее, когда стала работать в клубе.
А тот с любопытством блеснул глазами:
– Как?.. Как вы сказали?.. Аромат новизны и старая вонь… Парадоксально, но… факт. Да, факт. В этом есть своя логика. Вообще в жизни много парадоксального, – заговорил он без всякой связи с предыдущим. И вздохнул: – Но самое парадоксальное, наверно то, что мир тесен, а человек… человек одинок.
Мария удивилась. Эти слова поразили ее. Вспомнилось: когда по-воровски сбежал из совхоза муж, как одиноко было ей. Сколько взглядов ловила на себе. Думали, наверно, что и она сбежит. И потом, когда Недомерка Ксюша, рассыльная совхоза, стала аккуратно вручать письма мужа, как по-старушечьи ехидно поджимала она губы… Может, так и есть: одинок человек, хотя вокруг него и народу много… А счастье? Что такое счастье? Счастлива ли она? Может, это совсем не то, к чему надо стремиться?..
Вспомнила Никитку, свой щитосборный домик в конце новой улицы, пахнущий еще – особенно после дождя – свежей краской и известью, вспомнила почему-то опять Юрку Зобина, увидела эту степь в дрожащем мареве полдня и, кажется, дохнул на нее плотный – до звона в ушах – духмяный воздух раздолья…
– Да как же так? – заговорила она, удивляясь в то же время тому, что впервые так тепло, по-родному ей подумалось о степи. – Вот шла я одна, с тяжелой сумкой. Простуженная. А встретились вы – подобрали, напоили чаем… А вы говорите: человек одинок. Нет, неправда это…
Она отодвинулась, почувствовала сквозь пальто предвечернюю свежесть. Спрятала руки в узкие рукава пальто.
– Неправда? – Долинов недоуменно посмотрел на Марию, раздумывая, поморгал, отвернулся, обиженно сказал: – Молодежь нынче пошла: подбери, обогрей душу, а она плевать на тебя начнет. Интересный принцип благодарности.
Долинов, говоря это, стал чем-то похож на обиженного мальчишку. Мария подумала о Никитке и ругнула себя: нельзя же так просто, уцепившись за первое слово, обижать человека. Неуютно, наверно, Долинову в жизни. А она – сплеча. Сладко ли ей было, когда на нее косились в совхозе. Заведует клубом, а чуткости и культуры нет.
– Спасибо вам за чай и таблетки. Только мне показалось, что вы как-то не совсем правильно судите о жизни…
– Су-ди-те, – окончательно обиделся Долинов. – Да вы-то откуда знаете жизнь? Попрыгали с телячьим восторгом на целине и чувствуете себя ермаками. Жизнь… Я вот всю жизнь ладил с людьми, делал одно добро. Помогал слабым председателям. В дружках с ними жил. А коснулось дела – и Иван Пафнутьевич Долинов чуть ли не государственный мошенник. Эх, жизнь… Она, милая, не всегда пчелиным медом мазана, попадает и сиротский медок. Да что там… Прожить – не прямо через поле перейти. А пойдешь – и колесить научишься…
Как было возразить на эти слова? Может, он и прав в своей обиде. Да и мало ли всяких обид у человека на жизнь? Но все равно она не согласна, что мир тесен, а человек одинок. Скажи об этом совхозным ребятам – заклюют.
Меркло. Снег казался проседью облаков, легшей на землю. Где-то над головой хранилась еще слабая опаленность заката. Раздраженно пророкотали бревна старого мостика. Неожиданно мигнули красноватые огни деревни.
У обочины дороги, осев задними колесами в кювет, беспомощно дергалась машина. Длинный, тощий шофер, выскочивший из кабины, ринулся навстречу, нелепо размахивая руками.
Долинов насупился, метнул взгляд на Василия.
– Эх, еще один горемыка, – скорбно вздохнул и добавил: – Поможешь человеку, а сам сядешь…
Мария поняла: это было сказано для нее, неблагодарной и грубой попутчицы. Василий не по-доброму блеснул глазами:
– Что ж, по-вашему, совесть в кулак – и мимо?..
– Мне хоть в загашник, – озлился Долинов. – Действуй, как было приказано…
– Вы не очень-то с приказами, – как бы между прочим заметил Василий. – Я не цифрочки пишу. У нас своя бухгалтерия, – и, опуская боковое стекло, крикнул подбежавшему шоферу: – Какая тебя нелегкая занесла? Цепей нет? Разве по такой тюре можно без цепей ехать?..
Выскочил из остановившейся машины, заспешил к задним, плотно осевшим колесам. Василий оказался маленьким, подвижным. Юркнул на коленях под кузов, спешно вылез оттуда, засеменил к своей машине. Гремя цепью, крикнул:
– У меня есть запасная. Держи!..
Долинов грузно полез наружу. Мария тоже вышла размять затекшие ноги. Огляделась. С радостью узнала местность. В этой деревне они покупали у колхозников муку. Вон на том берегу, чуть повыше по течению, стояла их тракторная бригада. До сих пор где-то здесь остался совхозный полевой вагончик. До Синеволино не больше восьми километров, а если через поле – пять, а то и меньше.
Долинов молча топтался около засевшей автомашины, курил, затягиваясь глубоко! Он явно не знал, что делать.
Мария раздумывала: пойдет машина через Синеволино или нет? За деревней, у Надькиного моста, дорога разветвляется: одна идет вдоль правого берега, вторая через мост в Синеволино…
За спиной урчал мотор – захлебывался, снова остервенело брался за свою сердитую песню. Слышно было, как стремительно шуршала вылетавшая из-под колес грязь. Потом шоферы стали ругать дорогу, назвали ее квашней, тюрей, окрестили лопоухим начальника дорожного отдела. Машина сидела прочно. Василий предложил слетать к мостику, привезти оттуда пару досок («все равно на ладан дышит…»), бросить их под колеса, машину подцепить за крюк – и баста.
– Троса нет, – вздохнул тощий шофер. – Цепь очень даже порвать можно.
Мария решила пойти пешком: до совхоза рукой подать, а они еще провозятся тут до полуночи. Подумала: платить за дорогу или нет? А почему, собственно, она должна платить? Машина не личная. Никаких денег они не получат. Шагнула к грузовику, взяла сумку.
Долинов окликнул:
– А вы куда?
– Я тороплюсь…
Он стал удерживать.
– Ну, не всегда скоро бывает споро. Переночуйте вон в деревне, а утром доберетесь. Мир от этого не перевернется.
– В совхозе скот больной…
– А-а, опять соображения о долге. В таком случае вольному – воля, уходящему – путь… Только не забывайте, что у вас семья и что вам нет еще тридцати лет.
Мария не ответила. За всю дорогу она ни разу не сумела поставить его на место. И все-таки подумалось ей, что она разглядела этого человека, вернее – почувствовала его натуру. Не такой уж он хитрый, каким хотел бы казаться.
Мария шагнула от машины, но задержалась, кинула взгляд через плечо. Шофера крепили цепь к машине, Долинов стоял на отшибе, молча сосал папиросу. Он поднял воротник и глубоко втянул голову. Мария тряхнула головой, словно собираясь что-то сказать, но повернулась и круто пошла навстречу огням деревни. И неожиданно подумала: не уехать ей, наверно, из этого сквознякового, глинобитного края…
5
Темным переулком Мария свернула к реке и между огородами, обнесенными каменным плитняком, спустилась на берег, прошла по чавкающей зыби к полуоблетевшим кустам ивняка.
Дегтярная вода обдала прелым теплом мокнущих лоз; жестяно постукивали уцелевшие сухие листья. Струилась внизу между береговыми камнями река.
У осевших скользких плотков нашла лодку, нащупала цепь – и опустилась на сырые доски. Цепь была закована. Степные куркули стерегутся от самих себя.
Темнел противоположный берег. Хорошо зимой: переходи речку, где хочешь, никакой переправы не надо. Взбрехивали собаки; плыл над деревней, видимо, из клуба тоскующий голос. «…Не свила гнезда я… Одна я…», – уловила Мария. В совхозном клубе тоже всю осень крутят эту пластинку, пока не надоест. Смешные девчонки, не знавшие в своей жизни печали, слушают, грустно вздыхают при виде парней. «Стригунки, вы же еще не любили», – говорит им Мария и чувствует себя намного старше.
Она поднялась и снова пошла по пружинящему, чавкающему берегу. Продралась сквозь ивняк к самой воде, увидела вторую лодку, без прикола, загнанную под куст. Подтащила ее и долго вычерпывала консервной банкой воду – скребла по незасмоленному днищу утлой плоскодонки, ворчала под нос: «Руки обрубить такому хозяину: дыры позатыкать не может».
Потом поставила сумку в ногах, подумала и вытащила сиденье – полуметровую доску: как-никак, а все грести можно.
Переправлялась с трудом. Лодчонка сразу заходила юлой, вода тяжело ударила в борт, Мария замерла, уцепившись за низкие борта, со страхом подумала: «Утоплю сумку, самой нырять придется…» Попробовала осторожно выгребать, но плоскодонку развернуло и понесло кормой. Сидела не шелохнувшись: флаконы были дороже всего. Потом опять осторожно взялась за доску. Почувствовала, как снова разворачивает лодчонку, взглянула искоса и обрадовалась: несло к берегу.
Прибило к кустам далеко от деревни, за бугром давно потерялись огни. Вышла с трудом, погадала и пошла прямо через поле.
Поднялась на косогор и вроде бы узнала лощинку, где-то здесь овражек с родником, а там через косогор – и совхоз. Ускорила тяжелый шаг. Дышала открытым, горячим ртом. Сердце сжималось в какой-то тошнотной истоме, и от этого слабели ноги и хотелось камнем лечь на землю – холодную, мокрую – и забыть обо всем: о муже, о сегодняшней поездке, больном скоте. «Кар-р!» – пусть кричат и кружатся вороны…
Остро мерцали звезды, крупные с холодным отливом. Высоко темнел горизонт – Мария спускалась в лощину.
Но оврага не оказалось. Не было и родника, под ноги попадались кочки и чем дальше, тем чаще. Шла, запинаясь: сумка тяжело и неудобно терлась о колено… Надо было ехать на машине или же шагать через мост. Мудрит, как девчонка, а дело страдает. Так тебе и надо. Вот перемрут коровы и кайся тогда, первооткрывательница земель! Работала счетоводом в цехе, так нет, куда люди, туда и Марья крива. А у самой ни силы, ни ума нет ни на грош. Вот и остается одно – бежать следом за своим ненаглядным… А может, он, бедовый, вернулся домой и сидит сейчас с Никиткой…
Кочки пошли так густо, словно появлялись там, куда она ставила ногу. Хлюпало, солью похрустывал сохранившийся снежок. Снова запнулась и упала. Почувствовала на коленях холод от набухших чулок. Поднялась, ступила и снова упала. И, не вставая, подтянулась к кочке, села. По соленому привкусу на губах, по свежести на щеках поняла – слезы. И уже не сдерживаясь, мелко задрожала плечами…
Ни на что она в жизни не способна. И все-то у ней получается через пень-колоду. Задумала критиковать Долинова. Видел бы он ее сейчас. Вот бы посмеялся от души: запуталась в чистом поле, а в жизни как?.. И кому нужна эта ее дурацкая щепетильность с людьми! Других обижает и себя не радует.
Всхлипнула. Вытерла глаза и, прикусив губу, огляделась. Горизонт стоял высоко. Небо слабо окрашивалось заревом. Неужели там огни?.. Протерла насухо глаза. Да, зарево! Слабое, трепетное, но – зарево! Огни совхоза, а может, и не совхоза совсем. Да не все ли равно, главное – дома, люди, тепло…
Пока поднималась по косогору, стало жарко. Передохнула и чуть ли не бегом заспешила вниз – Синеволино сияло огнями. Сумка била по колену, тянула вперед. Свернула на окраину – к животноводческим фермам. На пороге «молоканки» столкнулась лицом в лицо с зоотехником совхоза.
Он недоуменно взглянул на нее, понял, что это она, Мария Ильюшина, нетерпеливо и зло бросил:
– Наконец-то!.. А я уж подумал: вас только за смертью посылать, – увидел увесистую сумку, схватил ее.
Мария опустилась на скамейку, безучастно глядела, как он свирепо выхватывает флаконы.
На циферблате настенных ходиков в такт маятнику весело бегали желтые кошкины глаза…
ДВОЕ НА РАССВЕТЕ
1
В предвесенье, когда подули влажные ветры и горьковато пахнуло из палисадников корой, ошалевшие от света воробьи начали устраивать на солнцепеке такой звон, что глохло в ушах.
В этакий денек выскочила из колхозной мельницы Ксюшка Грибанова. Взглянула на сверкающие осколки проталин и зажмурилась, – задохнулась после душного полумрака. Слушала, как гулили голуби и тяжело падала в проржавевшее ведро капель. А когда открыла глаза, увидела перед собой длинного парня в необмятой телогрейке, в полуботинках с медными пряжками на толстой красной подошве. Он заступил дорогу и рассмеялся прямо, в лицо:
– Ой, снегурочка, в какое царство торопишься?..
Ксюшка прыснула в кулак.
Вечером парень нашел ее в холодном зальце клуба на угловой скамейке. Подошел и с чудным полупоклоном – как-то по-стариковски – пригласил танцевать. Сгорая от стыда при невиданной церемонии, Ксюшка юркнула в гущу девчонок и три вечера кряду не ходила в клуб. Когда пришла снова, парень, ни о чем не спрашивая, пошел провожать. Подружек по дороге смело, как ветром. У ворот он взялся за железное кольцо, сказал набычившись:
– Все равно не отстану…
С первыми петухами шугнул их от свежего смолистого сруба Никифор Сидоров. Вслед грозно стучал суковатой палкой по звонким подмерзшим бревнам:
– Молоко не обсохло, а по чужим углам-того, значит! Подам в сельсовет заявление!..
За полдником мать, толкнув по скобленому столу глубокую чашку со щами, спросила:
– Места у своего двора мало?..
Ксюшка поперхнулась, закашлялась до красноты, невнятно ответила:
– Не убыло, чай, от его сруба.
До той поры все свои заботы она держала на виду у матери. А тут зажила двойной жизнью, охваченная незнаемым еще, смутным и нетерпеливым ожиданием чего-то невероятно хорошего. Как-то утром приникла к сухому плечу матери, пряча яркий блеск в глазах:
– Мам… А, мам… Я, кажется, завтра стану самая счастливая на всем белом свете.
– Рехнулась ты, что ли?..
Ксюшка засмеялась. Смех был новый: грудной, тихий.
В апреле она ушла с парников и определилась сеяльщицей во вторую бригаду.
2
Никифора Сидорова Ксюшка считала за непутевого человека. Был он крепок, желтозуб, с побуревшим, небритым лицом, в замызганной шапчонке, торчавшей на макушке. В колхозе Никифор с весны и до ледостава промышлял рыбной ловлей. Жил в это время на берегу камышистого по краям озера, бывал в деревне короткими наездами.
По веснам работы всем выпадало невпроворот, а Сидоров, по мнению Ксюшки, валялся в шалаше, сладко и долго скреб там свои бока коричневыми от махорки пальцами, глядел от скуки на синие с прозеленью льдины, истаивающие на чистом плесе озера.
В полевой бригаде Ксюшке пришлось работать за повариху. Рыхлая Игнатьевна слегла в больницу и лежала там вторую неделю. Ксюшка варила пшенную кашу на молоке, которая не успевала выпревать и полынную уху.
Рыбу по утрам доставлял Сидоров. Была ему выделена колхозная лошадь с телегой и плетеным коробом. Телегу Никифор не мазал, и Ксюшка за километр узнавала ее тонкий и пронзительный скрип. Ездил он из бригады в бригаду – развозил свежих карасей. Караси были крупные, с рукавицу. Ложились они, сваренные, поперек алюминиевых чашек. Когда же привозил их Никифор, то, казалось, они попадали в бригаду из колхозной кузни – этакие неостывшие пластины. Он молча выбрасывал их из коробка. Толстые и тяжелые, они шлепались на прострельнувшую зелень и горели, как червонное золото.
Сидоров гордился карасями и сердито кричал простуженным и сиплым от махорки голосом:
– Примай, деваха, мои слиточки!
Ксюшка возилась у полевой кухни и словно не слышала никифоровского окрика, показывая ему крутую и крепкую спину. Ее мутило при виде холодных рыбин, отдающих тиной и темным покоем дна.
Чистила она их, воротя нос, зло ширкала тупым ножом по мягкой сизоватой брюшине и всякий раз умудрялась раздавить желчный пузырь. Уха получалась горькой и почему-то мутноватой, будто ее сдабривали молоком.
Ребята молча хлебали уху, а Ксюшка ждала в сторонке, скрестив руки на груди, как положено хозяйке. Солнце скользило за горизонт и тогда ложились алые блики на чашки и ложки, вспыхивали искорками бирюзовые сережки в маленьких припухших мочках Ксюшки. Она стояла невысокая, ладная, с крепкими и теплыми от зари икрами босых ног, с чуть посуровевшим от ожидания лицом, сдержанно поблескивала из-под ресниц круглыми, в угасавшем свете зелеными глазами. На сеяльщиц она не смотрела. Те располагались стайкой с краю стола, развязывали платки, в которые наглухо кутались от пыли, открывали неестественно белые шеи и держались степенно.
Ребята доедали уху и не просили добавки. Ксюшка крепко поджимала подрагивающие губы и начинала глядеть в сторону усталым и равнодушным взглядом. Выручал ее Женька Жариков. Глотал он неразборчиво и не то морщился от горечи, не то жмурился на тихо тлеющую зарю. Когда ложка начинала звякать по дну, он протягивал чашку:
– Еще половничек, Ксюша, будь любезна.
Женька был тем самым городским парнем, заступившим дорогу около мельницы. Ксюшка коротко плескала на дно чашки и окончательно осознавала, что уха ни к чему непригодна.
Вечером, после ужина, наскоро прибрав посуду, она начинала собираться в деревню к матери. Думала взять лаврового листа, расспросить, как чистят рыбу. Но ночи стояли душные, банные. Звезды светились мелко и устало. Легко было затеряться в десяти шагах от вагончика во тьме, в которой даже девичья белизна березок угадывалась призрачно и смутно. К тому же, как только ложились сумерки, к дверям вагончика выносили рыжий пузырь «летучей мыши», развертывал меха баян и до ночи гудела прокаленная дневным зноем и откованная отчаянными каблуками спекшаяся, чугунная земля…
В полночь высовывал из вагончика всклоченную голову бригадир и старался перекричать разгомонившихся девчонок:
– Ошалели вы, стрекотухи? Опять вас утром за ноги вытаскивать! Я вот вас ремнем…
Стихал баян, но долго еще около фанерного вагончика слышался горячий шепот. Ксюшка с Женькой Жариковым уходили на затравевший взгорок, на котором лежал невесть откуда попавший валун. За день валун прогревался солнцем и к полночи отдавал теплом домашней печки…
3
Вечером у Женьки Жарикова поломался трактор. Женька покружил около него и пошел за Семеном Мызиным. Мызин выслушал Женьку и заругался так, словно он был бригадиром.
– Тебе учетчиком надо работать! Сажень не потребуется – своя есть…
Женька виновато переступал длинными ножищами, на которых брючины болтались, как на жердях, и хмуро отмалчивался.
Накалилась заря медленно и тихо и также тихо, медленно и ровно стала остывать. Ксюшка приготовила ужин. Постучала половником о пустой бак, созывая всех к столу. Женька с Семеном возились у трактора. В загустевших сумерках березовый колок наливался непроглядной синевой, серой пряжей распадался в низинке туман, а запад в вышине светился еще лазорево с легким, едва уловимым трепетом давно ушедшей зари.
Когда к вагончику вынесли рыжий пузырь, Ксюшка тронула хмурого Женьку за рукав:
– Пойдем к себе.
Он встал, и они молча пошли к теплому валуну, держась крепко за руки, как дети. Ксюшка ступала мелко и свободно, Женька широко загребал длинными ногами, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Был он весь какой-то размашистый и угловатый.
У валуна Ксюшка долго устраивалась. Подвернула юбку, чтобы не зазеленить, плотно прижалась к шершавому боку камня. Вытягивая ноги, почувствовала, как они горят от усталости. Женька повалился с размаху, уперся спиной в валун. Он все еще был хмур и молчалив.
Стрекотали тракторы. У вагончика всплескивался гомон. Устало разговаривал баян. Мягкая тьма приглушала ощущение времени. Была земля, звезды и они с Женькой…
– Пашут, – вздохнул он.
– А Мишку опять на черепаху посадили, – Ксюшка притихла от усталости и сказала так, точно обижалась за Мишку. – Всего-то на один процент не выполнил, а на черепаху.
– Тебе жалко? – насторожился Женька.
– Подумаешь. Помощник бригадира так каждый день на самолете, а Мишка или на кляче, или на черепахе сидит.
– Помощник – мужик мировой. Знаешь, сколько он земли вспахал за свою жизнь?
– Ну и что же?
Она подумала, что земля – большая. Каждый год люди пашут, а всю ее вспахать не могут. Отец Ксюшки до войны пахал землю, а потом – в день победы – пришла похоронная и Ксюшка ни разу его так и не увидела… Дед пахал. Хлеборобы… Когда люди станут очень образованными, они придумают такое, что нажмешь кнопку – и пойдет трактор с сеялкой без человека. Легко будет работать. Земли вспахать можно будет много. Земля – большая…
Где-то высоко почти без гула прошел самолет – проплыли две звездочки, красная и зеленая.
– Ты спишь, что ли?.. Вон спутник пролетел.
– Врешь ты все, Женька…
Он потрогал камень рукой и сказал:
– Мы, как те, длинноухие, давай сделаем из этого камня статую. Оставим памятник о себе.
Он бывал немного сумасшедшим, и Ксюшка, наверно, заразилась: раньше не думала о жизни, о земле, а жила просто и все. А теперь тоже шальные мысли лезут.
– Это кто – длинноухие? На которых узбеки верхом ездят?
– Люди такие жили. Прозвали их длинноухими…
Ксюшка слушала о каком-то острове Пасхи, об ученом Хейердале, но ее морило ко сну и сначала она не поверила, а потом подумала и сказала:
– Чепуха все это. Баловство одно. Понаделали каменных истуканов выше домов, а к чему они?.. – пожевала сладкую травинку, вздохнула: – Не в этом жизнь человека.
– А в чем?
– Н-не знаю. Ты вот много читал, жил в городе, а весной приехал к нам трактористом. О длинноухих знаешь, а трактор поломался…
– Длинноухие тут ни к чему.
– Нет, к чему. У каждого свое дело в жизни. Ты вот зачем пошел в училище механизации, а не на завод? Ты же городской… А пошел в училище, трактор изучать, – она засмеялась, – памятник свой. Вот и учил бы его по-настоящему. А то сев идет, пары вон поднимать надо…
– Ладно. Выступишь потом на собрании, – он притянул ее за плечи. – Хочешь, почитаю стихи?
Ксюшка смотрела на звезды и думала: «Неужели и земля светит вот так же для кого-то? Надо спросить у Женьки».
На его груди покойно. Когда он читает стихи, голос становится другим: плавным и чуть певучим. А в груди, если приложить ухо, гудит глубинно и ровно. Она чувствует его жесткую ладонь, скользнувшую к ней под мышку и бормочет:
– Убери руку…
Он дышит над самым ухом, теплом щекочет шею.
Бровей твоих темный вечер
И глаз твоих день голубой…
Женька опять врет. Глаза у ней круглые, будто испуганные, а от бездонного зрачка разбегаются частые желтые лучики. Кошачьи глаза. Она их не любит. И жиденькие брови не темный вечер… Ксюшка борется с дремотой и хочет усмехнуться, но чувствует его настойчивые руки и говорит для острастки, а получается совсем не строго:
– Бессовестный ты, Женька. Распустил свои руки…
Женька грустнеет, точно собирается умирать:
Только звезды в чей-то час свиданья
Будут также лить свой тихий свет…
Ладони становятся горячими. Пальцы длинные, сильные, подрагивают на груди. Она открывает глаза, видит смутно бледнеющее лицо, мерцающие белки, сердито говорит:
– Женька, не хулигань, – и коротко бьет его по щеке, спрашивая: – Съел?
Он ошалело потер щеку, отодвинулся, забыв руку на ее плечах, смущенно пробормотал:
– Ладно, воспитывай.
Камень совсем остыл, спина устала, но Ксюшка сидит не двигаясь. Кладет свою ладонь на руку Женьки, говорит мечтательно и задумчиво:
– Жень, почему я ныне каждый день живу так, будто завтра у меня день рождения или еще что? Кажется, проснусь, а вокруг – праздник…
– Оно и видно – праздник, – и он потирает щеку.
– Почитай еще стихи…
Стихов он знает много. Они прямо-таки лезут из него, как перестоявшееся тесто из кадки. Он обиженно сопит, смотрит в тьму, которая прорезается светлячками дальних фар и начинает читать о тайне земных наслаждений, о том, что кому-то солгали тени в туманные ночи в палящем июне… Другие стихи Ксюшка слушает, улыбаясь. А тут ей вдруг стало стыдно, словно Женька внезапно оголил ее, и она сбросила его руку:
– Баламут ты и хулиган, Женька. И больше никто.
Он уставился в ее лицо, потом возмущенно пояснил:
– Эх, ты!.. Темнота! Да это же культурнейший писатель России – Валерий Брюсов. Сам Горький назвал его так.
– А мне хоть заакадемик он будь, твой Брюсов, – она тряхнула головой. – А ты, все равно, хулиганом был, хулиганом и останешься…
В тот вечер они больше не целовались.
Ксюшка одна пришла в вагончик и долго не могла уснуть. Ворочалась, обиженно шептала под нос:
– Темнота…
Всю ночь ей снился пустой блестящий класс, пропахший скипидаром, маленькие черные парты, за которыми она никак не могла уместиться и поэтому сильно сердилась. Сердилась еще и потому, что за темным окном класса торопливо ходил Женька, – она слышала широкие его шаги, – и нервно бросал мягкую землю в стекло…
4
Утром приезжал Никифор Сидоров и, как запоздалый петух, сипло прокричал с телеги: «Примай, деваха, мои слиточки!» – дернул вожжами – уехал в третью бригаду. Ксюшка чистила картошку – снимала длинную ленту со всей картофелины и тихо думала, что начался такой же день, как вчера и, как вчера, в ее жизни опять ничего не случится невероятного.
Когда солнце стало пригревать плечи, из-за березового колка со стороны деревни вывернулся верховой и потрусил к стану. Верховой бестолково взмахивал локтями, словно кисти были связаны, а он силился по-птичьи взлететь с седла и, топорщась, подпрыгивал всем корпусом. По посадке Ксюшка узнала в нем Ельку – болезненного, тщедушного парня, рассыльного правления, как называл его Женька, «личного секретаря Самого». Не спешиваясь, Елька торопливо крикнул:
– Чай, Семен Мызин тут?
Ксюшка молча ткнула ножом в сторону. С самого утра – будто и не спали – Семен и Женька копошились у трактора. Трактор надсадно кашлял, чихал, как простуженный, и не заводился. Елька ударил под брюхо мохнатого меринка и, размахивая белым листком, закричал на все поле:
– Семе-о-он, срочная!
Ксюшке ни разу в жизни никто не присылал ни письма, ни телеграммы. Никому еще она не нужна была так скоро, чтобы гнали верхового из правления.
Мызин ошалело пробежал мимо Ксюшки в мужской вагончик и оттуда послышался густой растерянный голос бригадира:
– Вон оно что… А может, и не умирает совсем. Почта, она знаешь… Меня вон в войну тоже почтовики начисто схоронили, а я возвернулся и землю пашу. Вот оно как.
Ксюшка перестала резать картошку, затаила дыхание. Бригадир опять загудел по-шмелиному:
– Ты поезжай, конечно. Это я так, к слову пришлось… Только, что делать с Жариковым: напарника-то нет. А земля сохнет, пары ждут…
Мызин вышел, натирая грязным кулаком глаз, и Ксюшка впервые увидела – какой он, оказывается, мальчишка еще, хотя и кричит на Женьку, как старший. Елька протянул ему руку – помог забраться на широкий круп меринка. Выглянул бригадир с карандашом за ухом, увидел Женьку:
– Как будем, Жариков?
– А мне, Елизар Гаврилович, не надо сменщика.
– Вон оно что. В борозде спать будешь?
– Зачем спать? Работать буду, – Женька исподлобья взглянул на молчавшего Мызина и зачем-то сообщил: – Мы в училище за одним столом сидели.
Мызин швыркнул носом, ткнул в бок Ельку.