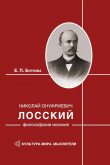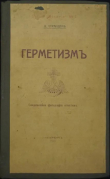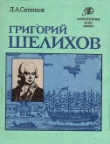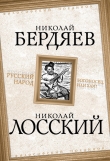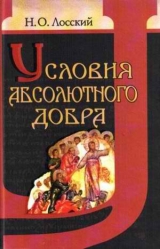
Текст книги "Условия абсолютного добра"
Автор книги: Николай Лосский
Жанры:
Прочая религиозная литература
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 37 страниц)
Здесь нужно заметить, что ссылка на случайное изменение вовсе не объясняет первых случаев появления нового качества, а при решении проблемы альтруизма она еще и бессмысленна, так как при допущении онтологической обособленности живых особей немыслимы никакие случайные изменения организма, которые могли бы так глубоко изменить природу, чтобы создать выход из обособленности их, составляющий характерную черту альтруизма
_____________________
Westermark Е.Ursprung und Entwicklung der Moralbegriffe. Bd. 1. S. 93.
46
альтруизма. Ссылка на случайные изменения здесь так же нелепа, как утверждение, что хотя суммирование нулей вообще не может дать единицы, но при миллионах повторений возможно случайное вменение, дающее из нулей единицу *.
Подлинный альтруизм возможен лишь на основе подлинной симпатии, описанной Шелером. Она, в свою очередь, предполагает тесную сращенность всех существ друг с другом, что возможна и нтуиция, т. е. непосредственное вступление состояний одного существа в сознание другого: отсюда возникает деятельная помощь страдающему лицу без страдания самого человеколюбца так что действительно самые добросердечные люди могут быть самыми веселыми. Но и этого мало: помощь людям на основании симпатии приобретает нравственный характер не иначе как в зависимости от объективной ценности чужих состояний и целей, пробуждающих симпатию, от ранга их и т. п., т. е. в связи с ценностью их в составе мира как осмысленного целого. Митрофанушка жалел свою маменьку, видел во сне, как она устала, колотя папеньку; его сочувствие маменьке имело нравственно предосудительный характер.
Допустим, что мир есть целостное единство, в силу которого ему присущ смысл, ценный для всех членов его, и состояния каждого члена мира существуют не только для него самого, но и для всех остальных существ. Тогда становится понятным, что по ведение всякого существа изначала может быть не только эгоцентрическим, но и альтруистическим или же иногда вообще не основанным на обособлении «моего» и «твоего». Так, у первобытных народов поведение индивидуума включено в общий поток жизни племени или рода до такой степени, что родовые интересы преобладают над личными, и самостоятельное «я» индивидуума остается даже слабо осознанным. Дальнейшее развитие поведения состоит во все более отчетливом разграничении у одних существ альтруизма, восходящего на высших ступенях к святости, а у других существ – эгоцентризма и эгоизма, все более углубляющегося и достигающего иногда ступеней дьявольской гордыни и самопревознесения.
Возрастание утонченных и организованных форм зла на земле обязывает лиц, избравших противоположный путь добра, ко все большему героизму в их поведении. Таким образом, биологический и социологический оптимизм Спенсера не соответствует действительности. Но еще хуже то, что его идеал «органического альтруизма» производит жалкое впечатление: это – счастье кротких овечек, пасущихся из поколения в поколение на тучных пастбищах и потому только, за ненадобностью борьбы, утративших охоту к нападению и даже физические средства наступления и обороны. Действительное разнообразие форм поведения и множественность
________________
См. мою статью «Что не может быть создано эволюцией?»//Современные записки. 1927. Вып. XXXIII.
47
путей развития его, вместо спенсеровского единого русла эволюции, могут быть объяснены только на основе более сложного мировоззрения, признающего более богатый состав мирового бытия, более высокий идеал развития и такие средства достижения его, как творческая активность деятелей и свобода их. Следующая глава и будет содержать в себе изложение идеала совершенного бытия и очерк тех основ мира, которые необходимы для осуществления идеального совершенства.
03
Глава вторая ИДЕАЛ АБСОЛЮТНОГО СОВЕРШЕНСТВА
БОГ И ОБОЖЕНИЕ ТВАРИЦелью стремлений человека служит, как установлено выше, не удовольствие только, а сами те ценные стороны бытия, которые доставляют удовольствие, – сытость, здоровье, общение с людьми, истина, красота и т. п. При этом никакое отдельное содержание мира никогда не удовлетворяет человека до конца, не может наполнить всей его жизни: рано или поздно в нем пробуждается стремление идти все дальше и дальше, прибавить к тому, что достигнуто, еще новые и новые содержания жизни. Всякая остановка имеет только временный характер, объяснимый ограниченностью сил, усталостью, преходящим разочарованием в жизни, если человек отказывается от какой‑либо положительной ценности, то это лишь потому, что она почему‑либо несовместима с другими влекущими его к себе положительными ценностями. Человеческая личность, говорит Вл. Соловьев, отрицательно безусловна, т. «не хочет и не может удовлетвориться никаким условным ограниченным содержанием»; мало того, продолжает Соловьев, она способна осознать истину, что «может достигнуть и положительно; безусловности», именно «может обладать всецелым содержание» «полнотою бытия» (Чтения о Богочеловечестве. Гл. III. С. 23)
Абсолютная полнота бытия есть осуществленное единство всех согласимых друг с другом содержаний бытия. Этот принцип, согласно Лейбницу, лежит в основе нашего мира как лучшего из возможных миров *.
Мир в целом стремится осуществить предельное богатств жизни; но этого мало, каждое живое существо, во всяком случае каждый человек, хочет быть участником этой полноты бытия и, насколько это возможно, воплотить ее в себе. Осуществленная полнота бытия есть Ens realissimum, Всереальнейшее Существо, т. е. Бог. Отсюда следует, что человек, стремясь к абсолютной
_______________
См. мою статью «Принцип наибольшей полноты бытия»//Научные труд Русского Народного Университета в Праге. Т. 1. 1928.
48
полноте бытия, задается целью ни более ни менее как подняться на ступень Божественного бытия; не будучи Богом от века, он все же хочет быть богом в становлении. Стоит только сформулировать эту цель, и тотчас в нашем скептическом уме возникнут сомнения и вопросы: возможно ли такое существо, которое заслуживало бы названия Ens realissimum, которое обладало бы абсолютною полнотою жизни? А если оно и возможно, правда ли, ^ такому существу присуща высшая положительная ценность?
Ответ на эти два вопроса будет вполне удовлетворителен лишь в том случае, если удастся установить, что Абсолютно Совершенное Существо есть не идеал, построенный только фантазией, не предмет одних лишь ожиданий и надежд, а действительно Сущее, находимое посредством аподиктически достоверного умозрения или, еще лучше, в живом непосредственном опыте. философское умозрение устанавливает с абсолютной достоверностью, что мир, будучи систематическим единством множества элементов, не может быть изначальным, самостоятельно сущим: везде, где есть хотя бы два элемента, соединенные друг с другом каким бы то ни было отношением, должно существовать третье начало, объемлющее эти два элемента и являющееся условием возможности отношения между ними. (Это положение установлено ясно и точно в «Метафизике» Лотце; см, также «Предмет знания» С. Франка и мою книгу «Мир как органическое целое».) Отсюда вытекает следующий вывод: если мир есть систематическое единство, пронизанное отношениями, то выше мира, как основа его, стоит Сверхсистемное начало. Оно должно быть Сверхсистемным, так как в противном случае возник бы вопрос: какое еще более высокое начало обосновывает его систему? Как Сверхсистемное, оно несоизмеримо с миром, т. е. невыразимо ни в каких понятиях, применимых к миру и его элементам. Оно не есть личность, не есть разум, не есть единое (в том смысле, в ко тором единое соотносительно с множественным) и т. д. Имея в виду этот бесконечный ряд отрицаний, принято обозначать Сверх системное начало, как предмет отрицательного богословия, термином «Божественное Ничто». Оно пишется с большой буквы, потому что его отрицательность прямо противоположна обыкновенному ничто, получающемуся тогда, когда мысленно мы спускаемся от ограниченных положительных содержаний мира вниз, снимая их и ничем положительным их не заменяя, т. е. когда мы отрицаем «красное», «звучащее», «теплое», «душевное», «разум «разумное» и т. п., приходя, таким образом, к пустоте, скудости, лишению. То Ничто, к которому мы приходим, поднимаясь от мира вверх, есть не пустая абстракция, а, наоборот, высшая конкретность, положительность без всяких ограничений, присущих земным качествам. В сравнении с нею всякое мировое содержание есть абстракция, умаление бытия. Поэтому Божественное Ничто, тот предмет отрицательного богословия, характеризуется не толь отрицательными терминами, но и такими, которые намекают на высшую положительность. Оно есть начало, не просто неличное и
49
уже никоим образом не безличное, а сверхличное, сверхразумное, сверхбытийственное, сверхрациональное (металогическое) и т. д. Короче говоря, оно есть Сверхчто, стоящее выше всякого определенного «что». В этом своем значении Сверхмировое начало есть предмет не интеллектуальной, а мистической интуиции.
Будучи несоизмеримо с миром, Божественное Сверхчто отделено от мира непереходимой гранью в том смысле, что мир не есть его эманация, не есть продукт его эволюции, вообще не есть нечто такое, что тождественно с ним хотя бы отчасти, как то утверждает пантеизм. Пантеистическое миропонимание совершенно несостоятельно. Мир есть нечто абсолютно иноприродное в сравнении с Божественным Сверхчто, он не может быть; и в каком смысле слова извлечен или выведен из Божественногo начала, но вместе с тем он не может существовать независимо от него; отсюда следует, что происхождение мира может быть понято только как творение из ничего: Божественное начало есть Творец, а мир есть тварь. Слова «творение из ничего» не следует понимать так, будто «ничто» есть какой‑то материал, как бы глина, из которой Бог лепит мир. Понятием «творение из ничего» выражается абсолютная мощь, проявленная в этом творчестве, так как Божественное начало не нуждается ни в чем, ни в каком предсуществующем материале, для того чтобы создать мир.
Сверхмировое начало не безлично, а сверхлично; отсюда следует, что личное бытие доступно ему; однако, если оно принимает форму личного бытия, оно не может быть исчерпано личным бытием. Эта мысль не остается только догадкою, вытекающей из данных умозрения и мистической интуиции: она становится абсолютно достоверным знанием для многих людей, именно для всех тех, кто в своем религиозном опытехотя бы раз в жизни пережил встречусо Сверхмировым началом как Живым Личным Богом. В отличие от человека, который есть личность и весь сполна выражается своим единоличным бытием. Бог не исчерпывается в единоличном бытии. Христианское откровение дает нам сведения о Нем как Едином Боге в Трех Лицах. Никакое философское умозрение не могло бы открыть человеку истины Троичности. Но для того, кто с верою и любовью принимает это учение Церкви, оно получает подтверждение в расширении его религиозного опыта, открывающем возвышенность внутритроичной жизни как совершенной Любви Бога Отца, Сына и Духа Святого. Далее, оказывается, что учение о Троичности служит источником многозначительных выводов не только о Боге, но и о метафизическом строении мира, а также о его аксиологическом (ценностном) аспекте. Учение о троичности становится фундаментом и куполом, альфою и омегою всего философского миропонимания.
Философия имеет право включить в свой состав религиозные учения о Боге как личности и о Троичности Лиц в Боге. В сам» деле, она должна опираться не только на умозрение, но и на
50
все виды опыта, включая также религиозный опыт. Мало того, философмя имеет право опереться и на Откровение, если данные его придают высокий смысл, связность и последовательность всему Зальному составу миропонимания.
В живом религиозном опыте, осложненном Откровением, человек находит Бога как Личность, мало того, как полноту Трех Лиц, единосущных в своей совершенной любви и не исчерпаемых никаким из этих определений, потому что все они коренятся в Нем, как невыразимом никакими словами и понятиями Божественном Сверхчто.
Особенно важно то, что Бог открывается в религиозном опыте не только как абсолютная полнота бытия, но еще и как высшая абсолютно совершенная ценность, как само Добро во всех смыслах этого слова, именно как сама Красота, Нравственное Добро (Любовь), Истина, абсолютная жизнь. Поэтому малейшее приобщение к Нему в опыте, хотя бы издали, наполняет душу несказанным блаженством, «радостью о Господе». Жизнь святых изобилует описаниями этой радости и пронизана ею. Мистики и люди глубоко религиозные часто испытывают ее. И каждый почти чело век, хотя бы раз в жизни, испытывал это приобщение к «сокровищу всех благ» (из молитвы к Духу Святому, принадлежащей к числу основных в Православной Церкви), столь совершенному и прекрасному, что первое движение души, вызываемое Им, есть славословие Ему. Множество описаний этого общения с Богом приведено в замечательной книге У. Джемса «Многообразие религиозного опыта». Приведу лишь один пример.
«Дул сильный ветер. Мы шли под парусами, держа курс на север, чтобы уйти от непогоды. Когда пробило четыре склянки, нам пришлось убрать бом–кливер, и я сел верхом на рею, чтобы закрепить его. Просидев некоторое время в таком положении, я вдруг почувствовал, что рея подалась подо мною, парус выскользнул у меня из рук, и я опрокинулся назад, повиснув на одной ноге вниз головой над бушующей пучиной блестящей белой пены, рассекаемой носом корабля. Вместо испуга я ощутил ликование восторга, вызванное моей уверенностью в вечной жизни. Хотя я был на волосок от смерти и ясно сознавал всю опасность, у меня не было другого ощущения, кроме радости. Вероятно, я провисел в подобном положении не более пяти секунд, но за это время я успел пережить целый век блаженства. По случайности мое тело не потеряло равновесия, и отчаянным усилием мне удалось снова схватиться за рею. Каким образом я продолжал снова крепить парус, этого у меня не сохранилось в памяти, и я помню только, что, насколько у меня хватало голосу, я возносил Богу хвалы, разносившиеся над мрачною пучиною вод» (см.: Джемс. Многообразие религиозного опыта. С. 276; Цитата из автобиографии Франка Буллена под заглавием «С Христом на море»).
Религиозный опыт, открывающий Бога как абсолютное совершенство, не только наполняет душу «радостью о Господе», но еще и вызывает доверие к миру, сотворенному Им,
51
уверенность в осмысленности мира, убеждение в том, что мир способен воплощать в себе добро и сотворен для того, чтобы принимать участие в Божественном абсолютном совершенстве. Предел приобщения к Божественному совершенству есть поднятие твари на степень Божественного бытия, т. е. обожения ее (deificatio). Замечательно, однако, что «радость о Господа» совершенно бескорыстна: в ней вовсе нет жадного стремления присвоить себе блага Божественного бытия; она наполняет душу человека счастьем от одного сознания, что столь превосходное существо, как Бог, есть, хотя бы я и не был удостоен принять участие в Его жизни. К радости о Его бытии присоединяется еще желание содействовать тому, чтобы все другие существа приобщились к Его совершенству. Апостол Павел готов был по жертвовать своим счастьем жизни в Боге ради обретения этого счастья для других людей: «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим, 9, 3).
Обожение твари не может быть отождествлением ее с Богом: грань между тварным миром и Богом не может быть перейдена. Но и в обособлении от Бога одними собственными усилиями тварное ограниченное существо не может достигнуть абсолютной полноты бытия, мыслимой в понятии обожения. Остается мыслимым поэтому лишь третий путь: оставаясь До конца отличным от Бога, тварное существо может удостоиться тесного союза с Богом, благодаря которому все деятельности его будут осуществляться в интимной связи с Божественною жизнью, и, таким образом, оно будет активно соучаствовать в абсолютной полноте бытия. Такое поднятие на высоту Божественной жизни, происходящее с помощью Божией, Отцы Церкви называют обожением по благодати. Это предел совершенства, которого можно желать. Нужно только выяснить теперь подробнее, в чем оно состоит, каковы условия его возможности и осуществлены ли эти условия в природе человека, а также в строении мира. Все эти вопросы подробно рассмотрены в моей книге «Ценность и бытие. Бог и Царство Божие как основа ценностей». Поэтому здесь я лишь вкратце изложу их, чтобы чтение настоящей книги было возможно и для лица, незнакомого с моей теорией ценностей.
Какова должна быть метафизическая природа тварных существ, для того чтобы они могли вступить в интимный союз с Богом и приобщиться к Его совершенной жизни? С одной стороны, они должны быть относительно самостоятельными, относительно независимыми от Бога, а с другой стороны, способными вступить в тесную связь с Ним. Из этого следует прежде всего, что мир не может быть множеством творимых Богом событий, т. е. временных или пространственно временных процессов. В самом деле, события, например движение в пространстве, чувство удовольствия и т. п., абсолютно несамостоятельны: они могут быть только проявлениями жизни того, кто творит их. Следовательно, если бы Бог творил мир как множество событий, мир был бы проявлением Его собственной жизни. Это значило бы, что Божественное
52
Сверхчто проявляется, во–первых, в единодушной сверхпространственной жизни Трех Лиц, Бога Отца, Сына и Духа Святого, во–вторых, снисходит даже до жизни в форме временных и пространственно–временных процессов. Это миропонимание было бы одним из видов пантеизма.Несостоятельность его, как и всякого пантеизма, обнаруживается тотчас же, как только мы поставим вопрос: откуда же в мире зло, нарушение гармонии, враждебное противоборство одних существ другим? Наличие этих фактов есть доказательство того, что Бог творит мир не как множество событий, а как совокупность существ, которые сами, не зависимо от Бога и друг от друга, творят события, вступая друг и другу в отношения любви или вражды.
Существо, творящее события и являющееся носителем их, есть субстанция, скажем лучше, чтобы подчеркнуть активность его, – субстанциальный деятель. Творя события, имеющие временную и пространственно–временную форму, субстанциальные деятели сами свободны от этих форм: они невременны и непространственны. Мало того, они распоряжаются этими формами: в самом деле, творя такие события, как движение, звуки, стремления, чувства и т. п., они не выбрасывают их в самостоятельно существующее уже время и пространство, асами придают своим проявлениям временную или пространственно–временную форму: следовательно, они суть носители принципов этих форм как способов своего действования. Чтобы подчеркнуть это, скажем, что субстанциальные деятели сверхвременныи сверхпространственны.
Образцом субстанциального деятеля, близко и интимно знакомым, может служить для каждого человека его собственное «я». «Я» есть не просто бытие, а для–себя–бытие; также и действия «я» существуют для него как его переживания: «я» имманентно всем. своим проявлениям и так тесно спаяно с ними, что они всегда суть нечто сверхвременно–временное и сверхпространственно–пространственное. Сами по себе события занимают только определенный отрезок времени, и некоторые из них – определенный объем пространства; не будучи в состоянии выйти из этих преде лов, но благодаря «я», охватывающему и связывающему их сверхвременно и сверхпространственно, они трансцендируют за пределы своего времени и места и приобретают значениедля каждого момента жизни «я».
Бытие в его значении для жизни, именно для абсолютной полноты ее, есть ценность —положительная ценность, если оно приближает к абсолютной полноте, или отрицательная, если оно Удаляет от полноты бытия.
Так как действия «я» имеют для него ценностное значение, то и совершаются они целестремительно: в самом деле, будучи сверхвременным, «я» способно совершать поступок в настоящем времени на основании прошлого опыта ради предвосхищаемого будущего. В дальнейшем существенно важно будет различать два «Да действий: душевные и телесные. Душевные проявления
53
деятеля имеют временную форму, а телесные имеют пространственно–временную форму. Совершая действия отталкивания, деятель создает себе телесность в форме относительно непроницаемого объема; ее можно назвать материальным теломдеятеля. Поскольку деятель создает также пространственно оформленные действования, как чувственные качества цвета, звука, тепла и т. п. без отталкиваний, они образуют его нематериальную телесность.
Для–себя–бытие деятеля и его самопереживание в деятельностях еще не есть сознание, а только важнейшее условие его: для сознания требуется усложнение самопереживания, именно выделение из всего состава бытия какой‑либо стороны и сосредоточен: внимания на ней как на объекте. Если этого усложнения нет, то действия имеют бессознательный или подсознательный характер это упрощенное переживание их есть предсознание; поскольку оно сопровождается приятием или неприятием их соответственно их переживаемой ценности, это подсознательное переживание есть предчувство. Все такие упрощенные действия можно назвать психоидными, если они оформлены только временем (они аналогичны психическим процессам).
Весь мир состоит из бесчисленного множества субстанциальных деятелей и творимых ими событий. Все они обладают пере численными выше основными свойствами – сверхвременности, сверхпространственности, целестремительной активности и т. д. Ступени развития их и соответственно этому степени усложнения их жизни крайне различны, начиная от таких упрощенных деятелей, как электроны, и кончая такими, как животное, человеческое «я» и далее существа еще более высокие. Деятели, осознавшие абсолютные ценности и долженствование осуществлять их в жизни, суть действительные личности. Деятели, не обладающие этим сознанием, наделены, однако, свойствами, на основе которых они могут дорасти до этого сознания; поэтому они могут быть названы потенциально–личными существами. Таким образом, мир состоит из актуальных и потенциальных личностей. Мировоззрение, утверждающее этот тезис, можно назвать персонализмом.
Тварные ограниченные существа могут достигнуть абсолютной полноты бытия, не иначе как взаимно восполняя свои творческие деятельности, следовательно принимая живое участие в жизни друг друга и прежде всего в жизни Божией. Это возможно лишь в том случае, если каждое существо есть не только для–себя–бытие, но и бытие для других. Поймем точно, как значительно это условие. Для действительного восполнения нашей жизни чужою жизнью недостаточно иметь знание о чужой индивидуальности в форме копийили символовв нашем уме: копии и символические изображения мертвы; подлинное живое проникновение в чужую жизнь возможно лишь в том случае, если чужие состояния даны мне для наблюдения так же непосредственно, как и мои собственные, т. е. не в виде копий, а в подлиннике. Такое непосредственное имение в виду своих и чужих состояний в подлиннике я называю интуицией.
54
Интуиция направленная моим «я» на мои собственные состояния, возможна потому, что «я» имманентен всем своим переживаниям. Для того чтобы иметь интуицию, заглядывающую прямо «»цедра бытия всех других существ, необходимо, чтобы все существа были имманентны друг другу, чтобы все было имманентно всему. Исполнено ли в строении мира это условие полноты жизни? Если бы не было имманентности всего всему, нельзя было бы дать удовлетворительный ответ на основной вопрос этики, как возможно бескорыстное живое участие в интересах чужой жизни? Нельзя было бы также развить аксиологическое учение об абсолютных объективных ценностях и осуществлениях; мало того, без этого условия нельзя решить основной проблемы теории знанияименно вопроса, как возможна истина, и невозможно было бы ответить на основной вопрос метафизики: как совершается взаимодействие между различными существами? Все мои книги и статьи по гносеологии, метафизике и аксиологии содержат в себе положи тельное решение проблемы: все имманентно всему.
Во многих философских системах, признающих интимное единство всех частей мира, положение, что все имманентно всему, содержится если не в явно высказанной форме, то хотя бы в скрытом виде: оно находится в составе систем стоиков и новоплатоновцев, утверждающих, что все части мира соединены друг с другом симпатией. Оно может быть вскрыто путем анализа в системах Шеллинга и Гегеля *. Иногда, правда редко, он высказывается в определенной четкой формуле; так, Николай Кузанский говорит: quodlibet est quolibet 2. Эту же формулу повторяет и Джордано Бруно, ссылаясь на Николая Кузанского.
Нетрудно показать, что построение мира действительно обеспечивает интимную связь всех существ друг с другом, необходимую для интуиции. Всякий субстанциальный деятель – носитель принципов времени, пространства и других общих форм мира; эти принципы не сходны друг с другом, а буквально тождественны, и потому деятели, оформляя ими свои проявления, творят единый космос (мир) с единым временем и пространством. Поскольку в их природе есть тождественная сторона, они единосущны; но это единосущие определяет только тождество формы их деятельности, а содержание своих действий каждый деятель творит самостоятельно своею индивидуальною творческою мощью; оно может гармонически сочетаться с содержаниями проявлений других существ, но может быть и враждебно противоборствующим им. Поэтому единосущие субстанциальных деятелей следует назвать о твлеченнымв отличие от конкретного единосущия, котором говорит христианское богословие, вырабатывая учение взаимной связи Бога Отца, Сына и Духа Святого. В самом деле, члены Св. Троицы мыслятся как Лица, с совершенною любовью приемлющие всю индивидуальную сущность друг друга и сполна
_____________________
См мою статью «Гегель как интуитивист»//3аписки Русского Научного Института в Белграде. Вып. 9.
55
отдающие свою индивидуальность друг другу; иными словами всякий творческий замысел каждого Лица сполна усваивается другими двумя Лицами и осуществляется Ими сообща как единое целое, разные стороны которого запечатлены индивидуально своеобразными чертами этих Лиц, гармонически взаимопроникающими друг друга.
Абсолютно целостное единство деятельности нескольких лиц есть соборное творчество. В описанной идеальной форме оно возможно не иначе как на основе совершенной любви друг к другу участвующих в нем лиц, обладающих индивидуальным своеобразием, и притом совершенным, т. е. содержащих в себе и осуществляющих только абсолютные ценности.
Перечисленные условия соборного творчества и связанной с ним полноты бытия станут вполне ясны, если усвоить определение понятия абсолютной ценности и видов ее: «Абсолютная положительная ценность есть ценность, сама в себе, безусловно, оправданная (самоценность), следовательно имеющая характер добра с любой точки зрения, в любом отношении и для любого субъекта; не только сама по себе она всегда есть добро, но и следствия из нее никогда не содержат в себе зла»*.
Бог в Его Троичной жизни есть всеобъемлющая и притом первичная самоценность, абсолютная полнота бытия. Каждая тварная личность, по крайней мере в потенции, есть всеобъемлющая, но не первичная самоценность. Все необходимые аспекты абсолютной полноты бытия, любовь, красота, истина и т. п., тоже суть абсолютные самоценности, но, будучи лишь сторонами целого, они суть частичные абсолютные ценности.
Божественная абсолютная полнота жизни стоит выше разделения на ценность и бытие. Что же касается абсолютных частичных ценностей, каждая из них есть бытие в его значении для абсолютной полноты жизни. Это значит, что ценность есть не прибавка к бытию, не какое‑то качество, носимое им рядом с другими качествами, а органическое единство самого бытия и его значения (идеальный аспект ценности) (см.: Ценность и бытие. Гл. III, 1).
Из приведенных определений понятно, почему соборное творчество возможно лишь при условии совершенной любви друг к другу индивидуально–личных совместно действующих существ, творящих только абсолютные ценности. В самом деле, индивидуальность есть своеобразие единственное, неповторимое и незаменимое. Неповторимость и незаменимость возможны лишь постольку, поскольку каждый индивидуум в своей сущности и деятельности есть своеобразный аспект абсолютной полноты бытия. Следовательно, индивидуальное своеобразие личности есть абсолютная положительная ценность, подобно тому как в хоре индивидуальное своеобразие голосов, гармонирующих друг с другом, есть не зло, а, наоборот, условие совершенной красоты. Любовь
_____________________
Лосский Н. Ценность и бытие. Гл. III.
56
одного лица к другому есть полное приятие чужой индивидуальности и совершенная отдача сил в ее пользу. Совершенное единодушие деятельности, очевидно, невозможно без взаимной любви и достижимо лишь при осуществлении абсолютных ценностей, так только абсолютные положительные ценности все совместимы друг с другом.
Из сказанного ясно, что жизнь Св. Троицы есть образ совершенного Добра, и притом Добра осуществленного. К сущности абсолютного добра принадлежит не только совершенная Любовь, но и совершенное всемогущество, т. е. безграничная мощь творчества не абстрактная, конечно, а согласимая с требованиями умысла. Отсюда следует, что мир, созданный Всемогущим Богом – Любовью, может быть не иначе как творением, полным смысла, именно таким, которое способно осуществить в своей деятельности высшее мыслимое Добро, Божественную полноту жизни.
Божественная абсолютная полнота жизни может быть единственною: немыслима множественность экземпляров ее. Следовательно, тварные существа могут достигнуть этой полноты бытия не иначе как в форме причастия жизни Самого Бога. Многие условия достижения этой цели были выяснены выше и найдены в составе мира; теперь нужно обозреть их все вместе и дополнить некоторыми, еще не рассмотренными до сих пор.
Существенно важны следующие условия. Все тварные существа способны к личному бытию и связаны со своим Творцом так, что могут иметь религиозный опыт, т. е. мистическую интуицию, имеющую в виду самого Бога. Весьма различны ступени полноты этого созерцания в зависимости от степени любви к Богу и чистоты сердца человека. Но как бы ни было высоко развито это общение с Богом, все же пассивное созерцание не есть еще живая полнота бытия самого созерцателя. Она достигается путем соучастия в Божественном добре в форме собственного творчества личности, реализующей духовное и телесное мировое бытие, имеющее характер абсолютных ценностей – любви, красоты, нравственного добра, истины и т. п. Впервые это творчество, в нераздельном, но и в неслиянном сочетании с Божественным творчеством и с созерцанием жизни Божией, дает живую полноту бытия личности. Оно ничего не прибавляет самому Господу Богу, но для тварной личности создает деятельную жизнь ее в Боге.