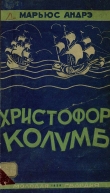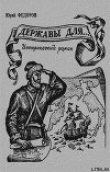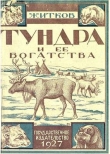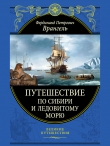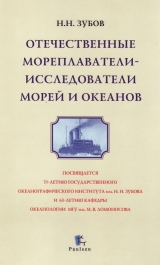
Текст книги "Отечественные мореплаватели — исследователи морей и океанов"
Автор книги: Николай Зубов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 49 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
9. Первые посещения и описи Медвежьих и Ляховских островов
(1712–1775)
Мы видели, что освоение русскими путей вдоль северных берегов Сибири происходило весьма быстро. Судя только по письменным источникам, в 1633 г. Робров и Перфильев вышли к устью Лены. Вслед за ними были совершены плавания от устья до устья других сибирских рек. Уже в 1648 г. Дежнев и Попов обогнули мыс Дежнева. Таким образом, всего за пятнадцать лет русские мореходы открыли устья всех сибирских рек и прошли морем вдоль берегов Сибири от устья реки Оленёк до Берингова моря. Но во время этих плаваний служилыми и промышленными людьми руководило желание – как можно скорее найти новое моржовое лежбище, которое сразу могло бы дать богатую добычу. Поэтому эти мореходы не удалялись далеко от берегов, да и суда их, построенные в большинстве случаев наспех, не позволяли плавать в открытом море.
Суда Великой Северной экспедиции, производившие опись северных берегов Сибири, также не отходили далеко в море. Они открыли лишь несколько островов, почти вплотную прилегающих к полуострову Таймыр, и лишь Дмитрий Лаптев, в 1739 г. плывя от мыса Буор-хая на восток, увидел острова Меркурьева и Святого Диомида, ныне не существующие на картах, а в 1740 г. подошел к острову Крестовскому из группы Медвежьих. А между тем среди русских, оседавших у устьев больших сибирских рек, держались упорные слухи о землях, расположенных к северу от сибирских берегов.
Уже отмечалось, что в северо-восточной части карты Исаака Массы (1612) показана, по-видимому, Северная Земля. Надо также помнить, что при благоприятной погоде острова Ляховские, Крестовский (западный из группы Медвежьих) и Врангеля видны с материка.
Первые сведения об островах, расположенных к северу от сибирских берегов, были получены от служилого человека Михаила Стадухина, который еще в 1645 г. сообщил, что «некоторая жонка» сказывала ему, что «есть на Ледовитом море большой остров, который против рек Яны и Колымы и с матерой земли виден»[136]136
В. Ю, Визе. Земля Андреева, «Arctica», кн. 1, Всесоюзный Арктический институт, 1933, стр. 8.
[Закрыть]. Еще более интересна «скаска» Михаила Стадухина, записанная в 1647 г., в которой, между прочим, говорится:
«А тот де остров Камень в мори пояс, они (служилые.—Н. 3.) и промышленные люди смечают все то один идет, что ходят ис Поморья с Мезени на Новую Землю, и против Енисейского и Тазовского, и Ленского устья тот Камень та ж все одна, что называют Новою Землею»[137]137
Открытия русских землепроходцев и полярных мореходов XVII века на северо-востоке Азии, Сборник документов, Географгиз, 1951, док. № 76, стр. 222.
[Закрыть].
В 1655 г. из Лены на Колыму вышло девять кочей. В этом плавании принимали участие торговый человек Яков Васильев Вятка и якутский казак Никифор Малгин. Три коча, не доходя до Колымы, отнесло к острову, очевидно Крестовскому. Спустив на воду карбас, мореходы обследовали остров, но людей на нем не нашли. В 1669 г. было совершено плавание также от Лены к Колыме, в котором участвовали Никифор Малгин, колымский торговец Андрей Ворыпаев и другие. Во главе стоял пятидесятник Петр Аксентьев. Как показал Малгин, «отнесло де их от Святого носу в голомени в море, потому де подле земли нанесло льду; и кочевщик де Родион Михайлов указывал торговым людям и ему, Никифору, не дошед до Колымского устья, в море значится остров. И он де, Никифор, с товарищи тот остров видели»[138]138
М. И. Белов. Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах, Главсевморпуть, 1952, стр. 178, 179.
[Закрыть].
Около 1702 г. казак Михайло Наседкин рассказывал, что он «присмотрел в море остров против колымского устья до Индигирки», и что бывший с ним мореход Данило Монастырский утверждал, что «тот остров и земля одна с тою, которая видна с Камчатки»[139]139
В. Ю. Визе. Земля Андреева, «Arctica», кн. 1, 1933, стр. 8.
[Закрыть].
Сопоставляя рассказы Стадухина и Наседкина, мы видим, что в XVII в. среди населения северных берегов Сибири ходили слухи о существовании земли, или во всяком случае почти непрерывной цепи островов, простирающейся от Новой Земли на западе до Аляски на востоке. Показания Стадухина, кроме того, дают представление о путях, по которым в это время плавали русские.
Первым русским, побывавшим на Ляховских островах, был казак Меркурий Вагин. Он вместе с Яковом Пермяковым в 1712 г. перешел по льду на Большой Ляховский остров, обошел его и видел остров Малый Ляховский. Около 1720 г. промышленник Иван Вилегин перешел на Медвежьи острова по льду, «только не мог знать – остров ли или матерая земля»[140]140
В. Ю. Визе. Моря Советской Арктики, Главсевморпуть, 1948, стр. 246.
[Закрыть].
Как бы в подтверждение слухов о Большой Земле на севере, в 1726 г. якутский казачий голова Афанасий Федотович Шестаков привез в Петербург карту северо-восточной части Сибири, составленную Иваном Львовым. На этой карте к северу показана обширная земля, якобы открытая в 1723 г. шелагским «князем».
Затем на всех пяти Медвежьих островах в 1756 г. побывали промышленники Сергей Павлов, Федор Татаринов и Ефим Коновалов.
В 1759 и 1760 гг. на Ляховских островах побывал якут Этэрикэн, в честь которого назван пролив между Большим и Малым Ляховскими островами.
В 1764 г., по всей вероятности, к острову Новая Сибирь подъезжал на собаках сержант Степан Андреев[141]141
Н. Н. Зубов, и К. С. Бадигин. Разгадка тайны Земли Андреева, Военмориздат, 1953.
[Закрыть].
В 1769 г. прапорщики геодезии Иван Леонтьев, Иван Лысов и Алексей Пушкарев сравнительно точно положили на карту Медвежьи острова.
В том же 1769, а также в 1770 и 1771 гг. они же совершили походы по льду на северо-восток, в поисках земли, якобы увиденной в 1763 и 1764 гг. сержантом Андреевым.
В 1770 г. на Большом и Малом Ляховских островах побывал якутский купец Иван Ляхов. Во время этой поездки на Большом Ляховском острове было «найдено много мамонтовых костей – так много, что казалось, весь остров составлен из них»[142]142
«Записки Гидрографического департамента», ч. VII, 1849, стр. 120.
[Закрыть].

«Карта Чукоцкаго Носа», составленная Плениснером (1764) (карта упрощена, многие названия опущены).
Это было очень важное открытие. Бивни мамонта ценились не дешевле бивней моржа. Екатерина II утвердила за Ляховым исключительное право промыслов на посещенных им островах и их название – Ляховские. Новый выгодный промысел повлек за собой новые открытия и исследования.
В 1773 г. Ляхов побывал на острове Котельном, названном так потому, что один из промышленников забыл на нем котел. В 1775 г. геодезист Хвойнов, сопровождавший Ляхова, описал остров Большой Ляховский и по рассказам промышленников положил на карту остров Малый Ляховский.
Первое письменное сообщение о существовании современного острова Врангеля мы встречаем у Г. А. Сарычева, который записал рассказы чукчей о нем еще в 1787 году[143]143
Г. А. Сарычев. Путешествие по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану, Географгиз, 1952, стр. 84.
[Закрыть]. Однако впервые этот остров был посещен лишь в XIX веке. Остальные Ляховские и Новосибирские острова тоже были открыты только в XIX веке.
10. Плавания Шалаурова вдоль берегов Восточно-Сибирского моря
(1760–1764)
В 1760 г. начались славные морские походы устюжских купцов Никиты Шалаурова и Ивана Бахова вдоль берегов Восточно-Сибирского моря. Некоторые историки считали Бахова ссыльным морским офицером, другие утверждали, что ему была известна «часть науки кораблевождения», третьи называли его шкипером. В сенатском указе 1755 г. Бахов назван устюжским купцом. Походы Шалаурова и Бахова были совершены не по приказу и не при помощи сибирских властей, а по личной инициативе Шалаурова и Бахова на свой риск и страх.
Еще в 50-х годах XVIII в. Шалауров и Бахов подали «прошение» о разрешении им исследовать Северный морской путь из Лены в Тихий океан. Попутно они предполагали открыть новые районы, богатые морским зверем. Сенатским указом 1755 г. Бахову и Шалаурову разрешалось «для своего промысла, ко изысканию от устья Лены реки, по северному морю, до Колымы и Чукотского носа, отпуск им учинить»[144]144
Ф. П. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, 1820–1824, Главсевморпуть, 1948, стр. 75.
[Закрыть].
В 1760 г. на построенном на Лене небольшом двухмачтовом судне (галиоте) Шалауров и Бахов с партией промышленников из беглых солдат и ссыльных спустились вниз по Лене и зазимовали в устье Яны.
В июле 1761 г. Шалауров и Бахов вышли из Яны и 6 сентября во время огибания Святого Носа усмотрели на севере гористую землю. Врангель полагает, что это был Большой Ляховский остров. 16 сентября Шалауров с попутным ветром прошел между островом Св. Диомида и материком, в тот же день прошел устье Индигирки, а 18 сентября – устье Алазеи. Напомним, что остров Св. Диомида впервые увидел Дмитрий Лаптев в 1739 году. В настоящее время он не существует.
В проливе между Медвежьими островами и материком галиот был зажат льдами. После выхода из льдов Шалауров ввиду позднего времени пошел в Колыму на зимовку. На берегу была построена изба, огражденная снежным валом. На валу были установлены пушки с галиота. Зимовка прошла благополучно. Свежей пищи было достаточно: к зимовью подходили непуганые дикие олени, в реке было много рыбы. Все же в начале 1762 г. ближайший помощник Шалаурова Иван Бахов умер.
21 июля 1762 г. Шалауров вышел из устья Колымы. Борьба с противными ветрами и льдами была тяжелой. Только 10 августа Шалауров достиг «яра серого песка», назвав его мысом Песчаным (северная оконечность острова Айон). В дальнейшем противные ветры и льды не позволяли Шалаурову дойти до мыса Шелагского. Он повернул к югу и 25 августа вошел в Чаунскую губу между островами Раутан и материком. Шалауров предполагал перезимовать в Чаунской губе, но, не найдя в ней плавника для постройки зимовья и отопления, пошел на Колыму. 5 сентября, находясь против узкого пролива между островом Айон и материком, видел чукотские шалаши, жители которых убежали.
Как один из приемов плавания того времени среди льдов следует отметить использование их дрейфа для продвижения судна; так, 10 сентября во время безветрия Шалауров завез верп на большую льдину и дрейфовал с ней по течению около пяти верст.
12 сентября он вернулся в старое зимовье на Колыме.
Три трудные зимовки не сломили воли Шалаурова. Следующей весной он хотел снова итти на восток, но измученная команда потребовала возвращения, и Шалауров вынужден был вернуться на Лену. Зимой Шалауров побывал в Москве, где исхлопотал правительственную субсидию. В 1764 г. он повторил попытку пройти на восток от Колымы. Из этого плавания Шалауров уже не возвратился.
В 1792 г. чаунские чукчи рассказывали Биллингсу, что несколько лет назад они нашли «палатку, покрытую парусами и в ней много человеческих трупов, съеденных песцами»[145]145
В. Ю. Визе. Моря Советской Арктики, Главсевморпуть, 1948, стр. 248, 249.
[Закрыть].
В 1823 г. этот лагерь, находящийся к востоку от устья реки Веркона, посетили сначала мичман Матюшкин, потом лейтенант Врангель. Врангель считал, что все обстоятельства заставляют «полагать, что здесь именно* встретил смерть свою смелый Шалауров, единственный мореплаватель, посещавший в означенный период времени сию часть Ледовитого моря. Кажется не подлежит сомнению, что Шалауров, обогнув вторично Шелагский мыс, потерпел крушение у пустынных берегов, где ужасная кончина прекратила жизнь его, полную неутомимой деятельности и редкой предприимчивости»[146]146
Ф. П. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, Главсевморпуть, 1948, стр. 304.
[Закрыть].
Место, где были найдены остатки зимовья Шалаурова, доныне носит название – мыс Шалаурова Изба.
Надо еще раз подчеркнуть, что Шалауров был не только купец и промышленник, но и исследователь. Он составил карту побережий от Лены до Шелагского мыса, впервые описал Чаунскую губу, сделал много промеров и во многих пунктах определил магнитное склонение. По словам Ф. П. Врангеля, производившего в 1821–1824 гг. съемку берегов в тех же районах, на карте Шалаурова берег «от реки Яны до Шелагского мыса изображен с геодезической верностью, делающей немалую честь сочинителю»[147]147
Ф. П. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю, Главсевморпуть, 1948, стр. 76.
[Закрыть].
11. Ломоносов и Северный морской путь
Сведения об открываемых в порядке частной инициативы Алеутских островах и об их громадных пушных богатствах не могли не заинтересовать правительство и, в особенности, гениального ученого Михаила Васильевича Ломоносова, внимательно следившего за всеми событиями на севере нашей родины.
В детстве Ломоносов каждое лето плавал по Белому морю и в Ледовитом океане со своим отцом Василием Дорофеевичем, опытным промышленником и мореходом. Любовь к северу Ломоносов сохранил на всю жизнь. Он тщательно собирал и изучал все сведения, касающиеся Северного Ледовитого океана. Особенно интересовался Ломоносов Северным морским путем. Еще в 1755 г. он написал «Письмо о северном ходу в Ост-Индию Сибирским океаном», а в 1762 г. замечательный труд «Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию». В этом труде Ломоносов обобщил опыт поморов, издавна промышлявших в ледовитых морях, и труды участников Великой Северной экспедиции. Он писал: «…Северный Ледовитый океан есть пространное поле, где усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерной пользою через изобретение Восточно-Северного мореплавания в Индию и Америку».
На карте Арктики, приложенной к «Краткому описанию», вопреки распространенному тогда воззрению о том, что у Северного полюса находится обширная суша, Ломоносов расположил обширный океан и правильно наметил общие очертания совершенно неизвестных тогда берегов Северной Америки. Он правильно отметил, что главное препятствие на пути арктических мореплавателей – это «стужа, а паче оныя лед, от ней же происходящий»[148]148
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 6, изд. АН СССР, 1952, стр. 457.
[Закрыть].
Ломоносов наметил и схему течений в Северном Ледовитом океане, указав, что «за полюсом есть великое море, которым вода Северного океана обращается по силе общего закона около полюса от востока к западу…» Он писал далее: «Оные льды приходят от востока, из Сибирского океана восточными водами и ветрами прогнанные»[149]149
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 6, изд. АН СССР, 1952, стр. 468, 480.
[Закрыть].
Надо обратить внимание на замечательное высказывание М. В. Ломоносова о движении льдов у Новой Земли, а именно: «Потом случается почти на всякое лето, что в июле месяце тянет ветер северо-восточной и выводит с водами великое множество льдов из Сибирского океана, что, однако, не далее трех или четырех дней продолжается; в прочее время море чисто, хотя иногда тот же ветер до трех недель господствует». «Из сего заключить должно, что за северным мысом Новой Земли толь далече берег, сколько верст может в четверы сутки лед перегнан быть ветром и водою, думаю, от трех до четырех сот верст…»[150]150
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 6, изд. АН СССР, 1952, стр. 480.
[Закрыть]
Такие высказывания М. В. Ломоносова были возможны только при обобщении многолетнего опыта плаваний и зимовок наших поморов у северных берегов Новой Земли. Великий помор указал направление и расстояние, в котором должна находиться земля, препятствующая северо-восточным ветрам нагонять в северную часть Карского моря арктические льды. Мы увидим в дальнейшем, что Ломоносов предвосхитил высказывания П. А. Кропоткина по тому же поводу – он предвидел существование Северной Земли, открытой только в 1913 году.
Западный берег этой земли отстоит от северной оконечности Новой Земли приблизительно на шестьсот верст. Таким образом, Ломоносов как будто ошибся верст на двести. Однако в 1930 г. экспедицией на ледокольном пароходе «Г. Седов» был открыт остров Визе, а в 1935 г. экспедиция при участии автора на ледокольном пароходе «Садко» открыла остров Ушакова. От острова Ушакова на север тянется мелководье, названное мелководьем Садко, на котором льды удерживаются даже в такие малоледовитые годы, как 1935-й. Эти неподвижные льды являются своеобразным ледяным барьером, преграждающим при северо-восточных ветрах путь льдам в район между Землей Франца-Иосифа и Новой Землей. Как отметил Д. Б. Карелин[151]151
Д. Б. Карелин. Открытие Земли Визе, сб. «Русские мореплаватели», Воениздат, 1953, стр. 401.
[Закрыть], острова Визе и Ушакова лежат как раз на расстоянии, вычисленном Ломоносовым. С полной справедливостью Ломоносова можно назвать отцом полярной океанографии.
«Краткое описание» Ломоносова было 22 декабря 1762 г. направлено Академией наук на заключение в Морскую российских флотов комиссию. Так как в «Описании» говорилось о возможности плавания Северным морским путем вдали от берегов Сибири, то Комиссия прежде всего вызвала из Ревеля несколько матросов, плававших до военной службы на Шпицберген и Новую Землю, а также нескольких поморов-промышленников из Архангельска. Комиссию интересовали возможности плавания в высоких широтах и зимовки на полярных островах.
Самые яркие и подробные показания дал престарелый государственный крестьянин Олонецкого уезда Амос Кондратьевич Корнилов, пользовавшийся громадным уважением среди поморов. Ломоносов был знаком с Корниловым, много его расспрашивал о плаваниях на севере и, в частности, в своем сочинении о полярных сияниях на него ссылался.
Корнилов показал, что «имеет он ныне на Грундланде, у Шпицбергена и в Новой Земле морские и прочие звериные промыслы А перед сим за 23 года ходил он от города Архангельского и из Мезени кормщиком, за шкипера на прежних старинных и новоманерных судах, из которых прежние шиты были еловыми прутьями, по названию то шитье вицою».
Ломоносов сообщает, что Корнилов 15 раз плавал на Шпицберген[152]152
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, т. 6. изд. АН СССР. 1952, стр. 461.
[Закрыть], бывал на Медведе и Пятигоре (на островах Медвежьем и Надежде) и несколько раз зимовал на Шпицбергене.
Корнилов был настоящим моряком-исследователем. Уже упоминалось, что Ломоносов использовал его наблюдения над полярными сияниями на Шпицбергене. Корнилов попутно с промыслами производил и другие наблюдения. Так, он показал Комиссии, что в бытность его на Шпицбергене он измерил лотом толщину как морских льдов, так и айсбергов. Это были первые в истории измерения подобного рода. В одном случае айсберг сидел на грунте на глубине 50 сажен, возвышался над уровнем моря на 10 сажен и более; ширина айсберга была более 30 сажен, а длина более 50 сажен. Вообще Корнилов обнаружил замечательные знания морских льдов, природы и промыслов на Шпицбергене. Между прочим, он рассказал также о явлениях ледяного и водяного неба. «Впереди лед, и в небе бело над льдом, и как лед лежит, так и в небе бело кажет; а где воды есть, там над тем местом в небе синее кажет»[153]153
В. А. Перевалов. Ломоносов и Арктика, Главсевморпуть, 1949, стр. 244
[Закрыть].
Корнилов рассказал Комиссии о снятии им в 1749 г. с острова Малый Берун (ныне Эдж) трех мезенских промышленников – Алексея и Ивана Химковых и Степана Шарапова, проведших на этом острове безвыездно 6 лет и 3 месяца.
Дело было так. В 1743 г. мезенский купец Еремей Окладников снарядил для промыслов на Шпицбергене судно с командой в 14 человек. Противные ветры прибили судно к Малому Беруну и здесь судно зажало льдами. Так как зимовка на судне во льдах была опасна, то решили перезимовать на берегу. Вспомнили, что где-то в этой местности стояла промысловая избушка. Для розысков этой избушки по льдам пошли налегке кормщик Алексей Химков и три матроса – Иван Химков, Степан Шарапов и Федор Веригин. Избушку они нашли и в ней переночевали, но когда утром вернулись к берегу, чтобы сообщить товарищам о счастливой находке, судна они не увидели. Разыгравшаяся ночью буря унесла от берега и судно и льды.
Прожили они на Малом Беруне шесть лет и три месяца. На шестом году умер от цынги сравнительно малоподвижный и более других тосковавший по родине Федор Веригин.
По рассказам Корнилова, начиная с 1720 г. состояние льдов у восточных берегов Шпицбергена стало очень неблагоприятным и очень много промысловых судов погибло, а начиная с 1743 по 1749 год (т. е. примерно во время работ Великой Северной экспедиции) никто на промыслы к Шпицбергену и не ходил.
После возвращения на родину Алексей Химков и его товарищи были вызваны в Петербург, где их подробно расспрашивали о всех обстоятельствах пребывания на Шпицбергене.
В этом опросе с морской точки зрения особенно интересно одно место.
Академик Российской Академии наук Ле-Руа спросил Алексея Химкова, каким образом, не имея ни часов, ни солнечных, ни лунных указателей, он определял время. На это Химков ответил: «Какой же я был бы штурман, если б не умел снять высоту солнца, когда оное светило видно, и ежели бы не знал, как поступить по течению звезд, когда солнца не видно будет и сим способом не мог определить суток! Я сделал для сего употребления палку, которая сходствовала с оставленной на нашем судне»[154]154
Пьер Людовик Ле-Руа, Приключения четырех российских матрозов к острову Ост-Шпицбергену бурею принесенных, где они шесть лет и три месяца прожили, 1772.
[Закрыть]. Из этих слов Химкова видно, что он не только умел пользоваться градштоком (астрономической палкой), но умел и рассчитать его, и сделать.

Карта полярного бассейна М. В. Ломоносова (1763).
Приведенные показания Корнилова и Химкова еще раз свидетельствуют о высоком знании льдов и о мореходном искусстве наших поморов.
12. Экспедиции Чичагова
(1765, 1766)
В течение многих лет Ломоносов упорно настаивал на посылке специальных научно-исследовательских экспедиций для освоения Северного морского пути. А когда эти экспедиции были утверждены, помор-академик, заседая вместе с моряками в Адмиралтейств-коллегии, вникал в каждую мелочь их снаряжения.
В марте 1764 г. Ломоносов написал «Прибавление первое о северном мореплавании на восток по Сибирскому океану», в котором внимательно разобрал «известия от грумантских и новоземельских промышленников» и составил подробный план и маршрут плавания. Спустя месяц он представил «Прибавление второе, сочиненное по новым известиям промышленников из островов Американских, и по выспросу компанейщиков тобольского купца Ильи Снигирева и вологодского купца Ивана Буренина», снаряжавших экспедицию Глотова на Алеутские острова и Аляску.
Спустя год, в марте 1765 г., за месяц до смерти, накануне выхода в море снаряженной по его настоянию первой экспедиции «капитана бригадирского ранга» Василия Яковлевича Чичагова, имевшей целью пройти из Атлантического океана в Тихий, Ломоносов написал «Примерную инструкцию морским командующим офицерам, отправляющимся к поисканию пути на восток Северным Сибирским океаном».
Ломоносов хлопотал о том, чтобы каждый корабль получил необходимые физические и астрономические приборы и чтобы штурманы умели обращаться с ними. Многие мореходные инструменты он сам изготовлял в мастерских Академии наук. Ломоносовым были составлены особые формы корабельных и экспедиционных журналов, в частности метеорологический журнал.
Великий ученый заботился об обучении штурманов и сам вел с ними занятия. От будущих арктических мореплавателей он требовал:
«Везде примечать разных промыслов рыбных и звериных и мест, где б ставить можно магазины и зимовья для пользы будущего мореплавания… Чинить физические опыты…, которые не токмо для истолкования натуры ученому свету надобны, и нам чрез искание их славны будут; но и в самом сем мореплавании служить впредь могут…» Ломоносов советовал наблюдать в пути «состояние воздуха по метеорологическим инструментам, время помрачения луны и солнца, глубину и течение моря, склонение и наклонение компаса, вид берегов и островов», «с знатных мест брать морскую воду в бутылки и оную сохранить до Санкт-Петербурга с надписью, где взята…» «Записывать, какие где примечены будут птицы, звери, рыбы, раковины и что можно собрать… то привезти с собою…», «паче же всего описывать, где найдутся, жителей вид, нравы, поступки, платья, жилище и пищу»[155]155
М. В. Ломоносов. Полное собрание сочинений, изд. АН СССР, 1952, т. 6, стр. 493, 534.
[Закрыть].
Выдающийся гидрограф вице-адмирал Алексей Иванович Нагаев составил для экспедиции Чичагова «Наставление мореплавателям», для ведения счисления и морской съемки, а академик С. Я. Румовский написал инструкцию «Способ находить длину места посредством луны» и вычислил таблицы расстояний луны от солнца для меридиана Петербурга[156]156
Разные сведения, относящиеся к экспедиции Чичагова, «Записки Гидрографического департамента», ч. IX, 1851, стр. 111–112.
[Закрыть].
Таким образом, благодаря стараниям Ломоносова экспедиция Чичагова в научном отношении была обеспечена так, как ни одна из прежде бывших русских и иностранных экспедиций. Впервые русские корабли могли во время плавания определять долготу места не только по счислению, но и инструментально по недавно перед этим разработанному способу лунных расстояний.
Не менее заботливо была подготовлена и материальная часть экспедиции.
Еще летом 1764 г. в бухту Клокбай на западном берегу Шпицбергена[157]157
Голландские китобои назвали эту бухту Клокбай, а англичане Беллзунд – на обоих языках Колокольный залив – по колоколу, найденному у промысловой избы Старостина.
[Закрыть] был послан вспомогательный отряд, состоящий из военного пинка «Слон», которым командовал лейтенант Михаил Степанович Немтинов, и шести наемных судов под командой морских офицеров. Этот отряд привез на Шпицберген заготовленные заранее избы, амбар, баню и провизию на случай зимовки экспедиции. Кроме того, там был оставлен унтер-лейтенант Моисей Рындин во главе партии из шестнадцати человек.
В том же году в Архангельске специально для экспедиции были построены три судна, названные по фамилиям их командиров: «капитана бригадирского ранга» Василия Чичагова, капитана 2-го ранга Никифора Панова и капитан-лейтенанта Василия Бабаева. Суда эти были построены особенно прочно: поверх обычной обшивки обиты сосновыми досками, а по форштевням – железом (перед плаванием 1766 г.). Всего на этих судах было 178 человек, в том числе взятые по совету Ломоносова три кормщика и двадцать шесть поморов-промышленников. Экспедиция была прекрасно снабжена провизией и одеждой. Все ее участники еще перед выходом в море получили всякого рода поощрения (производство в следующий чин, повышенное жалование, денежные награды и т. п.).
В мае 1765 г., через три недели после смерти Ломоносова, экспедиция из Колы, где она провела зиму, вышла в море с заданием «учинить поиск морского проходу Северным океаном в Камчатку». Пройдя на север вдоль западных берегов Шпицбергена, 3 августа на 80°26′ с. ш. встретили непроходимые льды, повернули обратно и уже в конце августа вернулись в Архангельск.
Как мы видели, в 1764 г. лейтенант Немтинов оставил на базе экспедиции в Клокбае партию Рындина и по условию должен был ее сменить в 1765 году.
Немтинов, на пинке «Лапоминк», выйдя из Архангельска в июле 1765 г., почти целый месяц пытался войти в Клокбай, но из-за льдов не смог этого сделать. 15 августа на совете было решено вернуться в Архангельск. Таким образом, партия Рындина вынуждена была остаться на вторую зимовку. Между тем, несмотря на помощь, оказанную русскими поморами, во главе с Василием Бурковым, зимовавшими в тридцати верстах от зимовки Рындина, несколько человек заболело цынгой. Чтобы сообщить о бедственном положении партии, кормщик Василий Меньшаков, вышел 1 августа 1765 г. со Шпицбергена на промысловом карбасе. 13 сентября он прибыл в Архангельск. Какие знания условий плавания в Баренцовом и Белом морях надо было иметь для того, чтобы решиться на такое плавание на таком судне и какое уменье – для того, чтобы его совершить!
Адмиралтейств-коллегия осталась крайне недовольна действиями Чичагова и приказала ему в 1766 г. опять итти в район к северо-западу от Шпицбергена и оттуда снова пытаться пройти к Берингову проливу.
Второе плавание Чичагова также было неудачно. 18 июля 1766 года на 80°30′ с. ш. дальнейший путь на север преградили тяжелые льды и Чичагов повернул на юг. На обратном пути он зашел в Клокбай и взял на борт партию Рындина, из которой к этому времени восемь человек умерло. Одновременно с Чичаговым в Клокбай пришел и лейтенант Немтинов на пинке «Лапоминк». 21 сентября Чичагов вернулся в Архангельск.
Много упреков пришлось ему выслушать после возвращения. В свое оправдание Чичагов написал обширную записку. В этой «Оправдательной записке», рассказывая о тяжелых встреченных льдах, Чичагов писал: «не можно ласкать себя, чтоб по такой неудаче заслужить мог хорошее мнение, а особливо от тех, которые мне эту экспедицию представляли в другом виде (как господин Ломоносов меня обнадеживал)». Дальше в записке Чичагов говорил о том, что по крайней мере его плавания доказали невозможность пройти на судне через Северный Ледовитый океан.
В той же записке приводится очень интересное наблюдение, на которое до сих пор не обращалось должного внимания:
«…по собственному примечанию найден способ ко осторожности, который и употреблялся с пользою; а оной состоял весьма в небольшой догадке, и только надобно выпалить из пушки: буде корабль находится на обширной воде, то от онаго выстрела никакого звуку будет не слышно, когда в близости берег или лед, и при тихом ветре, то по выстреле воздух потрясется и ударится о находящуюся вблизи твердость, а то и слышно будет на корабле и уверит, в которой стороне и на какой обширности есть лед или берег»[158]158
В. Я. Чичагов. Оправдательная записка, «Записки Гидрографического департамента», ч. IX, 1851, стр. 133–146.
[Закрыть].

Плавания отряда Чичагова (1765 и 1766).
Сейчас по этому же принципу построены современные приборы для определения близости судов или какой-либо опасности.
Надо отметить, что с морской точки зрения обе экспедиции Чичагова были проведены безукоризненно. Три парусных корабля среди льдов, в штормах и туманах все время держались вместе, не теряя один другого из виду. Что же касается маршрута, предложенного Чичагову, то теперь мы твердо знаем, что задача, поставленная ему Ломоносовым, невыполнима. Пройти через Северный Ледовитый океан не только на парусных судах, но даже на современных мощных ледоколах невозможно.
Боднарский отмечает, что Федор Иванович Соймонов, считавшийся во времена Ломоносова выдающимся гидрографом, – был против проекта Ломоносова. Соймонов считал, что море у полюса покрыто непроходимыми льдами[159]159
М. С. Боднарский. Очерки по истории русского землеведения, изд. АН СССР, 1947, стр. 149.
[Закрыть].