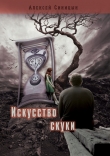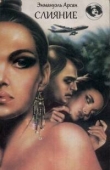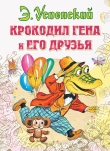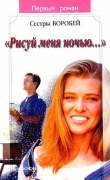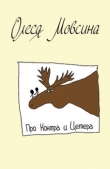Текст книги "Казарма"
Автор книги: Николай Наседкин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 10 страниц)
Толчок в плечо.
– Э-э, молодой, встань-ка... Э-э-э, слышь, там убрать надо...
Господи, что же делать? Делаю вид, что сплю, не слышу. Стараюсь дышать с присвистом.
– Э! Э! Чё – оглох? Ну-ка, подъём!..
Главное сейчас – не впасть в оцепенение, дать отпор... Я приподнимаюсь на локте, смотрю прямо в мутные гляделки парня и отчеканиваю твёрдым, внешне спокойным голосом:
– Я не могу. У меня завтра много важных дел. Мне надо выспаться. – И повторяю веско: – У меня завтра много-много важных дел.
Старик в недоумении, в отупении, он фраппирован.
– Чего-о-о?!
Пару долгих секунд я, скорчившись под одеялом и затаив дыхание, жду. Сейчас ударит! Сейчас пнёт!.. Что тогда произойдёт, я не знаю, но с постели я сейчас не встану – это точно.
Посланец, покачавшись надо мной и так ничего и не уразумев, тупо хмыкает, распрямляется и начинает тычками поднимать верхнего – Зыбкина.
– Э! Э! Ну-ка, вскочил! Э, молодой!..
Кишка быстренько спрыгивает вниз и шустро семенит в умывальник. Представляю, как злится он в этот момент на меня, что я не пошёл подтирать чужую блевотину и вместо меня пришлось заняться этим чухнарским делом ему. Каждому, скажу я, – своё!
Потом мне пришлось ещё пару раз выдерживать подобные экзамены, но довольно быстро положение мое упрочилось, статус утвердился – не чухнарь. Этому способствовало и то, что я, как принято говорить, начинал быть на виду, активничать.
Я потому так нескромен и подробен, чтобы дать представление об этой категории неприкасаемых молодых – подобную карьеру в первые месяцы сделал, разумеется, не я один. О ком-то из таких ребят, я бы сказал – случайных в стройбате, я ещё буду рассказывать и упоминать, о себе также по ходу записей придётся не раз говорить. Сейчас же закончу эту тему достойной службы напоминанием о герое моего незадачливого рассказа Алёше Акулове. Хотя я списал его образ и не с конкретного человека, но хочу подчеркнуть, что похожим на него воинам служить было тоже в общем-то несложно. Такой трудолюбивый парнишка со спокойным, добрым и скромным характером обыкновенно даже и с удовольствием переносил армейские тяготы – все эти бесконечные пола, уборки плаца, дневальства, строевые подготовки, дежурства по кухне, я уж не говорю пока о горах перекопанной и передолбленной земли на стройке, вся эта физическая каторга отвлекала "сына земли" вроде Алеши от тоски по дому, от тоски безделья. Такой доверчивый детский характер, как правило – и в этом я, сочиняя "Новенького", не соврал, – не выносил открытого, грубого, наглого унижения со стороны блатных старослужащих и сразу давал отпор, но старики похитрее и не наглые умели подкатываться к таким парнишкам и пользовались их отзывчивостью себе на пользу. Если бы тот же Гандобин подошел по-человечески, голос поставил, как надо, наплёл бы чего-нибудь правдоподобного и дипломатического. К примеру:
– Слышь, тебя Алексеем звать? Здорово у тебя получается! А я, как ни бьюсь, всё криво подшиваю – руки-то корявые. Будь другом, а, приваргань мне подворотничок – на свиданку к девчонке тороплюсь, хочу красивым быть, сам понимаешь...
Я больше чем уверен, что Акулов взялся бы "помочь" человеку. Ведь никакого унижения в данной ситуации простодушный паренёк даже бы и не почувствовал.
А для человека, уважающего себя, – это главное.
Глава V
Вот перечитал сейчас всё написанное, накарябанное мною и – расстроился.
Как же я забежал вперёд! Я, естественно, пока не профессионал в литературе, да и набрасываю эти заметки в общем-то для себя (смешно, право, надеяться, что подобное возможно опубликовать сейчас, а уж на мифического читателя где-то там, в будущем, и мечтать-то, ей-Богу, нелепо), а всё равно хочется вещь поприличнее сделать – с композицией, стилем, фабулой... Страшно представить, если тетрадь эту вдруг прочитал бы какой-нибудь современный бойкий критик или, того хуже, пролистала бы её критикесса – женщины в критике почему-то особливо злы. Приговор разгромный на все сто обеспечен: стиль-де неровный, язык небрежный, композиция рыхлая, образы очерчены бегло, характеры не раскрыты, поступки героев не мотивированы, фабулы практически нет и вообще сие не проза или по крайней мере не художественная проза...
И почему это критики иной раз так беспощадны в своих скоропалительных приговорах? Ведь самый главный критерий в литературе, по-моему, чтобы было интересно читать (кто-нибудь может съехидничать: давайте, дескать, порнографию в литературу пихать, вот читать-то интересно будет – с подобными дураками полемизировать не хочу!), и читатель находил бы в книге поводы поразмышлять. Разве не так? Это, во-первых. А во-вторых, хочется спросить этих хулителей: где же, когда и кем утвержден закон, что считать прозой, а что нет? Где та инструкция, точно определяющая, какие слова и в каком порядке можно употреблять в прозе, а какие нет?..
Впрочем, глупости всё это. Надо писать как можешь, как хочешь и как считаешь нужным – автор сам для себя устанавливает законы, скажу я вслед за великим предшественником всех нас, на русском языке пишущих, и со спокойным сердцем продолжу. Но, правда, всё же вернусь опять к началу, к первым дням, чтобы попробовать тянуть нить рассказа последовательно, прямо – привычно для потенциальных читателей и критиков...
Перед первым выходом, так сказать, на действительную стройбатовскую службу – на объекты, нас собрали в гарнизонном клубе на производственное (для армии термин весьма примечательный) собрание. Выступали перед нами какие-то майоры и полковники, гражданские начальники со стройки.
Речи их звучали заманчиво, аки сказки Шехерезады. Особенно нас, стриженых и лопоухих, впечатлило уверение этих дяденек, что если мы будем хорошо вкалывать, то за два года сможем скопить на машину. Ничего себе! Глазёнки у многих из нас разгорелись. Ещё бы, даром хоть время не потеряем, а то ведь за три восемьдесят в месяц служить те же два года и так же пахать (например, в желдорбате), что ни говори, а обидно... Так примерно в массе своей размышляли мы, молодые салабоны.
У кого-то, вероятно, сладко щекотало в области пупка в предвкушении прямо-таки буржуйских заработков, а кто-то, наоборот, про себя чертыхался и отплёвывался: да провалитесь вы со своими деньгами – все их не заработаешь! Нашлись, естественно, и вообще равнодушные ко всем посулам, такие, притулившись к спинам впереди сидящих, кемарили, осторожно посапывая в обе дырочки. (Кстати, уже через пару недель новой жизни мы все поголовно больше всего на свете, просто смертельно, хотели спать и есть, хотели круглые сутки. Такое хроническое ощущение недосыпа и голода терзало лично меня месяцев восемь...)
Сразу скажу во избежание кривотолков: действительно, некоторые сапёры за два года накапливали на лицевых счетах тысчонок по пять – преимущественно те, кто робил экскаваторщиками и бульдозеристами. Хотя мы находились на полном хозрасчете – из заработка стройбатовца вычитаются деньги за питание, обмундирование, баню, кино и проч., – но приличные региональные надбавки позволяли даже иным сапёрам заколачивать в месяц до трехсот рублей, а гражданские строители получали и того больше, гораздо больше. Поэтому неудивительно, что отдельные стройбатовцы, отслужив, оставались в этом неуютном степном городе на время или навсегда жить и работать.
Недальновидному человеку почему-то кажется, что большие деньги – это жизнь, свобода, хотя на самом деле они закабаляют человека и погоня за ними отнимает безвозвратно часть его жизни – лучшие часы, дни, месяцы и годы...
Я попал сразу в рабочую (а не в учебную) бригаду, так как до армии успел помесить бетон на стройке, подержать в руках топор и ножовку, короче, понимал работу плотника-бетонщика – для стройбата самая ходовая специальность.
Вывели нас впервые, говоря высоким штилем, на рубежи трудового фронта в дикие декабрьские морозы. Весь мир напоминал заиндевевшее стекло. В утренней белесой мгле метался по заснеженным безлюдным улицам седобородый вёрткий старикашка ветер. Он своими иглами-когтями моментально словно бы вспорол на мне и ватные штаны, и стёганую телогрейку с погонами, перетянутую жёстким широким ремнём, и трёхпалые солдатские рукавицы и начал мерзко трогать моё тело холодными мёртвыми пальцами. Я уж не говорю, как сразу ошпарило ледяным ветром бедное моё лицо, словно кто-то ни за что ни про что влепил мне полдюжины хлёстких пощёчин. Градусов стояло под тридцать, а при таком хиусе вполне можно было окоченеть полностью и насовсем за считанные минуты.
Главное – двигаться, двигаться и двигаться. Тем более, что наше отделение швырнули сразу на крышу уже почти построенной панельной пятиэтажки. Мы начали на верхотуре разбирать опалубку и сбрасывать вниз всякий строительный мусор. Ничего вроде бы сложного – задачка для слабоумных, но ледяной хиус превращал её в каторжное дело.
И самое отвратное заключалось в том, что даже если бы я в сию минуту заканчивал свое земное теплокровное существование и превращался уже в окоченевший труп, я не смел, не имел права спуститься с этой треклятой совершенно мне не нужной жилой коробки и побежать в тепло, к себе домой, к любимой девушке, в конце концов, хотя на тот момент её в моей жизни вовсе не было. Одним словом, я клацал зубами и страшно страдал не столько от самой стужи, сколько оттого, что мёрзну я не по своей воле.
Пусть даже командир моего отделения, молчаливый спокойный азербайджанец Мустафаев, мой однопризывник, мне не указ, но имелся ещё освобождённый сержант-бугор большой комплексной бригады стариков из другой роты – частью её и стало наше салабонское отделение, – таджик, по дикому взгляду и замашкам которого сразу стало ясно: такому лучше не перечить. Да власть над нами имели и все гражданские начальники – от бригадира вольных строителей, до мастера, прораба и далее по рангу и ранжиру. Нас, молодь, бросили всем этим людям в подчинение, отдали в полную их власть.
Я почему-то был уверен, когда узнал о том, что служить мне предстоит сапёром, в следующем, казавшемся мне очевидным: военные строители возводят военные объекты, какие-нибудь там полигоны, аэродромы, в крайнем случае мосты (сапёры, если судить по фильмам, в войну всё переправы наводили) или воинские казармы. Потому меня первое время удивляло, что пашем мы вместе с гражданскими, делаем одну и ту же работу (правда, мы чаще самую тяжелую и в большем объёме, а получаем почему-то раза в два меньше цивильных), лепим обыкновенные жилые дома и школы, хотя и в закрытом городе... Признаться, смысл в этом виделся какой-то однобокий, и иной раз думалось, что всё это весьма напоминает отбывание нами двухгодичного наказания-срока, как пишется в приговорах, на стройках народного хозяйства. А за что срок дали – никто не объяснил.
Вот ведь какая крамола в голову иногда лезет!..
Наконец, когда наступил, казалось, уже предел, и на задубевшем моём лице появились слёзы отчаяния, я решил, плюнув на всё, идти в биндюгу (вагончик) спасаться. Меня ещё удерживало на ветру то, что остальные ребята как-то терпели. Первому сдаваться зазорно.
И тут – о счастье! – бригадир гражданских, бородатый мужичок-боровичок в брезентовой куртке с капюшоном поверх полушубка, крикнул нам добродушно:
– Э-э-э, солдатики, носы уж посинели! Бегите греться, скажете – я разрешил.
Надо ли расписывать, каким резвым подпрыгивающим галопчиком помчались мы по трапам и лестничным маршам вниз, к родимой биндюге, которая ещё утром шибко нам понравилась громадным электрическим козлом – куском асбестовой трубы в раскаленной спирали с ломик толщиной. Все-то косточки у меня, все-то пальцы, щёки, коленки, ступни сладенько заныли, оттаивая в волнах африканского жара.
Но не успели мы толком растелешиться, как в вагончик ввалился тот бешеный сержант-таджик и начал брызгать ядовитой своей слюной, орать на нас и пхать своим щегольским сапогом наши ещё хрустальные не совсем оттаявшие ноги. Даже и заступничество мужичка-бородача нам не помогло – таджик визжал, что наша салабонская бригада дана под его начало, что старики пашут, а эти, дескать, молодые рогом не шевелят, и вообще он нас научит, как надо пахать, любить свободу и уважать дедушек...
Лексикон обычный, всё это придётся слышать потом не раз и от других блатных старослужащих, так что никак мне не удается избежать однообразия в передаче стройбатовской речи, штампов казарменного диалекта.
Первые два-три производственных месяца, и без того невероятно трудные, выматывающие, дикий таджик сделал ещё более изнурительными. Это тем более оказалось обидным, что все остальные таджики, скольких потом я ни встречал в стройбате, все были парни смирные, тихие, плохо знающие русский язык, какие-то зачуханные, одним словом – безобидные и даже зачастую, наоборот, обижаемые. В этом же сержанте (честное слово, как звать его не помню – до того он мне противен) словно бы сконцентрировались отпущенные на всех таджиков агрессивные начала.
Что-то имелось в нем от жестокого азиатского средневековья, что-то аномальное, нечеловеческое, что позволяло ему уже одним своим присутствием, взглядом, визгом подавлять, уничижать людей. И надо сказать, что прижимал он не только нас, молодых, но и всех – своих однопризывников, земляков, независимо держался с офицерами, плевал даже на гансов, что особенно трудно было осознать.
Одевался этот таджик соответственно своей, так сказать, конституции: офицерский короткий полушубок цвета сливочного масла с белым мехом, офицерские же шапка и хромовые сапоги, ремень из чистой кожи. Откровенно говорю, не знаю и не понимаю, почему даже патрули, для которых нет ничего слаще, чем привязаться к сапёру, придраться к нарушению формы одежды, почему даже они ничего не значили для этого сына Памира? (Вспомнил, наконец, как мы его называли – Памир.)
В продолжение службы я встретил ещё двух человек, не считая Дерзина актёрствующего уголовника, похожих на Памира сутью, и, что интересно, они также были из азиатов. Один, казах Турусунов, я о нём уже упоминал, служил в нашей роте, другой, киргиз Токогулов, был из другого полка, с ним вместе я работал на втором году в городском ЖКУ, но и они, такие же независимые, высокомерные, горделиво-кичливые, презирающие всех, жестокие и дерзкие, всё же уступали в чём-то Памиру, были пониже рангом. По крайней мере экипироваться в офицерские шмутки до дембеля они себе не позволяли – ходили в кирзе и хабэ.
И вот этот бригадир-горец буквально изъездил нас в начале нашего трудового поприща. Нас прикрепили к его бригаде под его жёсткое командирство на несколько месяцев как бы учениками. И он, тиран узкоглазый, нас учил. Перекуров почти не было, пользовались мы, правда, тем, что мучитель наш рьяно любил бегать по конторам: закрывать там наряды, выписывать инструмент, составлять накладные. Это была единственная его слабость – любил бумажки оформлять и писал их, как я впоследствии увидал, с такими чудовищными ошибками, что даже жалко становилось его спесивую гордость.
Как только Памир исчезал в направлении вагончика прораба, мы расправляли плечи, сгрудивались вокруг костра, опирались на ломы и лопаты, наслаждались свободой. А уж если у тебя имелась на данный момент ещё и настоящая сигарета или на худой конец приличный чинарик – вообще кайф.
Упомяну здесь, что курево совершенно неожиданно для меня стало одной из надоедливых мучительных проблем начального периода стройбатовской повседневности. Курил я, как и многие, со школьных лет, с седьмого класса, по уши уже втянулся в это глупейшее, бездарнейшее и бессмысленнейшее занятие, но всё равно самоуверенно считал, что в любой момент, стоит мне только чуть покрепче поднапрячь силу воли, я выплюну сигарету изо рта бесповоротно и навсегда.
И вот сей рубеж, как я решил, должен был наступить с первого дня солдатского бытия. Вечером, после ужина, перед первым отбоем я выскочил, улучив момент, на улицу и ритуально, глубокими затяжками, лицедействуя не столько перед единственным зрителем, Витькой Хановым, сколько перед самим собой, я втянул в лёгкие весь едкий горячий дым, огарочек осторожно положил на плац, очищенный от снега, и с трагическим выдохом: "Всё!" – втёр его подошвой сапога в трещины асфальта.
Самое ехидство подобных сцен заключается в том, что человек словно бы напрочь забывает о позорной несостоятельности прежних попыток личной антикурительной революции и простодушно верит: теперь уж можете не сомневаться – бросил. А если б вспомнить в сей момент знаменитую шутку Твена о том, что нет ничего легче, чем бросить курить – он сам сто раз это делал. Нет, всё же смешное заложено в человеке от природы, и никакое образование, развитие, никакие обстоятельства не в силах заставить человека абсолютно перестать быть смешным и наивным...
На следующее утро я проснулся за полчаса до подъёма с мыслью – хочется курить. После завтрака и построения части, когда бoльшая часть моих сотоварищей вокруг задымили и запыхали, мне пришлось сжать покрепче зубы и отойти в сторону... Да что там размусоливать! Выдержал я полтора дня, пока не ущемил в щепотку свою псевдоинтеллигентскую гордость и не подкатился, криво усмехаясь, к Хану:
– Витька, дай-ка сигарету, так и быть, курну...
Хан, разумеется, издевнулся, без этого он не мог. Мол, ты же бросил, надо держаться, держись, мол, ещё немножко терпеть (пых! пых! – сам сладко пускает жёлтые туманные клубочки изо рта), я тебе друг, пойми, не могу дать, дам, а ты потом скажешь, что не поддержал, ты попробуй о другом думать, и вообще, курение вред, капля никотина – ты знаешь? – убивает лошадь...
Короче, пока я не взъярился и не психанул всерьёз, Хан меня манежил. Но зато, Боже мой, какой же вкусной оказалась первая затяжка, как блаженно пошла кругом лысая моя головушка, словно ласково, но сильно тюкнули по ней пыльным мешком. (На сравнении настаиваю, ибо умного, но курящего человека вполне можно назвать чокнутым, чеканутым, то есть, выражаясь по-народному, из-за угла пыльным мешком стукнутым.)
И началась унизительная кабала. В отличие от трезво мыслящих ребят, вроде Хана, запасшихся на первое время табаком или сумевших сохранить сколько-нибудь тугриков, я курево не закупил сознательно, а деньги все просвистал в вагоне поезда, оставил их на память барыжным проводницам.
Я сразу же написал отчаянное письмо домой, где после информационного текста о житье-бьпъе-службе наставил восклицательных знаков под мольбой: срочно сколько-нибудь денег!.. Можно было заказать сигареты посылкой, но я предполагал, к чему это приведёт, и категорически просил посылок мне не слать. И действительно, не раз затем мне приходилось быть свидетелем того, как делились салабонские жирные посылки прямо на почте – целая стая стариков, сделавших дежурство на почте прямо-таки своею обязанностью, своим прибыльным хобби, налетали на счастливого хозяина фанерного ящика, словно вороньё, и расклёвывали-растаскивали дары домашние в считанные мгновения на мелкие крошки. Конечно, часть содержимого посылки доставалась и адресату, но избави меня Бог с моим характером выступать в такой роли!..
Итак, я ждал денег в конверте и в ожидании их, прижимая свою душу, стрелял никотиновую радость у кого только можно, но чаще всего у Витьки-землячка. Превозмогать себя и, увы, если называть вещи своими именами, попрошайничать мне позволяла уверенность, что я беру как бы взаймы. Я же отдам! Я с лихвою всё верну, правда! Вот только деньги получу от матери и у нас будет целая гора сигарет – кури хоть по пачке в день!..
Хан морщился, ворчал, унижал, насколько разрешалось, но выдавал-таки из своих запасов паршивую "Приму" поштучно и, вполне вероятно, вёл выдачам счет. Надо ли тут подробничать, как корёжили мою душу эти мои табачные добровольные унижения? Но самое интересное, что злился я почему-то на мать чего долго не откликается? Нет, прав Федор Михайлович, – широк человек, ох как широк!..
И вот через несколько бесконечных томительных дней долгожданный конверт у меня в руках. Но что это? Что? это? такое?! Письмо захватано, измазано, но самое ужасное – оно вскрыто. И грязного перлюстратора, как я мгновенно с отчаянием понял, интересовало, конечно же, не содержание письма, а содержимое конверта.
Читал я материнские размашистые строки: "Пока, сынок, высылаю только десяточку, больше дома денег нет. До получки надо тянуть ещё почти неделю, так что пока выкручивайся..." – и, ей-Богу, на глаза наворачивались слёзы: мать, моя наивная, плохо знающая жизнь и не умеющая хитрить матушка наскребла последние деньжата, не сообразила вложить купюру хотя бы в плотную двойную открытку, и какой-то негодяй высмотрел на свет в письме красненькую бумажку, извлёк её и теперь, наверное, на меня со стороны, подонок, посматривал и хихикал гаденько. Да и то, хихикать вполне можно – я, как ребёнок, бросился к ротному почтальону, тому самому каптёрщику с унылым лошадиным лицом, и начал что-то лепетать о деньгах, о пропаже, о том, как долго ждал...
Уже много позже я узнал, что этот полусонный хмырь и перлюстрировал денежные письма молодых и даже не догадывался или не желал, ханыга, их заклеивать, заметать свои следы. Да и, надо сказать, ни разу его не прижучили за это, тем более что он делился, можно не сомневаться, с кем надо.
Я сразу накатал домой подробную инструкцию: посылать в каждом письме только лишь по рублю-трешке, вкладывать бумажку в двойную открытку, конверт дополнительно смазывать клеем и запечатывать тщательно. Впоследствии же, как и другие сапёры, договорился с одним мужиком из гражданских, с ним работал на одном стройучастке, и начал получать редкие, но относительно весомые переводы через него.
Кстати, интересный штрих, характеризующий атмосферу и своеобычность стройбатовской жизни. В одном послании из дому, месяце на втором службы, я вместо рублевой ассигнации получил в конверте странную цидулку с припиской матери: "Сынок! Мне твой командир прислал вот эту жуткую бумагу. Второй день болит сердце, пью валерьянку. Что ты там натворил? Неужели тебе так хочется выпивать, что ты не можешь даже в армии удержаться? Прошу тебя, не пей!.."
Прочитав цидулу, я не знал, то ли мне смеяться, то ли плакать, то ли пойти (это уж фантазия) и плюнуть в мясистую бульдожью физию Мопса, как звали мы жирного дубоватого полковника Собакина, командира нашей части. На половинке стандартного листа я прочитал отпечатанный под копирку следующий текст:
"Уважаемые родители!
Во время прохождения службы в рядах Советской Армии ваш сын обеспечен всем необходимым для выполнения служебных обязанностей и нет никакой необходимости высылать ему деньги. Он может сам помогать вам деньгами. Прошу вас ни при каких обстоятельствах и ни на какой адрес не высылать деньги, в том числе и в письмах. Как правило, на полученные деньги приобретают спиртные напитки, а на этой почве совершаются и проступки, и преступления.
Командир войсковой части № такой-то
И.СОБАКИН".
Пришлось мне успокаивать матушку и уверять в том, во что нормальному человеку и поверить-то нелегко: подобные педагогические послания получили матери и отцы всех воинов нашего полка, то есть сей образец солдафонский озабоченности подполковника Собакина был кустарно размножен тиражом более тысячи экземпляров (пять писарей долбили целую неделю на машинках!) и разослан по всем городам и весям страны.
Можно вполне предположить, что на такое количество ошарашенных, взволнованных отцов и матерей случилось десяток-другой инфарктов.
Глава VI
Чувствую и вижу, опять я несколько уехал от фабульной колеи моего бесхитростного повествования, надо бы продолжить про начало трудовых буден, но я не могу здесь сразу же и более подробно не поговорить о том, чего, якобы, так опасался небравый наш подполковник Мопс.
О пьянстве в стройбате.
Эпистола командира части к нашим родителям, вероятно, не вызвала бы у нас такого возмущения – чего там скрывать, рыльце в пушку было у многих если бы она, эта эпистола, так не воняла ханжеством...
Тут вообще вопрос, конечно, интересный. У нас ведь пьёт вся страна. Пьют все. Или по крайней мере настолько многие, что, встретив в праздник совершенно трезвого человека, удивляешься. Притом пьём мы мерзостно, варварски, по-свински – всякую гадость. У нас как-то исподволь создался или, может быть, внедрён я наше сознание специально совершенно нелепый миф о якобы достойном вкусе и популярности в мире так называемой русской водки. Не представляю совершенно, какой напиток под видом "рашен водка" употребляют алчущие на Западе (правда, один мой знакомый служил офицером в Польше, уверял, что наша "Столичная" там – как мёд, абсолютно не похожа вкусом на отечественную, пытался, рассказывал, провезти пару бутылок родимого напитка на Родину, но на советской границе советскую "Столичную" у него изъяли – не положено), ведь то, что продают у нас в пол-литровых бутылках за 2 р. 87 к. и 3 р. 12 к. в любой сельской лавке, по вкусу и запаху напоминает испорченный ацетон.
Я уж не говорю о качестве напитков, почему-то именуемых у нас портвейнами и вермутами. Народ недаром называет такое вино "чернилами", "бормотухой", "плодово-выгодным", "вермутью", "червивкой"... Я вот иногда думаю: дали бы сперва народу настоящее грузинское вино попробовать, марочный армянский или французский коньяк, лучшее чешское пиво – потом бы уж и боролись за его, народа, отрезвление. Право, может быть, тогда и бороться легче было бы – натуральным коньяком не так уж быстро здоровье подорвёшь, сухим грузинским вином трудновато спиться вдрызг, до алкоголизма.
Я так думаю.
Кстати, впервые в жизни я попробовал водку на вкус в день своего восемнадцатилетия, и меня так вывернуло наизнанку чулком, что весь праздник оказался испорченным, и долго ещё впоследствии содрогался я от приступов тошноты только лишь при запахе спиртного. Но это уму непостижимо, до чего человек – существо патологическое и извращённое: вот зачем мне нужно было преодолевать в себе естественное отвращение к табаку, переносить томительное головокружение от первых затяжек и втягиваться в добровольное рабство к этой вредоносной и глупейшей привычке? Зачем мне надо было ещё больше сил, упорства, нервов и боли затратить в борьбе с собственным сопротивляющимся организмом, дабы приучить его впитывать в себя алкоголь? Хотя, к счастью, к водке я так пока и не привык, но – кто знает...
Зачем же люди пьют?
У нас в селе было и есть, естественно, много уже окончательно спившихся пьяниц. Притом некоторые удивительно быстро успевают промчаться весь путь от первых рюмок до той градации, когда уже необходимо лечиться. Я лично знавал и двадцатилетних алкашей, полностью опустившихся, опухших, окончательно погибающих. Хотя, впрочем, ведь все мы рано или поздно умрём-погибнем...
Так вот, среди наших сельских пропойц был один здоровый ростом и плечами мужик лет тридцати пяти по прозванию Прокоп. Пил он шумно, весело, много, напившись, любил покуражиться, погоняться с ножом за очередной своей собутыльницей. Жил он один в хатёнке, оставшейся от родителей. Где брал деньги на каждодневные праздники, не берусь судить.
И вот грянул гром, началось светопреставление – Прокоп завязал. Все мы, соседи, односельчане, вначале недоверчиво посмеивались. Но Прокоп действительно совсем бросил пить. Совершенно. Он не пил месяц, второй, третий... Какая удивительная метаморфоза произошла с мужиком: он купил себе костюм, новые туфли, даже шляпу, и тогда многие вдруг вспомнили, что Прокопьев-то был когда-то инженером в совхозе. Он начал ходить каждый вечер в сельский наш Дом культуры, смотрел кино, а потом гулял по местному бродвею, всегда один, молчаливый, не похожий на себя...
Однажды, когда стояла уже осень, в дождливый мзгливый вечер редкие прохожие, заслышав недобрый голос, спешили скорей свернуть с бродвея в сторону: прямо посерёдке дороги плёлся, качаясь, Прокоп с двумя вырванными штакетинами в руках, и угрожающе матюгался. Весь уляпанный жирной осенней грязью, в смятой мокрой шляпе, с блестящими от водки или самогона глазами, он находился в своей родной стихии...
Прошло ещё какое-то время, и по воле случая мне довелось как-то разговаривать с Прокопом. Он в этот момент ещё был полутрезв, соображал, говорил связно и грустно. И никогда не забуду, как он, к разговору, вдруг выдохнул:
– Какая ж это, земляк, тоска, когда не пьёшь!..
И такой у Прокопа был в этот миг взгляд, так он скрипнул зубами, что я всем нутром понял: он живёт совершенно в другом мире и, заглянув на какое-то время в наш, видимо, ужаснулся и затосковал...
Естественно, что сухой закон, долженствующий действовать в армии в уставном порядке, на самом деле не действует. Вернее, сплошь и рядом нарушается. И что удивительно, немало ребят именно в армейские годы приучиваются не только курить, но и выпивать, хотя на гражданке ни тем, ни другим не баловались. Пример толпы заразителен, особенно для восемнадцатилетних.
Притом на психику этих мальчиков, конечно же, особенно наглядно действует пример отцов-командиров. Вот без преувеличения: если взять объём спиртного, употреблённого за год личным составом нашей части от последнего рядового до подполковника Собакина, и в одну какую-нибудь гигантскую бутыль слить, так сказать, командирскую долю, а в другую – сапёрскую, то, ей-Богу, уровень сивушной жидкости в бутылях окажется по крайней мере одинаковым, словно это сообщающиеся сосуды. А ведь командиров-то и числом помене...
Я уже упоминал об откровенных алкашах – старлее Наседкине и прапоре Уткине. Ещё чище их был майор Синицын, одно время возглавлявший штаб нашего полка. Потом, правда, за беспробудное пьянство его с должности сняли, понизили в звании и перевели куда-то в другие ещё более отдалённые места. Сгорел в свое время и Чао, тоже перевернул свою карьеру в обратную сторону. Кстати, они с Синицыным в основном на пару и бражничали или в штабе, или в канцелярии нашей роты.
Да, и майор, и старлей были всё же осажены, приструнены, но они уж чересчур обнаглели, перешли все и всяческие границы приличия. Бывали случаи, когда Наседкин утром на построении части, опохмелившийся, в тёмных очках, скрывающих следы вчерашней драки с рассвирепевшей супругой (подробности его семейной жизни были всему полку известны), нахально представал пред очи тогда уже полковника – Собакина, и тот, с присущим ему педагогическим тактом, перед всем личным составом, наслаждающимся ситуацией, рявкал на командира 5-й роты:
– Опять?! Опять, товарищ старший лейтенант? Кругом! Привести себя в порядок! Даю один час времени! В следующий раз – погоны сдеру к чёртовой матери!..