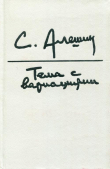Текст книги "Темы с вариациями (сборник)"
Автор книги: Николай Каретников
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Это препирательство повторилось еще несколько раз.
Траурное настроение начало постепенно рассеиваться: происходящее слишком сильно напоминало какой-то, случайно Зощенко не написанный, рассказ.
Кое-как отговорили и тронулись на кладбище. Когда толпа провожающих приблизилась к могиле, то покойника рядом с ней не оказалось. Ждали час, потом другой… В начале третьего гроб с умершим наконец появился – его, как Пушкина, провезли какими-то задами.
На горку свежевырытой глины опять взобрался Леонид Борисов и заявил: «Сегодня мы прощаемся с великим русским писателем!» – и опять Александр Прокофьев столкнул его и утверждал, что писатель был только «известным советским»… Это продолжалось до тех пор, пока Борисов, поскользнувшись, не упал в разверстую могилу. Его вытаскивали оттуда при помощи канатов, на которых обычно в могилу опускают гроб.
Веселья было предостаточно.
«Народный» художник
Стены двух смежных комнат были увешаны полотнами: сюжеты русской литературы, церкви и церквушки, портреты с огромными, совершенно одинаково прописанными сле́зниками и, наконец, убиенный царевич Димитрий, плавающий в лужице красненькой краски. Живопись была убогой.
Отсутствующего живописца замещала жена. Она исправно, как экскурсовод, отрабатывала накатанную программу.
Когда мы вошли, на диванчике уже сидели две бальзаковского возраста дамы и издавали восторженные вопли. Наши жены мгновенно включились в дамское камланье. На мольберте стоял написанный с применением коллажа портрет клоуна. Из магнитофона звучал «Клоун» Вертинского.
Мне эта живопись и представление очень быстро не понравились, и я ушел на маленькую кухню, где почему-то стояла большая мраморная ванна, сел на край этой ванны, закурил и стал ждать конца комедии.
Через какое-то время услышал, что открывают входную дверь, и почти сразу в кухню влетел известный пианист, мой школьный друг.
– Ты видел? – заорал он. – Ты когда-нибудь что-либо подобное видел?!
– Видел многое и в сотни раз лучше.
– Да нет! Ты не понимаешь! Он гений!! У нас ничего подобного нет!!
– Повторяю тебе, что есть, и несравнимо лучшее.
Пианист озадаченно замолчал.
Появился хозяин дома. Дамы сейчас же окружили его, продолжая издавать восторженные вопли. Он, по-видимому, был большой знаток человеческих душ: узрев выражение моего лица, он мгновенно понял, что выяснять отношения нужно именно со мной. Не обращая внимания на визжащих дам, он, сквозь них, двинулся ко мне и, остановившись на не очень хорошем для контакта расстоянии, метрах эдак в двух, жестко спросил:
– А вам не понравилось?
– Нет, не понравилось.
– Все?!
– Все.
– Быть может, вы любите только абстракции?
– Почему же? Если реализм настоящий, то я люблю и его.
– А-а-а, так вы из тех типов, которые любят жену, любовницу, занимаются онанизмом и еще сожительствуют с чайником!!
– Думаю, что если все это кому-то нравится, пусть он это и любит.
Он, просверливая меня взглядом, медленно вынул из кармана никелированный кастет, надел на руку и начал, сжав кулак, его как бы внимательно разглядывать. Дамы восторженно заверещали:
– Ой, что это за красивенькая штучка?!
Он, не отвечая, продолжал разглядывать кастет.
– А ну, пойдем отсюда! – сказал я своим, и мы быстро ушли.
Дополнение к «Истории костюма»
В то время мужчины носили широкие брюки.
У обычных граждан эти брюки были хоть и некрасивы, но все же приличны. На функционерах и персонах, особо отмеченных «заслугами», брюки были в два раза шире и являлись как бы отличительными знаками некоей кастовой принадлежности.
Я пришел к А. Г. Габричевскому потрясенный, так как только что закончил чтение толстой папки его искусствоведческих статей, написанных решительно о всех видах изобразительных искусств, музыке и архитектуре. Особенно поразили и озадачили меня статьи по философии архитектуры – я не имел об этом предмете ни малейшего представления и, чтобы что-то понять, перечитывал их по три-четыре раза. Эта папка являлась, быть может, одной десятой того, что было им написано и практически не опубликовано.
Габричевский слушал выражение моих восторгов, и лицо его было мрачно. Когда я замолк, он сказал:
– Ты не можешь не понимать, что я на самом деле не реализовался.
– Как же так, Александр Георгиевич? Ведь все уже существует!
– Это всего-навсего папка с бумагой… Она может таковой и остаться!
– Уверен, что рано или поздно все ваши работы будут опубликованы!
– В это я не верю.
– Но вы же еще читали лекции в Академии архитектуры и в университете. У вас было много учеников и то, что они от вас узнавали, не могло исчезнуть бесследно!
– Когда я читал лекции, я видел молодые прекрасные лица и мне казалось, что они меня понимают… И все, что я старался им передать и объяснить, останется в них. Но проходил какой-нибудь десяток лет, иногда я встречал кого-нибудь из них на улице и вдруг с ужасом замечал, что на нем вот такие (он развел ладони) широкие брюки…
Лекарство от тщеславия
Прославленный оркестр Большого театра до постановки в 62-м году моего балета «Ванина Ванини» никогда не играл музыку, написанную с применением додекафонной системы.
Нервное напряжение возникло на первой же репетиции. Музыканты эту музыку не понимали и не принимали. Они растерянно крутили головами каждый раз, когда фразу продолжал не тот инструмент, который ее начал. Постепенно и у меня, и у них самих возникла уверенность, что это сочинение они чисто исполнить не смогут.
Ситуация требовала самозащиты, и, чтобы отвести от себя обвинение в профессиональной несостоятельности, оркестр принял решение, о котором меня в известность не поставили.
Когда из репетиционного зала перешли в зрительный, танцовщики сразу начали кричать со сцены, что им не слышна музыка, да и сам я, сидя в пустом партере, сразу услышал, что оркестр звучит так, будто его плотно обернули ватой. Следовало предположить, что я, наверное, разучился оркестровать, а уж в этой партитуре наверняка сделал громадные просчеты.
После репетиции забрал оркестровые партии домой и начал карандашом вписывать в них дубли.
На следующий день я не заметил каких-либо прибавлений в звучании оркестра и вновь забрал партии, чтобы вписывать дубли.
Оркестранты, зная, что я беру партии домой, вступили со мной в переписку. Чаще всего они писали бранные или издевательские словеса в мой или моей музыки адрес, иногда патетические возгласы с сожалениями по поводу моей дальнейшей судьбы. В одной из партий был даже вклеен листок из отрывного календаря с портретиком П. И. Чайковского и его высказыванием: «Мелодия – душа музыки». На некоторые понравившиеся мне заявления я ответил.
Утром, на репетиции, я заранее встал около оркестровой ямы и наблюдал, как музыканты бегают от пульта к пульту, чтобы прочитать мои ответы, – мое присутствие их нисколько не смущало. В оркестре царило оживление, однако, когда они заиграли, звука у них не прибавилось. Я начал впадать в отчаяние.
Поступили сообщения о событиях, происходивших вне сцены и оркестровой ямы. Оркестранты ходили в дирекцию, звонили в Министерство культуры и в ЦК партии. Они требовали выяснить: «Кто он такой? Где и у кого он учился? И вообще, советский ли он человек?!»
В зрительном зале начали появляться лица из Союза композиторов, принадлежавшие к так называемому «руководству второго уровня». Они тихонько садились где-нибудь в стороне, слушали и удалялись до того, как репетиция заканчивалась.
Оркестранты, уже не скрывая от меня, говорили, что на приемном худсовете сделают все для того, чтобы мой балет не был принят. Особенно лютовали первые пульты первых скрипок – они ведь «оркестровая аристократия».
Оркестр звучал по-прежнему. Я опять брал партии домой, вписывал и вписывал дубли. Вбивал в одну ноту и струнные, и тромбоны, и дерево, но ни на сцене, ни в зрительном зале все равно ничего не было слышно. Из оркестровой ямы клубами поднималась ненависть.
На девятый день такого репетирования, во время перерыва, один из скрипачей, который учился со мною в ЦМШ, открыл мне наконец причину «незвучания» оркестра: «Наши устроили „итальянскую“ забастовку. Сговорились все играть пианиссимо».
Когда А. Жюрайтис, дирижировавший моим балетом, продолжил репетицию, я подошел к нему со стороны партера, остановил музыку и все объяснил. Он развернулся к оркестру:
«Если мне сейчас же не будет дано настоящее фортиссимо, я немедленно пишу докладную в дирекцию театра!» Он показал вступление, и из оркестровой ямы раздался грохот. Я вновь остановил репетицию и, обращаясь к оркестру, прокричал: «Все ноты, написанные карандашом, не играть!»
Балет на сцене все услышал, и звучание в зале меня тоже устроило. Через три дня была назначена генеральная.
За день до нее я позвонил Шостаковичу:
– Дмитрий Дмитриевич! Не будете ли вы завтра утром свободны часа на два или на три?
Шостакович ответил, что свободен. Я объяснил ситуацию.
– Очень прошу вас прийти и, если музыка вам понравится, защитить ее!
Д. Д. ответил:
– Я обязательно, обязательно, так сказать, приду и постараюсь сделать все, так сказать, все, что от меня будет зависеть!
Обычно в Большой театр на генеральные репетиции балетов приглашаются не занятые в спектакле артисты, ученики балетной школы, пенсионеры, члены Союза композиторов, пресса.
На сей раз двери театра оказались заблокированными, перед входом в недоумении стояла толпа, а в пустом зрительном зале сидела небольшая группа представителей Министерства культуры, члены худсовета и несколько лиц «второго уровня» из Союза композиторов. Шостакович пришел.
Оркестр играл как мог – ошибались то в четных, то в нечетных тактах, иногда и в тех, и в других, но все же понять, какова музыка, было возможно.
Присутствующие отправились в директорский кабинет.
Когда я вошел, там уже сидели, подбоченясь, представители первых скрипок. На их лицах было выражение волков, собравшихся задрать ягненка.
Первое слово было предоставлено Шостаковичу.
Дмитрий Дмитриевич встал и сказал чистейшую ложь:
– Я поздравляю, так сказать, от всей души поздравляю оркестр Большого театра, который так блистательно, блистательно справился с этой труднейшей, так сказать, труднейшей партитурой!
Затем он объяснил присутствующим различные свойства моего симфонизма.
Дело было решено.
Руки скрипачей опустились вдоль боков, лица смешались, и все выступавшие вслед за Д. Д. не осмелились ему возражать. Балет разрешили к представлению.
Когда первое представление закончилось, из зрительного зала послышались бурные аплодисменты и крики «браво!».
Занавес поднимался раз за разом, и я выходил кланяться.
Легко представить себе мое состояние в эти минуты: мне тридцать лет, я вошел в Большой театр без протекции, без рекомендации Министерства культуры, выдержал тяжелейшую борьбу с оркестром и вот теперь выходил на поклоны в главном театре Советского Союза! Я победил! Партер, ярусы, ложи, огромная люстра, жители Парнаса, изображенные на потолке, прожектора – все это рушилось на меня и переполняло тщеславной гордостью.
Отвешивая поклоны, я наконец опустил взор долу и узрел оркестр… Они все стоя аплодировали, кто в ладоши, кто стуча по спинкам инструментов. Их развернуло, как флюгер.
И я понял, что успех ничего не стоит.
Сентиментальное путешествие
Эта штука посильнее, чем «Фауст» Гёте.
И. Сталин
В конце летнего сезона выехать из Коктебеля можно, только воспользовавшись услугами экспедитора Дома творчества литераторов. Посему мы попали в вагон, буквально набитый членами Литфонда. Билеты были в разные купе, и я сначала помог устроиться жене. Мистика началась почти сразу. Войдя в ее купе после яркого южного солнца, я не очень различил людей, в нем находившихся. Однако после того, как запихнул чемодан на багажную полку и повернулся спиной к двери, обнаружил перед собой высокого седовласого господина, одобрительно на меня взиравшего. Протянув в мою сторону огромную плоскую ладонь, напоминавшую ладонь Шаляпина в гриме Дона Базилио, он представился низким басом:
– Князь Мещерский (или Мышецкий, или Лобанов-Ростовский, – я был настолько поражен, что не запомнил его фамилию, помню только, что из самых родовитых).
Я тоже представился. Безо всякой подготовки он продолжил:
– Скажите, вы сотрудничаете с большевиками? Я промямлил нечто вроде: «Да иногда случается».
– А вот я сразу вступил в партию… Я сразу понял, что иного не дано!
И он, ухватив за пиджак, мгновенно выволок меня в тамбур, где еще минут десять объяснял всю полезность предпринятой им акции. Практически ничего ему не ответив, я смог наконец вернуться в купе, где тоже оказалось интересно: его спутницами были две старушки, вначале показавшиеся мне ровесницами. На самом деле одна из них была его женой, другая тещей. У тещи на коленях возлежал огромный кот. (Общеизвестно, что где кот, там не без нечистой силы.) Обе дамы с живейшим интересом глядели в окно и иногда, указывая пальцем на нечто вовне, дуэтом восклицали:
– Ну, это-то земли Голицыных!.. А вот это уже наши!.. А это вроде бы Шереметевых… или нет… это Куракиных?! А тут-то уж точно наши!
Решив, что с меня для начала достаточно, я отправился вселяться в свое купе. На пороге был встречен поблескиванием молотовско-бериевского пенсне, украшавшего переносицу нашего бывшего представителя в Организации Объединенных Наций, а ныне члена ССП. Его тихая супруга уже находилась на полке над ним. На другой нижней полке, под моим местом, уютно расположилась Мариэтта Сергеевна Шагинян. Она, как обычно, беседуя, держала перед собственным носом слуховой аппарат, будто слушала самое себя. Я поздоровался, взобрался на свою полку, лег, раскрыл свое любимое в то время чтение (2-й том «Курса» Ключевского) и принялся с мстительным наслаждением в очередной раз перечитывать лекции про Ивана Грозного – характеристику правления и биографию. Так я читал некоторое время, не обращая внимания на разговор, журчавший на нижних нарах. Книга постепенно опустилась мне на живот, глаза начали слипаться, и я задремал под мирный перестук колес. Сколько продолжался сон – не знаю, но когда вошел в полуфазу и вновь различил потолок купе, меня обеспокоил визгливый дискант старушки Шагинян:
– А я считаю, что он был гений, настоящий великий гений! И многие из нонешних этого совершенно не понимают, особенно молодые! Они вообще все фашисты! Они ничего не знают и не хотят знать! Конечно, и у него, как и у всякого человека, были некоторые заблуждения, но чего они стоят рядом с его великими делами!
– Да-да, вы правы, Мариэтта Сергеевна! Я совершенно с вами согласен! – раздался бархатистый баритон нашего бывшего представителя. – Действительно, молодые ничего не знают и не понимают. Конечно, у него случались отдельные ошибки, но в большинстве своем его действия были абсолютно замечательными. Как раз об этом я пишу сейчас в своей книге. Я во всем стараюсь быть объективным…
В моем полусонном мозгу случилась совершеннейшая аберрация; я все не мог взять в толк – о ком это они: об Иване или еще о ком. Меж тем старушка мирно продолжала:
– Когда я в свое время собиралась издавать мою книгу о Гёте, то они там, в редакции, всячески заставляли меня вставить в текст его известное высказывание о «Фаусте» и «Девушке и смерти». Я считаю и тогда считала эту фразу как раз ошибочной, поэтому я отказалась вставить ее в книгу. И на большом редсовете в издательстве Академии покойный Вавилов, проходя мимо меня, наклонился и сказал: «Мариэтта Сергеевна, не упорствуйте! Они все равно эту фразу вставят!» И они… ее… вставили. А теперь, когда должно выйти повторное издание, они захотели ее выбросить! Но уж этого-то я ни за что не разрешу сделать.
Объект собеседования уточнился. Оно продолжалось все в том же панегирическом наклонении. Я чувствовал, что еще немного – и я просто взорвусь от ярости. Не желая, чтоб это случилось, тихонько спустился с полки и начал надевать ботинки. Как раз в этот момент мое лицо оказалось прямо над микрофоном слухового аппарата.
– Вы уходите? – спросила старушка, протягивая мне микрофон прямо в рот.
И тут бес меня попутал: вместо того чтобы промолчать и удалиться, я не выдержал и, глядя ей прямо в очки, почти заорал сдавленным тенором:
– Я больше не могу этого слышать! Этот человек стоил нашей стране шестьдесят миллионов жизней!
Лишь замолк, старушка мгновенно сделалась малиново-красной и дико заверещала:
– Фашист!! Фашист!! Негодяй!! Ступай сейчас же вон отсюда!! Вон!! Фашист!! Фаш… – Она начала захлебываться и как-то странно заводить глаза. Я счел за благо поскорее выскочить в коридор, слава Богу, оба ботинка уже были надеты.
Около самого купе, с выражением живейшего интереса на лице, стоял Илья Зверев, тут же спросивший:
– Что это ты ей такое сказал, от чего она вопит на весь вагон?
– Да понимаешь, они там Иосифа расхваливали, я не выдержал, сказал кое-что.
– Э-э-э, брось! Плюнь ты на нее и на ее Иосифа! Пойдем ко мне. У меня есть вареная курица. Утешишься, потом в шахматы поиграем.
Съели курицу, поиграли в шахматы… эдак провели часа три. Я затосковал, но потом все же вспомнил, что у меня билет на собственное место, и отправился в логово врага. Как только я откатил дверь, старушка мгновенно завелась:
– Фаш!.. – начала она на высокой ноте, но, по-видимому, тоже сообразила, что у меня билет на верхнюю полку и в этом уже ничего не изменишь…
Я вскарабкался на место.
– Что он делает? – проскрипело внизу.
Вопрос был задан «бывшему представителю», который со своей нижне-диагональной позиции мог меня наблюдать. Тот ответил:
– Он лежит и улыбается.
Наступило молчание. Некоторое время слушали тишину.
Наконец внизу вновь заскрипело:
– А я знаю этого молодого человека…
Она неоднократно встречала меня у Габричевских, а в более ранние годы много раз бывала на моих импровизированных концертах в волошинском доме; она всегда сидела в заднем ряду, протягивая слуховое устройство над головами впереди сидящих.
– Я его знаю. Когда я приеду в Москву, обязательно пойду к Тихону Николаевичу Хренникову и расскажу, какие у него в Союзе молодые композиторы… и т. д. и т. п.
С моей стороны не следовало никакой реакции, и это постепенно накалило старушку. Разъяренно пыхтя, она выскочила в коридор. Послышался бархатный баритон:
– Молодой человек, я понимаю ваш справедливый гнев, но надо все-таки отвечать за достоверность своих слов: скажите, откуда вы взяли цифру шестьдесят миллионов?!
– И вы, именно вы у меня об этом спрашиваете!! – вскричал я. – Это я должен был спросить у вас о ней!!
– Но все же из чего складывается подобная цифра? – успокоительно вопросил «бывший представитель».
Тут меня понесло:
– Что ж, давайте считать. Коллективизация – двадцать миллионов, террор – еще двадцать миллионов, а война – разве не двадцать миллионов?!
– Но почему же на его счет вы относите войну?!
– И это вы, вы у меня спрашиваете?!!
– Но все же?
– Да вам же куда более известно, почему и какое у этой войны было начало, как она продолжалась и какими методами была выиграна!..
Тот не пожелал говорить о войне и предпочел обсудить другую составляющую:
– Однако не все же сидевшие в лагерях погибли!
– Не все! Но в те десять, пятнадцать или двадцать лет, которые они там провели, они были мертвы и для своей страны, и для самих себя. И ведь это миллионы отнюдь не дворников – это были Мандельштамы, Вавиловы и Мейерхольды! – Я дрожал от волнения.
– Однако согласитесь, что цифра, названная вами, немного преувеличена…
– Хорошо… пожалуйста, я готов уступить… Давайте скажем – пятьдесят миллионов, сорок миллионов… наконец, тридцать… Пусть будет один! Один невинно убитый человек – это вас успокоит?!
Однако он не подтвердил возможности успокоения по поводу убийства одного-единственного невинного человека. Разговор все более становился похожим на беседу двух глухих и вскоре иссяк. Я наконец смог вернуться в нормально-лежачее состояние из состояния висения вниз головой.
Появилась старушка. Оглядев пространство купе взором военачальника, оценивающего боевую позицию, она с порога вопросила «бывшего представителя»:
– Ну, что он?
– Мы тут побеседовали с молодым человеком, и он признал, что в полемическом задоре несколько преувеличил цифру. Молодой человек признал также, что не все сидевшие в лагерях погибли…
– Ах-ха, – примирительно начала Мариэтта Сергеевна, – ну тогда я ему дам… компоту.
Через некоторое время около моей головы появилась банка, удерживаемая протянутой ввысь ладонью, а в ней компот, сваренный ее дочерью Мирелью. Было широко известно, что все, приготовленное Мирелью, изумительно вкусно. Банка, призывно покачиваясь, плавала вдоль моей полки, но я твердо решил, что ее «сталинского» компота есть не буду… Банка опустилась. Снизу опять донеслось уже знакомое скрипение про оскудение умов, молодежь, Хренникова и предстоящий поход к нему: «Я знаю этого молодого человека, я когда приеду…» Но все это уже потеряло энергию боя и, по-видимому, не было рассчитано на ответные действия…
Утром на московском вокзале Шагинян разговаривала в коридоре вагона со встречавшей ее внучкой. Я протискивался мимо них, держа в каждой руке по чемодану. Встречи было не избежать. Когда мое лицо поравнялось с микрофоном, старушка одарила меня сияющим взором (по-видимому, она за ночь сообразила, что вчерашняя баталия происходила не в 1951-м, а в 1961 году), и, поводя головой из стороны в сторону при каждом слоге, шутливо пролаяла хриплым дискантом: «Гаф! Гаф! Гаф!»
На перроне княжеская фамилия, предводительствуемая котом, ожидала носильщика. Его сиятельство, протянув мне на прощание ладонь Дона Базилио, напутствовал оперным басом:
– Вступайте-вступайте!.. Не пожалеете!
Манеж
Я увидел его издали. Он сидел на балконе второго этажа, чуть сгорбленный, тяжелым взглядом смотрел куда-то вниз и курил.
Не заходя в первый этаж, я поднялся по лестнице до уровня второго и перелез через перила на балкон. Мы не виделись несколько месяцев, но он даже не улыбнулся, здороваясь, и сразу спросил: «Ну, что там было, рассказывай!» (Он сильно, по-дворянски, грассировал, часто в середине слов произносил «в» вместо «л».)
Два часа со всеми известными мне подробностями я рассказывал об утреннем визите в Манеж сильно взнервленного главы государства. О грубостях, плевках на полотна, обзывании непонравившихся или непонятных художников «падарасами» и тому подобном.
Он слушал не перебивая и только в особо поражающих случаях издавал свое любимое «да ну-у-у!».
Я был огорчен еще и по собственным обстоятельствам: круги от этого посещения расходились широко и захлопывали форточки не только в изобразительном, но и в других искусствах. С надеждами надо было вновь расстаться неизвестно на какие сроки. Окончив рассказ, я спросил его:
– Объясните мне, как мы дошли до жизни такой?! Как это все вообще стало возможным?! Я задавал этот вопрос нескольким людям старшего поколения, которых вполне уважаю, и ни один не дал мне вразумительного ответа!
– Ну, голубчик, откуда же я знаю! Я, наверное, тоже не смогу ответить!
– Нет-нет! Уверен, что вы, именно вы, сможете мне это объяснить!
– Ну хорошо… Дай я подумаю полторы минуты.
Он ненадолго задумался и затем медленно произнес:
– Я думаю, что история человечества есть прежде всего история культуры. Надеюсь, что и ты так думаешь… Мне совершенно неинтересно, разбил Рамзес Второй хеттов или не разбил, – меня интересуют египетские живопись, скульптура и лирическая поэзия. Мне абсолютно наплевать на походы Наполеона – меня интересуют Давид и Жерико. И если ты со мной согласен, то необходимо заявить следующее: в результате различных исторических коллизий, которые сейчас обсуждать не место и не время, случилось так, что наша страна лишилась культуры, а, следовательно, выпала из истории… А раз она выпала из истории, но все же существует, она исторический нонсенс. А если она исторический нонсенс, то здесь может произойти все что угодно…
Кто ему помогает?
Четвертый час ночи. Я сижу в маленькой комнате в Юрмале. Изредка по дальней улице прошумит машина, да из соседнего номера иногда чуть доносятся голоса. Эти звуки только углубляют тишину и покой. Мне хорошо, потому что я стараюсь восстановить в памяти этого удивительного, гениального человека, и сам процесс вспоминания того, как воспринимал его в тридцать два года, делает меня счастливым.
Перед тем как Алов и Наумов предложили нам с женой познакомиться с ним, я успел дважды посмотреть «8½» и сразу понял, что впервые вижу фильм, равный великим образцам из других искусств.
Мою жену, хорошо говорившую по-французски, не пришлось уговаривать поработать переводчиком, но я просил своих режиссеров меня с ним не знакомить, так как совершенно не представлял себе, что смог бы ему сказать. Я хотел просто подышать с ним одним воздухом, разглядеть его и поснимать восьмимиллиметровой камерой. Снял я очень многое, но, к несчастью, не сам проявил пленку, а отдал ее в государственную кинолабораторию, и весь этот уникальный материал безвозвратно погиб. Помню, что на этой пленке рядом с ним должны были быть более всего С. Герасимов, смотревший на него влюбленными глазами, не отходившие от него Алов и Наумов и М. Хуциев, к которому он относился с нежностью, часто обнимал за плечи и называл Марленино.
Я видел, как он разговаривает, как слушает собеседника и на что обращает внимание. Очень хорошо помню его голову – голову римского императора: огромный черный глаз, большой правильный нос с горбинкой, мощный череп.
Он был идеальным слушателем. Он внимал словам собеседника с ангельским терпением, с неизменной, физически ощутимой доброжелательностью и при этом ни на мгновение не прекращал работать. Он не только слушал говорящего, но и тщательно его изучал: очень быстро рассматривал и, видимо, запоминал лицо, жесты, детали одежды и манеру поведения.
Меня поразило и то, как точно он чувствовал, где и в какой момент находится Мазина. Он как бы водил ее спиной. Он мог беседовать с кем-то в углу комнаты, стоя лицом к стене, и если ему надо было обратиться к Мазине, то, произнося: «Джульетта!», он разворачивался на совершенно точное количество градусов, чтобы ее увидеть, и в любой фестивальной толкотне и гомоне она тут же откликалась. Было заметно, что их отношения – отношения глубоко любящих людей.
Сейчас уже не помню, сколько международных премий он получил до Московского фестиваля – не то 270, не то 280, но, наблюдая ажиотаж, который всякий раз вызывало его появление на людях, он как-то сказал моей жене: «Мне так странно видеть всю эту суету и шум вокруг меня, я ведь так плохо учился в школе!» – у него как будто сохранился мне самому хорошо знакомый комплекс неполноценности двоечника.
Жена пересказала мне фрагмент из одного интервью Феллини, которое ей довелось переводить:
Вопрос . А как вы относитесь к Антониони?
Ответ . О-о-о! Это великий художник. Я с нетерпением ожидаю каждую новую его работу и не бываю разочарован. Я считаю, что мы делаем одно дело, но думаю, что ему работать в два раза тяжелее, чем мне.
Вопрос . Но почему же?
Ответ . Потому что он работает один, а я вдвоем.
Вопрос . Вы имеете в виду Джульетту Мазину? Ответ . О нет! Я имею в виду Бога!..
Флоренция
В 1964 году из поездки по Италии возвратился бывший студент Габричевского.
Александр Георгиевич захотел услышать рассказ о флорентийских впечатлениях и попросил его приехать. В то время еще мало кто ездил за границу, и когда путешественник появился, в доме уже находились несколько близких Александру Георгиевичу людей, которые тоже хотели послушать рассказ.
Габричевский спросил.
– От какого места вы начали осмотр?
– Мы вылезли из автобуса за галереей Уффици.
– И куда вы пошли, к набережной Арно или от нее?
– Мы пошли от реки.
– Вы повернули налево, сделали шестьдесят шагов и вышли на площадь Синьории. Направо было Палаццо Веккьо, которое начинал строить Арнольфо ди Камбио, а перед ним «Давид» Микеланджело. Когда вы дошли до фонтана «Бьянконе» работы Амманати, вы повернули налево или направо?
– Мы пошли направо. – Озадаченный рассказчик начал превращаться в слушателя.
– По узкой улочке вы дошли до Пьяцца ди Сан-Фиренце и увидели палаццо Борджелло. А вы имели возможность заходить куда-либо внутрь?
– Нет, у нас было время только для того, чтобы быстро пробежаться по улицам.
– Тогда тебе будет интересно узнать, что «Итальянский» дворик нашего Музея изящных искусств скопирован с внутреннего двора палаццо Борджелло. По площади Сан-Фиренце вы обогнули квартал с изящной колокольней Бадии, и вас по короткой улице Алигьери подвели к дому Данте.
Александр Георгиевич был замечательный собеседник. Он всегда внимательно, не перебивая, слушал, когда ему что-либо говорили, и то, что сейчас он взял инициативу рассказа на себя, показалось присутствующим чем-то очень непривычным.
Бывший студент, подтверждая правильность маршрута, кивал головой.
– Вы прошли еще два квартала и, миновав здание музея естественной истории, вышли на Пьяцца дель Дуомо к собору Санта-Мария дель Фьоре с куполом Брунеллески. Вы пошли вдоль собора налево, миновали его колокольню и, чуть отклонившись вправо, вышли к Баптистерию с его изумительными дверями Андреа Пизано и Гиберти. Потом, пройдя на запад еще квартал, вы остановились у капеллы Медичи…
Потрясенные, мы молчали.
Говорил он со значительно большими подробностями, чем я в состоянии вспомнить. Говорил как-то торопливо, словно опасался не успеть сказать все это; и так, квартал за кварталом, он провел нас по трехчасовому маршруту вокруг центра Флоренции, перевел по мосту Сан-Тринита на левый берег Арно, подвел ко дворцу Питти и через Понте Веккьо возвратил к галерее Уффици, где надо было садиться в автобус…
Александр Георгиевич на мгновение замолчал, потом продолжил:
– А ведь я никогда там не был… Я долго жил в Германии, был в Париже и Лондоне… Я думал, что всегда успею увидеть Италию. Не успел… И теперь уже не увижу.
Он опустил голову. По его лицу текли слезы.
Генрих Нейгауз и «Новая венская школа»
Мне не повезло, я поздно узнал Генриха Густавовича – через два года после окончания консерватории.
В этом учебном заведении как-то так сложились нравы, что общение между различными факультетами почти не имело места, и занятия педагогов иных факультетов композиторами, как правило, не посещались.
Познакомился я с Генрихом Густавовичем в двадцать пять лет в коктебельском доме Габричевских. К сожалению, это знакомство не переросло в такие же дружеские, а с моей стороны почтительно-дружеские отношения, которые у меня случились с А. Г. Габричевским. По-видимому, возрастной барьер и поистине грандиозное почитание мною Нейгауза-музыканта сделали такие отношения невозможными. К тому же я легко представлял себе многих людей, которые, ни секунды не сомневаясь, поспешили бы вступить с Генрихом Густавовичем в такого рода отношения.