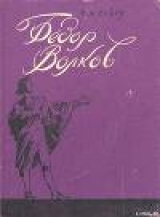
Текст книги "Фёдор Волков.Сказ о первом российского театра актёре."
Автор книги: Николай Север
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 6 страниц)
* * *
Театр на траур по Елизавете закрыт. Пустота, безделье… Мотонис с Козицким все шепчутся. Фёдор злится:
– Что шепчетесь, что?
– Сущего града не имам, – смеётся Козицкий, – грядущего взыскуем![33]33
Сущего града не имам – грядущего взыскуем (слав.) – религиозное выражение о бренности настоящей земной жизни и ожидании иной, будущей, обещанной св. писанием. В данном случае Козицкий иносказательно говорит о царствовании Петра III и ожидании прихода к власти Екатерины II.
[Закрыть]
– По всему видать. Тож мне дворяне!.. Вам Пётр Третий вольность дворянскую дал, а вы…
Смеется уже и Мотонис:
– А мы, дворяне, решили статую его из чистого золота водрузить. На благодарную память потомству. Не согласился: золоту, мол, примененье другое мною может быть сыскано. Мне на ваших потомков плевать! Тем всё и кончилось.
– По Сеньке и шапка! Вам такого и надо!
Притих вдруг Козицкий:
– Фёдор, меня государыня через Григорья Орлова тебя упредить велела… Сказать просила: «Труднейшая изо всех наук – умение ждать!»
Потеплело у Фёдора на душе, – стало быть, верно, не всё пропало!
* * *
Императрица Екатерина, философией вооружась, в суровое одиночество укрылась. Высокомерие Воронцовой куда ни шло – всё вспомнится в своё время, но то, что её, Екатерину, император в пренебреженье постыдном даже при иностранных министрах содержит, – не переносно! Дворянская гвардия затаилась, молчит – тоже ждёт своего времени.
Старик фельдмаршал Румянцев из Пруссии в сенат отписал: «Опасаюсь, не сделалось бы скоро бунта и возмущения, особливо от огорченной до крайности гвардии..»
Опоздал фельдмаршал, примчал письмо фельдъегерь в столицу, не застал уже на престоле Петра. Сенатский чиновник, приняв пакет, на нем написал: «За ненадобностью в делах не числить». И сунул его куда-то в чулан… Привыкли ли все, время такое ли было, но свергли Петра без шума, без крика, без топота экскадронов гвардейских. Так… мимоходом.
Друзей у Екатерины в эти дни было немало. Ждали от неё многого. В честь восшествия на престол российский и колокольный звон, и пальба из пушек, и манифест! В нём новая царица всем объявить на Петра велела: «Законы в государстве все пренебрёг!» – и за это, дескать, наказан.
Пётра в Ропшу. В караул к нему братьев Орловых. Петр любовницу свою Воронцову требует, с караулом без просыпу пьёт да в карты сражается…
Фёдор с друзьями рядом с Екатериной в эти дни… Та всем понравиться хочет, добра и приветлива с виду.
– Вы, господин актёр, поможете нам в эти скучные дни… Театральные увеселения, балеты, народные гулянья, смех, песни должны озарить столицу. Народ, который поёт, худа не думает!
Панин, что стоял рядом, поспешил добавить услужливо:
– Скорбных лиц, ваше величество, ни на улицах, ни в домах не приметишь… Майор голштинской роты, осерчав на вас, богу душу отдал. Так и о том сказывая, все только смеются.
Бестужев, что при том разговоре был, левый глаз прищурил:
– Примечайте, ваше величество, смеются! Весёлый переворот!
Екатерина ему пальцем чуть погрозила и к Волкову:
– Ну, сударь мой, помните: отныне попечение о театре во многом от вас зависит!
Вышел Фёдор в тот день из дворца надежд полон.
Размолвка, словно дым, что в ненастье по полю стелется с костра позабытого… Кому с него радость!.. Пошёл Фёдор к Сумарокову. Больше года не виделись… У Александра Петровича жизнь поломалась: царей поучал – ни одну из цариц научить не смог, только в немилость впал и осмеянье. Театр любил – от театра отставлен. Одна неурядь и отрава! Пошёл к нему Фёдор, глядит – ни семьи, ни дома, ни друга! Сидит давненько небритый, в помятом шлафроке, водку пьет: «Ты!» По сизой щеке слеза.
– Я, Александр Петрович!
– Ну, что же, садись!
Словно вчера лишь виделись. Рюмку подвинул:
– Пей! Как это ты! Теперь ко мне никто ни ногой… брезгуют!.. Один Елозин «не сумлевается», со мной остался. На театре пьесы мои идут, а я в нищете, забвенье. России бесчестия не сделал, а вот… – голову на руки уронил, смотрит Федор: волосы поседели…
…В доме тишь, на улице тишь… В Летнем саду фейерверки кинули в небо… Зелёными огнями на миг комнату осветило. И опять всё то же: свеча на столе догорает, голые стены, стол… Встал Александр Петрович у двери, кликнул: «Алёнушка, квасу!» К столу подошёл, молчит…
Алёнка вошла, потупясь, строгая, как всегда, как прежде, красивая, молча на стол штоф с квасом поставила.
– Здравствуй, Алёнушка… не забыла?
– Что вы, сударь, Фёдор Григорьевич. Как можно! От вас, кроме добра, ничего не видала!
Сумароков голову к ней повернул: —Ты что… глаза заплаканы… негоже. Эх, русская красота, – ей и слёзы к лицу.
– Нехорошо ты молвил, Александр Петрович! – нахмурился Фёдор. – Горе человека не красит…
– Ну, сказал, не подумавши… Алёнушка у меня как из нянькиных сказок царевна Несмеяна…
– Какой уж тут смех!
Сумароков к стене отвернулся, молчит. Фёдор Алёнку за руку взял:
– Ну что, Алёнушка… Давно не видал тебя… Вон как всё изменилось… Кончились навек твои канарейкины услуги…
– Кончились, Фёдор Григорьевич, с того и началось горькое моё…
– Как это?
– Сдохла канарейка… не знаю с чего….
– Это я её… – забормотал Сумароков, – жалеючи Алёнку.
Алёнка скатерти край перебирает… молчит…
– Ну… не таись, сказывай!
– Разгневались барыня… меня в деревню… В бане нетопленой всю зиму держали… С собаками гончими… Что ж, хоть они ночами грели!.. Потом стал приказчик приставать… Житья не стало! Озлясь, как-то цепом по рукам… Вон они, пальцы-то, как чужие…
Стоном вырвалось у Фёдора:
– Будь он проклят, какие руки сгубил!
– Ну, узнали Александр Петрович… Приказчика согнали, а мне вольную дали… Ко времени поспели… Старая барыня померла, а их самих через месяц за долги таскать да мучить начали. Все от них отреклись… Осталась я с ним горе мыкать… День за днём… Пить они начали… А я… как беспалая… Плачу, еле иглу держу… Спаса нерукотворного чернью веду, серебром травлёным, были бы руки послушней, а так… И вот ещё – в глазах у него, у Спаса, нехорошо… Не кроткие, а ненавистные, горькие… Тернии в крови, лик светлый, всё хорошо, а глаза…
– А может, Алёнка, теперь и надобно такого… Кончишь труд, – ты мне его отдари!… Для попов он такой ненадобен, а мне помогою будет.
Очнулся Александр Петрович:
– Елозин где?
– Не вернулся ещё. В самом деле, куда запропал? Не случилось ли чего… – обеспокоилась Алёнка.
Засмеялся Фёдор:
– Что с ним сделается! Выпьет, сам шуму прибавит.
– Не знаете, какой он… Как написал мне барин вольную, Семён Кузьмич своей охотой, пешком, за сорок вёрст понёс её в деревню, к старосте… Всю ночь шёл, а мороз был, не приведи господи! Вот ведь какой! А что я ему.
«Ай да Елозин! – задумался Фёдор. – Вот живёшь с человеком и не ведаешь, что у него на душе, – золото ли, пластом осевшее, то ли тина, где щуки прячутся…»
– Пойду я… не забывайте нас. Мне что… я всей жизнью приучена, а им, – кивнула Алёнка на Сумарокова, – впервые так…
Проводил взглядом Фёдор Алёнку:
«Когда же время придёт, опомнятся, разглядят тебя…»
Не в обычае Фёдора было тоской голову долго туманить…
– Ну вот, Александр Петрович, слушай… Слушать можешь? Такое дело… сказывал мне Панин, близка коронация, на театре готовиться надобно.
– Наслышан об этом, – поднял голову Сумароков, – ну, что же… Трагедии, феерии, оперные спектакли…
– Ничего такого не надобно, всё на площадь выносить нужно!.. Тысячи людей привлечь… Маскарад карнавальный… Шутки, смех, балагуры, кукольники!
– Балаганная забава! Ты что… в уме?
– Испугался, Александр Петрович, а вдруг Буало[34]34
Никола Буало-Депрео (1636–1711) – выдающийся поэт французского классицизма. Вошёл в историю литературы как «законодатель» французского классицизма, его признанный вождь и теоретик.
[Закрыть] обидится? Брось, богаче нас с тобой народ. У меня перед глазами улицы, народом заполненные. В санях, в упряжках, в бубенцах, с гамом великим, смехом, звоном волокут за собой на суд народный мздоимство, крючкотворство, невежество, рабство, спесь… чёрта в ступе! Вот это театр!
– Наговорил… Буйства у тебя, как у Алёшки Орлова… Разум восславить должно! Новое царствование надежду вселяет всегда… мудрость! Торжество богини Минервы![35]35
Минерва (римск.) – богиня мудрости.
[Закрыть]
– Опять! – рассердился Фёдор. – Эк тебя на огонь тянет… По-русски сказать правда да кривда, а ты… Минерва! А впрочем, называй, как хочешь.
– Времени мало.
– А ты исподволь… частями мне на Москву шли… Фимиаму кури помене, – от него только копоть. Ну… как?
– Чёрт с ним. А мы с тобой опять вместе, Фёдор! А?
Задвигался, зашумел Сумароков. Понял Фёдор: к жизни человека вновь отогрел.
– Я на Москву Якова Шуйского да Елозина с собой прихвачу. Елозин у меня в секретарях походит, пока трезвый будет… Да вот ещё, – тихо добавил Фёдор, – Алёнку со мной отпусти, надобность в ней, в мастерице такой, будет большая.
Вошла, встала в дверях Алёнка, слушает.
– Алёнушка, поехала бы ты со мной на Москву? Нужда в тебе будет театру.
– Как Александр Петрович…
Приподнялся из-за стола Сумароков… глядит на обоих. Махнул рукой – эх! Опять опустился, поник. На помине легок появился Елозин.
– Хорош, – поглядел на него Фёдор, – на театре траур, а ты сам к погребенью готов…
– За благополучное восшествие на престол… Солдатство… Ну и мы, значит… прочие… У виноторговцев напитки ихние в разор пустили, за упокой новопреставленного раба божьего государя Петра Фёдоровича!
– Что! – вскинулись Фёдор и Сумароков.
– Господи! – прошептала Алёнка.
– Сейчас по улицам объявляют… От гема… геморо… идальных колик… раз и в одночасье!..
* * *
Ночь над столицей, а на улицах толпы народа. Множество конных гвардейцев с людьми разных чинов и сословий балагурят вполголоса: «Царство ему небесное, – земного уже не видать!»
Екатерина стоит у окна, на площадь дворцовую смотрит. Записку, что утром примчал к ней гвардеец из Ропши, не глядя, рукой расправляет…
Алёшка Орлов, видать, перепуган и пьян был, – можно ли так на бумажном клочке, вкривь и вкось нацарапать самой императрице: «Не успели мы их разнять, а его уж не стало… Сами не помним, что делали…»
– Алексей Петрович!..
– Слушаю, ваше величество!
– Что ж, Алексей Петрович. На всё воля божья… Привезти покойного в лавру. А дальше как быть, не знаю…
Догадлив Бестужев:
– Сенат, ваше величество, спокойствия вашего ради, умолять будет вас не присутствовать при погребении…
– Ну… если сенат умоляет, тогда…
С того дня все без сговора забыли Петра. Словно и не было. Так, снился полгода. Долго ли сны надо помнить? Забыл и Фёдор, в Екатерину поверя…
«Новое царствование всегда надежду вселяет», – сказывал Сумароков.
А Фёдору вспомнилось: ночь в декабре, Сапронов-солдат… Не иначе, как снова присягу принял.
* * *
Екатерина в те дни с теми, кто в трудное время был с ней заодно. Даже идя в сенат, свиту себе взяла особую – молодую, услужливую, даже драчливую. Сенаторы, коты старые, осевшие, грузные, помнящие не одну царицу, смотрят: эта весёлая и всех тех цариц умней!
«С мнением моего сената я согласна всегда, ежели оно согласно с моим!» – этак в первый же день котов за ушами погладила.
Садясь в карету, Фёдора подозвала: «Ну, сударь, вам взять ордер и на Москву ехать. Всё к будущему представлению в наш приезд туда изготовить из всего, что за лучшее сами почтёте».
Фёдор простор крыльям и мыслям своим почуял: «Что за лучшее сам почту!»
* * *
Лежит Фёдор, не спит. Руки закинул за голову, спор ведёт не то сам с собой, не то с кем иным.
– Балаган, говоришь? Пуглив ты, пиит российский, погоди, я тебя тормошить начну!
«ТОРЖЕСТВУЮЩАЯ МИНЕРВА»
Всё началось с того дня, когда Екатерина, сведав о бунтах крестьян на многих заводах, первый указ подписала. Видать, тут согласна была окончательно с мненьем котов сенатских, перепуганных насмерть.
«Прежде всего привести крестьян в рабское послушание и усмирить!.. Можно смирять и оружием. Исполнив сие, опросить заводчиков, каким притеснениям они подвергали крестьян. Этим заслушаны будут обе стороны…»
«Заслушать» обе стороны отправлен был с войском князь Александр Вяземский. Три дня не прошло, указы, что вот уже двадцать лет писались, опять подтвердила: «Помещику полную власть над своими людьми иметь: хочет в Сибирь сослать – ссылай, с зачетом, конечно, их в рекрута». (Даже в этом выгоду себе не просмотрели дворяне!) А там опять: «Не смеет мужик судиться с барином-дворянином!»
А в беседах и бровью не поведёт: «Противно христианской вере и справедливости делать людей рабами. Все люди свободными рождены. Рабство есть прямая потеря – оно убивает промышленность, искусства, науки…»
Раскрылись у Фёдора глаза, словно прогнулся: «Дурак! Актёрки не разглядел. Это же Тартюф мольеровский взгромоздился на русский трон!»
В смятении и горечи надежд обманутых уехал Фёдор в Москву…
* * *
Только выбрались из перелеска на полевую дорогу, что шла по шумящему морю ржи, цепляясь усиками знойных стеблей да васильками-цветками за ступицы, глядь, нагнала фельдъегерьская тройка. Тут, конечно, без брани не обойтись. Хоть браниться охоты нет – жара, сушь нетерпимая, – а всё ж пререкались.
Партикулярный возок в сторону, в рожь подался, казенная бричка, бубенцом прогулькав, вперёд протиснулась, ямщик вожжами взмахнул, – умчалась «казённая надобность»!
И вот поди ж ты! В сумке курьерской царский указ на Москву везли… Да не один! В одном так и написано: «3а отличную и всем нашим верноподданным известную службу и усердие к нам… пожаловали мы Фёдора да Григория Волковых в дворяне и обоим семьсот душ». Зря фельдъегерь напослед, на возок оглянувшись, кулаком погрозил и крепкое слово добавил.
И Фёдору невдомёк – в ответ ему тоже вымолвил. Пыль осела, слова вместе с пылью легли. Опять тишь да зной, только жаворонок в небе звенит…
Едет Фёдор, о царице не думает. Думает о своём: «…Конечно, и раньше, бывало, особливо на масляной, – забав народных не счесть… Тут же иное. Всё воедино собрать, чтобы каждая песня, каждое слово к месту шло. Масок наделать… Петрович, конечно, за своих Аполлонов да Венер с купидонами уцепится, а мы между ними исконных наших целовальников, крючкотворцев, обдирал да кривосудов сунем. Хорошо бы от итальянцев Арлекина да Панталона взять, – неплохие ребята. Опять же гудошников, балалаечников да плясунов… Всех озорников по Москве собрать. Всех, сколько ни есть!»
Едет Фёдор, глаза закрыл, будто дремлет, а одно за другим наперегон в мыслях бежит… Рожь шелестит, над конями оводы вьются, деготком от ямщицких сапог тянет, жаворонки без умолку поют…
* * *
– Дворянство тебе и 700 душ… а ты что же, сударь, брезгуешь?
– Актеру Волкову, ваше сиятельство, надобен трагедийный меч, а именитая дворянская шпага ему ни к чему!
Бестужев согнутым пальцем по табакерке постукал, щепоть табака нюхнул.
– Вольные мысли, сударь мой, при дворе формы пристойной требуют и немалого береженья! Благоволения сильных обычно кратки бывают…
– Знаю, ваше сиятельство. На память один народ бережлив. А я перед ним в долгу!
Незаметно вдруг подошла Екатерина:
– Э, сударь, мечтатели вряд ли в надобность государству… Если бы я слушала их, мне пришлось бы всё перевернуть в моей империи вверх дном…
– Простите, ваше величество, не ведал о присутствии вашем…
– Пустяки… Теперь, сударь, иные дни наступили… Я жду от вас многих услуг… Идите!
«Услугой моей довольна ли будешь…» – подумал Фёдор, склонясь в поклоне…
– Алексей Петрович, – задумалась императрица, – а ну-ка дай табачку! – Холёные пальцы щепоть табаку из бестужевской табакерки взяли. – Хороший табак у тебя, Алексей Петрович… А Волкова, что ж… дело его о дворянстве изъять до времени… Сейчас из него дворянин плохой станется.
* * *
В герольдмейстерской конторе секретарь Железовский на известии от сената «О пожаловании в российские дворяне Фёдора и Григория Волковых» в тот день приписал: «Здесь не числить. Нерешенное. Вынуто оное, взято в Герольдию».
Пожевал секретарь губами, вздохнул и теми ж словами: «Сейчас из него дворянин, видать, плохой станется!»
* * *
С утра до вечера с одного конца Москвы на другой меряет вёрсты Фёдор. Завёл лошадёнку ледащую, но терпеливую, – неутомимо машет облезлым хвостом от Салтыкова моста, по Немецкой да по обеим Басманным, а там по Мясницкой до Никольского моста, мимо Ильинских ворот по Покровке, до старой Басманной, аж до головинского её величества дома… Вон он, конь какой!
Фёдор сидит на нём, плащом не согретый, – ветры в ту зиму откуда взялись: начиная с утра и до сумерек дуют. Где остановку делать, где что расставить, где проходить народу – обдумать всё надо.
Не мало «карнавальных служащих», как их тогда окрестили, – комедиантов, студентов, певчих из разносчиков, фабричных, полковых музыкантов, гудошников, балалаечников. Пять тысяч простого, весёлого люда надо было сыскать, обучить, взбодрить. Яков Шумский охрип, Елозин день и ночь переписывает «хоральные песни», господу богу молится, – когда ж всё кончится! А Фёдор с утра на коня – и по Москве. Чёртов Яшка обоим, коню и Фёдору, вслед прозвище кричит несуразное… доволен!
И надо же так. Елозину полицмейстер велел по пути карнавальному все кабаки отмечать и о том майору Григорову доложить, с тем чтобы объявление сделать: «Всем в карнавальных костюмах в день карнавала доступу в кабаки совсем не будет!» Ходил Кузьмич от кабака к кабаку. Записывал. Четырнадцать кабаков насчитал, заскучал, в Петербург стал проситься.
* * *
Хороши вышли хоры фабричные! Фёдор сам к песням музыку сочинял, а иной раз на старый народный лад сводил. Случалось, и поспорят с кем из певцов, каждый привык к своему. Пошумят разноголосицей, полдня на уговор уйдёт, а к вечеру договорятся. Нет лучше песни на свете, от души сложенной. Недаром потом и года прошли, а народ пел по московским фабричным окраинам Фёдора песни.
А уж скоморошьи придумки! Яшка смотрит на ребят, хохочет: «Вас бы с придворного театра всем войском российским гнали! Из пушек по вас палить Сиверс бы начал!»
С сентября по январь сколько труда положено! А ведь народ подневольный, днями работою скованный. Словно хлынуло вдруг половодье, берега изломав, поруша… Не похабная песня кабацкая, не угар беспросветный – будто свежим ветром с полей огромных дохнуло.
– Ты, Кузьмич, кабаки не считай! – смеются чумазые, бородатые, хилые в нищете своей. – С ними нам жить опосля…
– Должность такая поручена, – разводит руками Кузьмич. – На меня одного надежда!
Счастливая жизнь пришла в эти месяцы к Волкову. Сумароков в своей обиде утих, совесть пиита что ль в нем проснулась, каждый день шлет с «казенной надобностью» хоральные песни да прибаутки… Фёдор Хераскова из университета привлёк да и сам сочинять принялся – про синицу, что, из-за моря вернувшись, рассказывала, какие порядки за морем:
Всё там превратно на свете
За морем почётные люди
Шеи назад не загибают,
Люди от них не погибают.
В землю денег за морем не прячут,
С крестьян там кожи не сдирают,
Деревень на карты там не ставят,
За морем людьми не торгуют…
Полицмейстер, пробу заслушав, вдруг закричал:
– Сии мысли вольные петь не дозволю!
Шуйский вступился:
– Так то ж у них, ваше благородие, за морем-океаном… У нас же другое, свое, свычное!
– А… – удивилась власть, – это у них!… Ну тогда давай погромче, а то народ озяб.
Хохочет Фёдор:
– Студен день нынче. Видать, полицмейстер до самого мозга промёрз!
Государыня, на Москву приехав, мало этой потехой народной беспокоилась. Во дворцовом театре свои приближённые тож отличились – трагедию Сумарокова «Гамлет» сыграли. Гамлет – сам Григорий Орлов, что к тому времени впал в фавор окончательный, Офелия – графиня Шувалова. Даже паж Гамлетов – графиня девица Воронцова.
«Гамлет – Григорий Орлов?! – плюётся Фёдор. – Ему бы Клавдием быть!»
* * *
В головинском доме царицы, что на Яузе, играли «Семиру» Сумарокова. Любимая роль в ней была у Фёдора: Оскольд поднимает народ свой против поработителя. Поражение терпит. Олегом в темницу кинут. Смелый дух преодолевает оковы… Бежит Оскольд из темницы. Снова на битву зовет народ свой и погибает в борьбе неравной. Лучше, дороже не было роли для Фёдора!
Вышел Фёдор из дворца в морозную ночь. Луна. Тишина глубокая. Занесённые снегом кусты над Яузой. Не ведал Фёдор в тот час одного: последний раз в тот вечер был он на русском театре. Последний занавес для него опустился, отгородив навсегда от всего!..
* * *
А на завтра, 30 января 1763 года, по Москве объявили «Торжественный карнавальный машкарад. «Торжествующая Минерва» – изобретение и распоряжение Ф. Волкова».
Старик Андрей Болотов, будучи в Москве в те дни, записал:
«Вся Москва собралась на улицах, где простиралось сие маскарадное шествие. И все так этим польстились, что долгое время не могли позабыть, а песни и голоса так всем полюбились, что долгое время и несколько лет сряду увеселялся ими народ, заставливая вновь их петь фабричных, которые употреблены были в помянутые хоры и научены песням этим…»[36]36
Цитируется по книге «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков», т. II, 1871, стр. 389.
[Закрыть]
День в феврале недолог. Сумерки сразу в ночь идут. Факелами смоляными да плошками сальными карнавал осветили – чад, гарь, гром погремушек, округ хохот да песни!..

Вот в трех санях хор пьяниц, пьянёхоньких, осмеянию преданных, с бубенцами везут:
Двоеные водки, водки сткляницы,
О Бахус, о Бахус, горький пьяница,
Отечеству служим мы более всех
И более всех
Достойны утех…
Под пир, пир, пир, дон-дон-дон,
Прочие службы вздор!
Чучело тащат в комзоле, расшитом золотой канителью, вкруг чучела (понимай – Обман) цыганы, цыганки, колдуны и колдуньи и несколько дьяволов…
К ябеде приказной устремлен догадкой,
Правду гонит люто крючкотворец гадкий,
Тал-лал-ла-ла-ра-ра
И плуту он пара…
Из саней рогожей укрытое пальцами с когтями в стороны тянется Мздоимство…
Взятки в жизни – красота,
Слаще мёда и сота…
Так-то крючкотворец мелит,
Так на взятки крючком целит…
И надпись: «Здесь людей опутывают сетями и их стравливают!»
За санями разные «пакостники» сыплют семя крапивное и чертополох.
Вертопрахи бойчее тройки везут карету, а в ней сидит обезьяна. Для них, вертопрахов, обезьяна и наказ и указ! На обезьяну собаки из подворотни лают. А позади свинья идёт, на свиную шею венок ароматный из роз надет. Нюхает свинья розы – всем довольная.
Спесь хвост павлиний на две сажени за собой волочит. Рожа дурная, хоть в зеркало не глядись! Слепая фортуна тащится, за ней картежники – бубновый, трефовый да червонный хлапы,[37]37
Хлап – карта холоп, валет (см. Толковый словарь В. Даля, т. 1, стр. 549).
[Закрыть] король и краля.
За ними герои верхами, заимодавцы пешком, философы на запятках вельможных саней, хор отроков и отроковиц.
А сверх того – торжествующая Минерва в колеснице, убранной лаврами и разными листьями, музыки хор, дикари с ассистентами, флейтисты и барабанщики.
Не в праздности и огорченьи
Прекрасны юноши цветут,
Премудрости богини тут,
Минерва их крепит в ученьи!
А сзади всего Панталон – пустохват и говорун, метлою березовой след за всем заметает. В народе шепот и удивление: «Минерва! Вот она, значит, какая… блудлива, видать, была!»
* * *
А день студён. Ветер. Плащ у Фёдора, хоть по-зимнему куньим мехом подбит, а всё ж сиротский – не греет. В заботах и распоряжении – всё нараспашку.
Иззябся Фёдор, еле губами шевелит – затемно из дома выехал на коньке-горбунке своём, за полночь воротился. Кузьмич – с того что возьмёшь – обогрелся! Тринадцать кабаков стороной обошёл, в четырнадцатом стал проповедовать… Яшка на дню раза три забегал Алёнку наведать, расскажет ей второпях где, что, как – и бежать.
Алёнкины руки на всё сгодились, маски сатиров лепить помогала, венки виноградные Вакху плела, Минервино платье в богатый узор обряжала… Опять же по дому – всех напоить, накормить надобно. Яшка смеётся, жалеючи:
– Ты у нас, как в сказке, сестрица Алёнушка… Дал тебе бог троих братьев – два ничего, а третий пьяница да суфлёр к тому же…
Кузьмич молчит, глаза скромно потупил.
– Все хороши, – улыбается Алёнка…
Так вот и жили в те дни – славно и задушевно…
А беда, что по улице шляется старухой бездомной, никем не примеченная к дому пришла, на крыльцо взобралась, на всех трёх ступенях расселась, клюку рядом поставила, рукой голову подпёрла, задумалась, уходить не собирается… Ветер по улице снежок по земле, словно играючи, в стружки свивает… Собачий лай издали гасит…
* * *
Алёнка нагар со свечей сальных сняла, тихонько за собой дверь притворила. Ушла в свою горницу, легла, сном забылась… Может, и снилось что, да всё тишина в себе потаила.
Не спит Фёдор. В голове шум – словно не стих ещё звон да крик карнавальный вокруг, словно всё едет и едет на коньке своём средь толпы озорной, полюбившейся навсегда… Кузьмич вернулся домой всех позднее. Напроповедовался насквозь!
С постели Фёдор голос подал: «Кузьмич, дай-ка воды… душно-то как».
Голову уронил на подушку, глаза закрыл. Очнулся лишь через три недели. Как прожил их, знали только Кузьмич, да Алёнка, да Яшка… Сам ничего не помнил, не знал… И потянулись дни – один другого длиннее и горше… За окном уж капель застучала, Алёнка вчера ветку вербы с улицы принесла. Держит веточку Фёдор – давние вёсны свои в памяти перебирает.
Кузьмич не отходит, горем своим таясь от больного…
– Кузьмич, что лекарь сказал? Правду говори!
Заплакал Кузьмич:
– Дурак твой лекарь, я его на порог пускать не буду!
– Не будешь… – задумался Фёдор. Ветку вербы к щеке прижал. – Какое нынче число?.. Четвёртое?! И месяц – апрель уже?
– Выходит…
– Давно-то как…
– Ты… слышишь… не думай ни о чём… Лежи, хворай себе на здоровье. Алёнка сейчас сбитень на липовом меду варит… пропотеешь… уснешь… Все как рукой…
– Ладно, Кузьмич, ладно. Почитай мне вслух чего… На репетициях от твоего голоса меня всегда в сон клонило…
Взял книгу Кузьмич, поглядел на заглавный лист, прочёл: «Цари мудрые и воинственные одинаково знамениты».
– Не надо… от царей один бред в голове. Дай-ка сбитню глоток.
– Сейчас принесу, – дошёл Кузьмич до двери, не удержался, всхлипнул: – Что людям скажу… не уберег, не удержал!
– Ничего, Кузьмич… в трагедиях помирать трудней, а так вот… просто!
Вернулся Кузьмич к Фёдору:
– Поправишься, пойдем с тобой на вербную на Красную площадь… Народу там в те дни бывает! Свечи затеплят… Ладонями огоньки прикрывают, по домам несут… А на улице весна… Грачи прилетели…
Фёдор на Кузьмича смотрит, шепчет:
– Грачи… Гнездовье на берёзах вить начнут… гомону будет! – Потом словно очнулся, горницу оглядел: – Убери со стены Минерву-то… Это всё уже… там… позади…
Снял Кузьмич со стены афишу «Торжествующая Минерва», свернул, унёс…
Алёнка вошла, к изголовью подсела.
– Сбитню горячего выпейте, Фёдор Григорьич, легче будет…
– Потом, потом… Слушай, Алёнушка… Тишина-то какая! Зарёю на Волге такая тишина. Слово шепотом молвишь – на том берегу слышат. В такую тишину, говорят, колокола льют… Плавильщики над рудой стоят молча, дыханье тая… А серебра добавлять – так округ по улицам солому стелют, чтобы чей звук не дошёл до руды, голос колокола тем не рушил… Может, неправда, а хороша!..
– Хороша, – шепчет Алёнка.
– В ростовском соборе главный колокол назван Большим Сысоем, этакий мужик в две тыщи пуд… Ласковый, октава… – Задумался Фёдор, что-то припоминая: – «Спаса»-то кончила?
– Кончила, Фёдор Григорьевич… Поправитесь – отдарю.
– Спасибо… Идти в театр тебе надобно! Ежели не умру, помогу… И Александру Петровичу скажи… завещал, мол, мне путь! Молода ты ещё… красива… Не только лицом… что лицо! Душа твоя, израненная, избитая, всё ещё светла и нежна, вон как апрель за окном…
– Фёдор Григорьевич… сказать вам стыдилась… глупая. Татьяна Михайловна мне…
Чуть улыбнулся Фёдор:
– А… вон оно что. Ну и дурень же я… Умна Троепольская, не проглядела тебя для театра, как я… А актёрка она какая, Алёнушка… Слушай, учись!
Замолк Фёдор, в окно глядит, о своём потаённом думает…
– Роль-то какую учила?
– Ильмену, Фёдор Григорьевич.
– Яков Шуйский ведал про то?
– Ведал… Скрывал от вас по просьбе моей. Он мне за Трувора читал… Только смешной уж очень… Какой там Трувор. Его Татьяна Михайловна два раза вон выгоняла… Он старается, про страсть свою сказывает, а выходит… смешно.
– Алёнка, глянь мне в глаза! – Отвернулась Алёнка… – Ну, впервые вижу наконец-то Несмеяна-царевна улыбнулась!
Яков Шумский в дверь сунулся.
– Входи, входи… Трувор несчастный!
Засмеялся Яков:
– Знаешь?
– Знаю.
– Ну вот, – облегчённо вздохнул Шумский, – и Александр Петрович знает, стало быть, всё хорошо теперь будет.
Склонилась Алёнка над изголовьем, слеза на подушку упала:
– Всё хорошо!
– Ладно, идите… Может, усну. – Остался Фёдор один. Дремлет. За окном капель вперебой, словно стая воробьев подоконницу обстукивает…
– Эка Сысой Большой гудит: иду… ид-д-д-у!
* * *
По всей земле весна! Буйным половодьем рек, зелёным дымком берегов, теплеющими далями отдохнувших полей, небом, в котором из-за сине-моря птицы летят…
Розовый отсвет апрельской зари на последнем снегу, на лужах, что на ночь ледком укрылись. Ветра отшумели в назначенный срок. Тишина.
Алёнка стоит у окна, зарёй зацелованная, зарёй, как невеста, убранная, шепчет: «Спросят дети отцов своих: а кто были они, наши первые актеры? И расскажут им о нас, посмеясь и поплача…»
ПРИМЕЧАНИЯ
* * *
Иллюстрации воспроизведены по книгам «История русского театра» под редакцией В.В. Каллаша и Н.Е. Эфроса, т. 1, М., 1914, изд. «Объединение» и «Ф.Г. Волков и русский театр его времени», изд. Академии наук СССР, М., 1953. Из тех же источников частично заимствованы и примечания к иллюстрациям.







