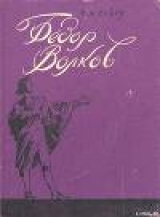
Текст книги "Фёдор Волков.Сказ о первом российского театра актёре."
Автор книги: Николай Север
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 6 страниц)
ПЕРВЫЙ РУССКОГО ТЕАТРА АКТЁР
Став на придворном театре «первым актером», Фёдор иной раз только за голову хватался. Вся жизнь на свой, на особый лад при дворе.
Царица сидит трагедию слушает, да вдруг во весь голос: «В малом покое стол для ломбера поставить»! Тут Синаву на полуслове умолкать надобно. Молчать положено, пока голос императрицы по залу слышен. Пётр на трагедию с собакой приходит. В особливо трогательных местах собаке на хвост башмаком давит – та воет, округ всем от того смешно. Ну, это, конечно, когда государыни нет.
Екатерина садится всегда поодаль, либо с княгиней Дашковой, либо с канцлером, стариком Бестужевым. Нравится Екатерина Фёдору величавым покоем своим, умным взглядом внимательных глаз.
Вчера комедиантов, идущих по залу, к себе подозвала, доброе слово об игре их молвила. Мольеровскую комедию готовить присоветовала.
Пётр подбежал: «Я и собака ждать вас устали, ваше высочество! О тебе, сударь, – взъерепенился вдруг на Фёдора, – наслышан от графа, что ты из заводчиков уволился для театра. Сие есть глупость зазорная!»
– Для людей из подлого звания и дерзость к тому же, ваше высочество, – поддержал его Сиверс, собачке за ушами почёсывая.
– В заводских делах комедиантов и без меня немало, в комедийных же делах, ваше высочество, хочу первым заводчиком быть!
Екатерина к Петру повернулась:
– Науки и искусства, ваше высочество, к приукрашению будущей державы вашей служат…
– Знаю только одну науку – военные экзерциции! И в ней одного профессора – друга и брата моего короля прусского Фридриха!
– Философы и поэты, ваше высочество, со времен древнего Рима нужны были империи, – напомнила Екатерина.
– Слыхал только про одного филозофа, Лейбница! Дурацкую персону сию Фридрих объявил человеком никуда не годным, не способным даже стоять на часах! Имею удовольствие покинуть вас!
Уходя, Пётр опять вскинулся, уже на Лёшку Попова;
– А ты… ты… тоже дурацкая персона!
– Так точно, ваше высочество, как во дворец попал, так в дураках и остался!
– То-то! – И, ухватив за ошейник борзую, Пётр выбежал вон. Екатерина молча погрозила Лёшке пальцем, – смотри, мол, добалагуришься!
Склонился Фёдор перед Екатериной:
– Благодарю вас за защиту искусства нашего. Скромные дарования умножат славу монарха просвещенного!
– Ого, сударь! Волтеровы мысли охотно живут в вашей русской голове. – Задумалась.
– Науки… искусства!.. Всё это неотделимо от государственного разумения. Театр – школа народная, и государыня в ней старшая учительница. Она одна отвечает за нравы народные… Его высочество далёк от искусства, но сам актёр неплохой… Как думаешь ты, Алексей Петрович?
Канцлер из табакерки щепоть табака достал, нюхнул, глаз прищурил: «Хорошему комедианту память нужна, а великий князь, ваше высочество, на многое непамятлив!»
Повернулась Екатерина к Фёдору:
– Ну, а вы, господин актёр, что вы скажете?
– Не смею судить, ваше высочество, одно скажу: в нашем народе издавна любим театр шутовской, кукольный, но и в нём герой, Петрушкою именуемый, о России плохо не думает!
– Неплохое примечание для венеценосцев, ваше высочество, – усмехнулся Бестужев.
– Ступайте, сударь… благодарю вас! – Поглядела вслед уходящему Фёдору. – Умен и не робок… Ты приглядись к нему, Алексей Петрович. Такие люди нам надобны!
А Фёдор шёл по двору задумавшись: «Театр – школа народная…»
* * *
На чужой лад склоняемая Русь оставалась Русью! Дворянство негодовало: мастера и умельцы ко многому сысканы были, за счёт казны государства дворянского обучены, – благодарности ждать было бы надобно. Как бы не так! Рыбацкий сын в самой академии противу всех пошёл, дворянин захудалый в трагедиях «деспотичество» низвергать принялся, актёр, привезенный бог весть откуда в Петербург, мужичество в поведении обнаруживает!
Нет, недовольно дворянство… Взять придворный театр. Против Версаля в роскоши и упоении – недостача!.. Недовольна царица – такой ей театр не надобен… пускай будет лучше там… за стенами дворца…
И не знала царица, что время само пришло к ней во дворец, за руку царскую взяв, подпись поставить заставило!
«…Августа 30 дня сего 1756 году. Учредить русский для представлений трагедий и комедий театр. И для того отдать Головкинский каменный дом,[27]27
Дом Головкина был отдан под театр в 1752 году, за четыре года до указа 1756 года (об основании русского театра). В 1752–1753 годах он именовался «российским комедиальным домом» (см. объявления в «С.-Петербургских ведомостях», 1752, № 75, 87; 1753, № 10 и др.). В указе царицы от 30 августа 1756 года и в определении сената от 1 октября 1756 года снова повторяется указание о передаче головкинского дома под учреждаемый русский театр.
[Закрыть] что на Васильевском острову близ кадетского дома.
…Поручить тот театр в дирекцию бригадиру Александру Сумарокову, о чём от двора дать реестр!..»
Прочтя указ государыни, Сумароков за свой принялся:
«Во исполнение Е. И. В. высочайшего указа, сим представляю, чтоб благоволено было обучающихся в корпусе певчих и ярославцев ко мне прислать для определения в комедианты, ибо они к тому надобны.
Бригадир Александр Сумароков».
– Без Шумского как же на русском театре быть?!
– Да ты что! Говорю, у него это… самая… борода!
Улыбнулся Фёдор, хитрую, безбородую рожицу Яшки припомнив.
– Ты, Александр Петрович, в бороде, как в лесу, заблудился.
Взял всё же Сумароков Якова на театр.
Указ указом, а с первого же дня трудности и «замешательства» на театре начались.
«Дерзаю уведомить вас, что в четверг представлению на российском театре быть никак нельзя, ради того, что у Трувора платья нет никакова. А другой драмы, твердя «Синава и Трувора», никто не вытвердил…»
Сумарков из-за стола не встает, пишет и пишет… «С первых же дней на театре одно нищество и сиротство…»
Елозин Семён Кузьмич у другого стола приютился. Вкруг него гусиные перья, натыканные в песочницу, – кажется, что эти самые перья из него самого.
– Читай, что ты там нацарапал!
«Потребна к русскому театру для комедианток мадам и ежели сыщется желающая быть при оном театре мадамою, та б явилась у бригадира и русского театра директора Сумарокова».
Не дослушал его Александр Петрович, опять за своё:
– Директором быть на театре – одно несчастье! А просить, чтобы я был отрешён от театра, не буду, покамест с ума не сойду!
Заглянул второпях Яков:
– Надобен в чём, Александр Петрович?..
– Доспел бы в типографию, Яша, ошибки афишные исправить. Готова бумага, Елозин?
– Не сумлевайтесь!
– Потрудись, Яша.
– Какой тут труд. Ну, побегу!.. – А бежать через Неву, ветрище на ней. Плащик на Яшке рыбьим мехом подбит… ничего, побежал…
Утих Александр Петрович, у замерзшего окна встал, задумался о своём.
Кузьмич из-за перьев своих выбрался, трость от стены за стол убрал, к нему подошёл:
– Ваше превосходительство!
– Ну, что ещё?..
– Осмелюсь… милости прошу… не гневайтесь только. Возьмите меня на театр!
– Ты как… здоров? Или ещё… со вчерашнего?!
– Не сумлевайтесь, ваше превосходительство… Пьесы ваши осьмой год счастье имею переписывать… Больше половины наизусть знаю. Пользу принесу, если меня в подсказчики… В актеры стар уж, а к театру словно запой у меня. Так я… в подсказчики…
Словно в забвение впал Сумароков. Молчит Елозин, ждёт, когда сызнова можно просить.
Наконец тихо вымолвил Александр Петрович:
– Сие по-французски именуется суфлёр, что также обозначает – человек, тяжко дышащий.
– Не сумлевайтесь, дохну! Судите сами, Шумский Яков Данилыч непамятлив уродился, Фёдор Григорьевич горяч, такое порой молвит… А многие по неграмотности до конфуза доходят… Стало быть, надобен подсказчик для вящего украшения!
Поглядел на него Сумароков, словно впервые увидел:
– Вон ты какой! И давно такое намеренье?
– С «Хорева», ваше превосходительство! Тогда его в корпусе впервые играли. Я за кулисою слушал. Господин Бекетов, умираючи, все слова перезабыл… А когда я им из-за стены подсказал, так они от удивления перед смертью приподнялись и долго глядели на стену, за которою я укрытие имел. Потом всё-таки сказали и померли. Ещ лучше, чем в другие разы…
– Так… Говоришь, к театру вроде запой у тебя? – Смотрит в окно Сумароков. – Ежели бы вместо театра я пошел в отставку, чин мне бы дали. При отставке всем чин датся. От тех, которые обошли меня в чине и в жалованье, далеко я остался. А трудностей и преогорчительных дней!.. Всё одно – иного пути не мыслю! И выходит, что ты, малый, по разуму своему мне, российскому Расину, сродни приходишься. – Вдруг закричал, затопал ногами, руками замахал, табак рассыпал. – Ну и ступай! К чёрту на рога! На театр! Назад с него не уйдёшь, мельпоменовский пасынок! К старости лихом не поминай!
– Ваше превосходительство… не сумлевайтесь, эх!.. – И с голубых глаз дождевыми каплями слёзы…
* * *
Комедиантов в покоях того же головкинского дома для жительства поместили, а тут такое, что и спать недосуг. Фёдору роли твердить надобно, других выправлять, и о платьях думать, и шишаки для воинов сделать, мало ли дел! Яков смеётся: «Как есть у тебя во дворе, в сарайке… Помнишь, «Грешника» городили?»
И правду сказать, не ярославцы бы, гадай там – выжил бы русский театр или нет?.. Дитя народить – ещё не всё: выкормить, вырастить надо! А тут все заботы указом и кончились…
Опять же Александр Петрович в дворянском своём положении брезговал многим: «Я не купец, не подъячий, что-бы деньги подсчитывать. Мне к сочинительству надо мысли иметь, я пиит и к тому же офицер, мне о перьях страусовых да о камардуке травчатом на платье актёрам думать совсем не пристало!»
Понимает Фёдор: не в перьях страусовых дело… О придворном театре тоскует Расин наш российский. Как же – из дворца да на Васильевский, в грязь да темь! Ни живописцев придворных, ни освещения приличного… Сальные свечи да плошки вонючие. Тоже… театр!
И верно, стал хлопотать у государыни Сумароков дозволенья хоть в иные дни играть на придворном театре. Дозволила: по четвергам, ежели будут праздными от французских комедий и опер. Повеселел Александр Петрович, комедию даже писать принялся.
* * *

Приняли на театр дансерок, а помимо того, в «Ведомостях» объявление о надобности в комедиантках сделали. Со стороны и актеры новые пришли; Иван Соколов, Михаил Чулков, Михаил Попов.[28]28
Чулков Михаил Дмитриевич (1734–1792) – выдающийся представитель нашей художественной прозы до Карамзина. Был актёром театра, во главе которого стояли А.П. Сумароков и Ф.Г. Волков.
Попов Михаил Васильевич (год рождения неизвестен, умер около 1790 года) – выходец из городских демократических низов. Учился в Московском университете. Служил актером в театре, руководимом А.П. Сумароковым и Ф.Г. Волковым; родоначальник жанра русской комической оперы. Автор комической оперы «Анюта», которой, по словам современников, «принадлежало первенство в сём роде стихотворений на нашем языке». В пьесе сказалось сочувственное внимание и интерес к народу и любовь к народно-песенному творчеству. Музыка к «Анюте» написана выдающимся русским композитором второй половины XVIII века Евстигнеем Фоминым.
[Закрыть] Скажи вот… словно сама судьба всех на театр вела. За уходом Елозина в ноябре был определён на театр в должности писчика и копииста Александр Аблесимов.[29]29
Аблесимов Александр Онисимович (ум. 1783 г.) – крупный драматург XVIII века, автор пьесы «Мельник, колдун, обманщик и сват». В 1756 году Аблесимов был определён в новоучреждённый российский театр на должность копииста, где переписывал набело для Сумарокова его произведения. Там Аблесимов пристрастился к литературе. Ни одна пьеса XVIII века, за исключением комедии Фонвизина «Недоросль», не пользовалась такой шумной и долговечной популярностью, как пьеса «Мельник, колдун, обманщик и сват», на основе которой Е. Фоминым создана комическая опера того же названия.
[Закрыть] Кто знал, что пригрет тем самым будущий сочинитель любимых комедий русских. Может, у Фёдора глаз был особый?!
Елозин пришёл на театр, словно годы на нём прожил. Табуретку с собой из дома принёс. Поставил в сторонке, сел на неё, красным фуляром голову повязал от простуды… Из-за пазухи пьесу достал, носом шмыгнул, трагедию забубнил, зачитал. И так хорошо стало всем и удобно, словно Кузьмич с них тяжесть какую великую снял… Так полста лет и просидел на своем табурете первый русский суфлёр.
Богаче душой со дня на день становился Фёдор. Понял, что главное сделано – глыба тысячелетняя от ключа-родника отвалена! Зазвенела струёй вода – холодна, чиста! Ковш из бересты рядом в траве-мураве положен, черпай да пей в зной, в духоту нестерпимую…
Пусть десятки сиверсов не раз копытами скотскими родничок затемнят, порушат, – ничего, теперь он дорогу нашёл – течёт, журчит, хлопочет. Новые друзья пришли рядом с Фёдором стали – на доброе слово не скупы, в беде вместе брови хмурят.
Через Сумарокова стал Фёдор знаком и дружен до конца дней своих с Козицким Григорьем Васильевичем,[30]30
Козицкий Григорий Васильевич (1724–1775) – один из ближайших друзей Ф.Г. Волкова. Русский писатель и переводчик. Окончил Киевскую духовную семинарию. Слушал лекции в Лейпцигском университете. В 1768 году назначен статс-секретарем Екатерины II. Числился издателем фактически руководимого Екатериной II сатирического журнала «Всякая всячина» (1769–1770), в котором выступал в защиту «улыбательной» псевдо-сатиры, противостоящей сатирическому журналу Н.И. Новикова. Знаток древних и новых языков, зарекомендовал себя хорошим переводчиком. Им переведён на латинский язык «Наказ» Екатерины II и три научных трактата М.В. Ломоносова с латинского на русский, а также «Метаморфозы» Овидия (1772). См. БСЭ, т. 21, а также Ежегодник Императорских театров 1889–1900 гг.).
[Закрыть] что в академии философию и словесность преподавал и многие книги на русский язык переводил. «Обымчивый разумом» Фёдор многим ему обязан. Козицкий его с Мотонисом[31]31
Мотонис Николай Николаевич – литератор и журналист, сотрудник издаваемого Сумароковым первого частного русского журнала «Трудолюбивая пчела». Был известен своим резким антикрепостническим выступлением в Комиссии для составления нового уложения. Близкий друг Ф.Г. Волкова (см. Ф.Г. Волков и русский театр его времени. Изд. Академии наук СССР, М., 1953, стр. 44–45.)
[Закрыть] свёл и сдружил. Тот, Николай Николаевич, нрава был горячего и прямого, неукротимого в правде своей.
Козицкий рассказывал про него Фёдору. «Однажды дворянские вертопрахи заспорили. Один другому толкует: «Дворянство должно по чину даваться: достиг по службе чина – будь дворянин». Другой в крик: «Подлому сословию ни по службе, ни по чинам дворянства давать нельзя!»
Вскочил Мотонис, глаза горят: «Подлого нет у меня никого! Земледелец, мещанин, дворянин – всякий из них честен и знатен трудами своими… Подлы только те, что имеют дурные свойства, производят дела, законам противные!»
Ох, тут поднялось!.. Словно медведь без огляда лапу свою в гнездо осиное сунул!»
Сказывая это, Козицкий смеялся, лукаво посматривая на Мотониса… Нрава веселого был Григорий Васильевич, не унывал никогда. Мотонис молчал, молчал и сам хохотать принялся…
Как-то вечером шли вдоль Невы-реки. Мотонис обо всём спорит посмеиваясь, а то в досаде через край, перекипая, плещется… Козицкий смеётся:
– Философы больше надеются, нежели желают. Как, Фёдор, а?
– Из меня философ плох, – голова курчава.
Копыта по мостовой зацокали, ражий молодец конной гвардии проскакал, рукой махнул…
– Алёшка Орлов. Этот «в люди» выйдет. Красив сатана!
– Конь его красит, – опять закипел Мотонис, – вон она грива да хвост какой!
– Быть при дворе в фаворе ему!
– Кому, коню?!
– Какому коню… Алешке!
Не вытерпел Фёдор:
Всадника хвалят хорош молодец,
Хвалят иные хорош жеребец!
Полно, не спорьте и конь и детина
Оба красивы, да оба скотина!
Ну и хохотали же… И они и луна – бесстыжая баба, – речи скоромные слушая, рот до ушей растянула.
– Молодец, Фёдор! Из тебя не только актер великий, но и пиит, может статься, когда получится!
– И будет всех знатных пиитов у нас на Руси трое!
– Как это так?
Смеётся Козицкий:
– Вчера Сумароков к Баркову Ивану Семёновичу, что в академии не званьем, а больше похабством в виршах своих знаменит, пристал: «Кто в России лучший пиит?» Ну, думаю, льстя ему, скажет Иван Семенович: «Сумароков!» Как же бы не так! Первый в России пиит, говорит, – Ломоносов, а второй буду я. Сумароков и слов не сыскал на ответ, ушёл. И опять хохотали и шли, держась за руки, вдоль реки Невы, молодые да озорные…
* * *
Несмотря на все трудности, неустанной заботою Ломоносова университет в Москве учредили. В Москве, где, как говорил Александр Петрович, «улицы аршина на три невежеством вымощены». Года ещё не прошло, русский театр в столице открыли, а ещё год миновал – Академию художеств…
Сиверсы разные в крик: «Немцы-де русских во всём превзошли, надобно русским ума у них одолжаться, свой в пренебрежении кинув!»
Фёдор смеётся: «Якова из лаптей добротных русских так и не вытряхнули. Сам, когда надо будет, переобуется…
Богатства в народе край непочатый! А в пустых головах никому надобности нет – пусть гудят на ветру».
Херасков да Мелиссино, те, что когда-то сами, в корпусе обучаясь, в «трагедии» выступали, назначены были ведать университетом московским. В нём театр открыли да, мало того, актерскому ремеслу обучать студентов начали наряду с другими науками. Время другое настало! Яков наседает на Фёдора: «Расин нам как прошлогодний снег надобен, а Мольер вроде нас с тобой – не во дворцах начинал, а по ярмаркам. Вот бы его к нам – наделали б дел!» Ну и «взяли» Мольера в ватагу. У подъезда карет не видать, в креслах звезд да париков не приметить. Сиятельные в операх да на французской комедии, без них веселей. Озорно грохочет народ бесчиновный, глядя на плутни Скапена. Клянет Тартюфа почём зря, на Журдена плюёт – эка невидаль в дворянах ходить!
* * *
Наслышав об актерках университетских, повелела царица лучших привезти в Санкт-Петербург.
Средь московских умельцев актёрка театра университетского – Татьяна Михайловна Троепольская.
Кончили пьесу, занавес опустили, а Фёдор стоит, словно всё ещё голос далёкий слушает… Очнулся, смотрит – сидит девчонка изнеможенная, обессиленная, словно птица, насмерть подбитая. Авдотья у ног её приютилась, руки ей гладит, плачет несуразно и горько…
Обнял Фёдор Татьяну, поцеловал: здравствуй, наша первая русская актёрка!

* * *
Разноголосица хороша лишь на птичьем базаре, там снегири да пеночки заливаются, скворцы по-своему, щеглы по-особому, канарейки совсем не по-русски стараются. Не понять птичью бестолочь, а хороша! Так то птицы, а тут… Сумароков и Фёдор от разноголосицы меж собой в изнеможенье впадали. Дворянин в крик: «Театр партикулярный – кому он нужен!»
Опять Демаре поминает – хуже этого Фёдору нет ничего. Ну, слово за словом – опять война! Яков сидит доволен, слушает… Передохнёт Александр Петрович, и сызнова всё:
– Я в службе ея величества нахожусь, о театре мыслю не на аршины, как купец, а иною мерою! Я дворянин и офицер, и стихотворец помимо того. Деньги со смотрителей высчитывать бесчестием для себя считаю!
– А ты, Александр Петрович, проси, чтоб на театр всех безденежно пускали. – Засмеялся Фёдор, а Сумароков вдруг стих, взад-вперёд заходил. Табаком обсыпаясь, за стол сел, подумал, начал пером по бумаге скрипеть, прошение сочинять… Один о мечте своей так, словно в шутку, сказал: плохо ль было бы! Другой по-другому всё понял: «Если безденежно, стало быть, от двора, от придворной конторы средства дадут, как на французов да итальянцев. Тем самым станет театр придворным, а не партикулярным, чёрт бы совсем его взял!»
Стал театр содержаться придворной конторой, смотритель безденежно шёл. Одного не учёл Сумароков – придворной конторой граф Сиверс ведал. Ну, стало быть, в «отцы» к театру русскому по должности определили его… Потемнел Фёдор, сведав о том, а Сумароков в неистовстве шумел: «С главным злодеем моим я никак дела иметь не хочу!» Вот тебе и разноголосица!
А дни за днями, как капли дождя за окном, в месяцы, в годы стекались. Трудное наступило для Фёдора время – крылья выросли, а высоты и простору для размаха нет!
* * *
Придворный брадобрей, он же куафер, укрыл голову его сиятельства графа Сиверса париком и, уложив завитки и локоны, как того мода требовала, принялся осыпать их пудрой, на что по тому времени и двух фунтов бывало мало. Трудов и терпения на украшение придворной головы не счесть, однако граф Сиверс то время к пользе государственной употреблял: слушал доклад регистратора придворной конторы.
Фёдор, явившийся тож с утра для просьб о театре, любопытствуя в своей простоте, держался поодаль от облака, поднявшегося над графской головой.
– Плетей вам дать, вот что! – сипело его сиятельство на регистратора. – Государыня повелела к посажению в головкинский дом котов набрать до трехсот… а вы что?! Опять на комедии крыса государыню в забвенье ввела!
– Ваше сиятельство, вот как перед богом, исполнено!
Только коты те, рационом своим – говядиной да бараниной – довольные, к крысам чувств не высказывают.
– Опять дураки! Котам говядину и баранину не отпускать. Вместо того впредь давать дичь – рябчиков и тетеревей! Ступай ко всем чертям! – Его сиятельство, отмаявшись, расположился в кресле, уже на Фёдора осердясь:
– Слыхал? Коты и те к вольнодумству склонность выказывают! И ты туда же… Назойливость твоя утомляет!
– Что делать, ваше сиятельство… Карнавал до последних дней масленицы прошёл без представлений от русского театра за неимением платья…
– Вздор! Господа чужеземные министры и прочие большие персоны предпочитают французский театр и оперу. Тобой недовольны – первый придворный актёр, а несведущ в иноземной поступи и в возвышенности речи, почему и почитаешься некоторыми за мужика.
– Справедливо, ваше сиятельство. Я их за дворян, а они меня за мужика… Что делать, в иных головах пудры на париках больше, чем…
– Вольнодумства, сударь мой, не терплю! – Встал его сиятельство с кресла. – Иду на доклад! Его высочеству великому князю надоели мужчины на театре. Просит указа у государыни, чтобы на сцене не было мужчин, – роли их должны исполнять женщины в мужских костюмах. Жду на это решение государыни.
– Будьте ходатаем за русский театр, ваше сиятельство!
– Русский театр – вздор! Глупая выдумка для развращения народа. На Васильевском острову ваши смотрители – купцы, чиновники, мещане, мужики и как это… подмастерья! У подъезда ни одной кареты… И это театр! Позор!
– Сторона глухая, ваше сиятельство. Какие там кареты. Осенью – грязь непролазная, фонарей нет… темь. Пешком идут… По колено в грязи, а идут…
– Куда идут? Не должны идти! Ступай, братец, впредь поменее надоедай мне с театром…
– Старание приложу, ваше сиятельство! – усмехнулся Фёдор. Вышел от графа, задумался: «Что, братец, российского театра первый актёр, как жить-то будем?»
* * *
В день зимнего Николы гостили у Сумарокова. Беспокойно ту зиму было в столице. Царица, наскуча тревогою о себе, повелела арестовать Бестужева, Елагина, Апраксина, Адаурова и многих других, что близ Екатерины держались.
Пётр, весьма тем довольный, орать принялся: «Катьку эту… в монастырь отправить! Павла тоже куда-нибудь! Женюсь на Воронцовой!»
Даже матушка Елизавета на дурость такую ахнула. Екатерину для разговора вызвала… Ничего, обошлось. А у друзей Екатерины смятенье: дальше что ждать?
Мотонис в угол отсел, скучный стал. Александр Петрович, наказав гостям дожидаться его, к Панину за новостями уехал. Козицкий пришёл, парнишку какого-то с собой привёз. Смеётся: «Ну что, заговорщики? И ты, Фёдор, в нашей компании?.. Э, пустяки… обойдётся! Бестужеву на старости лет в деревне пожить неплохо… Мне Аленку бы… где она?» На другую половину дома прошёл, к матери Сумарокова, вернулся с девушкой крепостной лет семнадцати. Взглянул на неё Фёдор, глаз отвести не может.
А Григорий Козицкий шумит:
– Хвались, хвались новым художеством каким, Алёнушка, красота моя!
– Полно, сударь… скажете тоже!.. Какое художество… так.
– Вот, Евграф, смотри… Я, Алёнушка, Евграфа привёл… Он чуть постарше тебя, а в художествах толк понимает!
Евграф плат, принесённый Алёнкой, по столу расстелил, любуется.
Мотонис тож из угла поднялся, так и замерли все, над столом наклонясь…
Козицкий Фёдору шепчет:
– «Воздух» алтарный в Успенском соборе, дар императрицы, – её работа! Ну, а этот плат куда же отдан будет, Алёнка?
– Не знаю… дело господское… кому-нибудь. – Руки Алёнки плат расправляют нежно, словно прощаясь навек. – Недосуг мне закончить его… к смотрению за канарейкой приставлена… Птица заморская… мало ли что… с ног сбились в услугах ей… Пойду я, сударь, старая барыня гневаться будет….
«Эх, Алёнка, Алёнка, – подумал Фёдор. – Сотни лет дар царицы в соборе хранить, прославляя, будут, а Алёнка свой краткий век крепостной, безымянной рабой проживёт в услугах канарейкиных…»
– О чём задумался, Фёдор?
– Так…
Сумароков вернулся встревоженный, ни о чем не дознавшись у Панина. Тот, из дому выходить опасаясь, сам больше обо всём расспрашивал.
– Сказывал, мной недовольны… Власть, дескать, данную богом, в трагедиях колеблю… Должно полагать, от театра буду отставлен! Не разумеют того, что не монаршью власть низвергаю, а деспота, тирана, его вред государству обличаю.
Вспомнил Фёдор Алёнку, вздохнул:
– В некотором царстве, в некотором государстве…
– А хоть бы у нас, – зашумел, зафыркал Александр Петрович, – да что с тобой говорить… Что, Евграф, как у тебя?
– В Академию художеств определён, Александр Петрович!
– Молодец, Чемесов! Вот, гляди, Фёдор, из дворянства тебе назло таланты идут…
– Ладно, молчу, Александр Петрович. Дай бог теляти волка заесть!
* * *
Улицы в сумерках затерялись. На площади ни души. В дворцовых окнах темно, – значит, не в духе царица, в дальних покоях с одной лампадой сидит… А по дворцовым залам и коридорам, темнотою укрытые, караулы стоят, лай борзых из спальни Петра слушают…
Остановился перед дворцом Фдор: «Театр – школа народная», – вспомнилась вдруг Екатерина, – может, её судьба с судьбой театра связана?.. Что тут в сумерках разберёшь, – ночью все кошки серы!»
* * *
Декабрь шестьдесят первого года был суров и безжалостен. Намело снегу у гранитных углов и стен. Улицей ветер гудит. Нева не застыла, чуть пеленой ледяною сверху укрылась.
Последние дни, часы доживает царица… При двух свечах, что поставлены в беспорядке мыслей прямо на пол, за две комнаты от умирающей, на старчески зыбких ногах, шаркают взад и вперед два старичка – любимцы Петра Первого – знаменитый сенатор и конференц-министр Иван Неплюев и генерал-прокурор князь Шаховский. Старые, тощие, как хищные птицы, двигаются взад и вперед, колебля на стенах огромные тени. У окна, вцепившись пальцами в штофное драпри, замер в бессилии князь Трубецкой. Вот оно, вот… нависла глыбою над головами немилость Петра – будущего императора и самодержца «всея России».
С другой стороны покоя шепчутся Воронцовы: «Петра долой! Екатерину вон из пределов России! Павла на престол, мы регентами при нём!»
К дверям, за которыми гаснет свечою хилою Елизавета, – накрепко караул. К ней – никого!
Пётр, остановленный окриком, только рукой махнул беззаботно и увёл за собой свору борзых да голштинских баронов из проходимцев. Весёлый и довольный, попойку устроил и всю ночь гулял, не заметивши во хмелю ни часа смерти Елизаветы, ни тяжести короны императора русской державы.
Слушая хохот и пьяную брань из покоев Петра, шепталась дворцовая стража. И кто знает, что могло бы случиться в ту ночь, если бы Екатерина, ждать не умея, своей судьбе навстречу сама не пошла.
Вместе с девятнадцатилетней княгиней Дашковой и изнемогшей от страха Олсуфьевой, никем не примеченные, крадучись, вышли из дворца.
Братья Орловы, Григорий да Лешка, коней подготовили… Ветер по улице. Ни огня вокруг, ни души…
– К казармам гвардейским, Григорий!
* * *
Ох, холодна ты, река! За рекою крепость. Поперёк улицы, небу грозя, рогатки. На рогатках фонарь. Под фонарём солдат. Ни о чём не знает солдат. Солдату знать обо всём не положено! Да и к чему – без срока служба солдатская, всё одно: знай не знай – ничем не поможешь…
Как за барами житье было привольное,
Сладко попито, поедено, похожено…
Вволю корушки без хлебушка погложено…
Босиком снегу потоптано…
Спинушка кнутом пообита…
Во солдатушках послужено…
Что в Сибири перебывано…
Кандалами ноги потёрты…
До мозолей душа ссажена…
Подошёл Фёдор к солдату:
– Добрая песня!.. Где научен?
Испугался солдат:
– Кто таков, человек? Что ночью бродишь? Гляди, за караул возьму!
– Ладно, служивый, серчать-то. Не побродяга и не подьячий я… что ж тебе.
– Ночью спать надобно.
– Долга нынче ночь, служивый. Глянешь на реку – холодна! За рекой крепость… Ты тут песней своей…
– Песня что… песней про жизнь свою сказываю.
– Горька доля, служивый?
– Не слаще слёз… В нашем доме всего довольно, наготы и босоты изнавешены мосты, а холоду и голоду – амбары стоят… Вот ты скажи мне, как оно выходит – поп полковой поясняет про святителей наших… Один на столпе всю жизнь простоял, другой в келье своей усердствовал к богу, третий в пустынь от народа подался, и всем им за то венцы мученические и чином навек наградили! И ни одного святого из солдат нету. А жизнь солдатская горше столпа святительского… Выходит, бог солдат не любит!..
– Выходит, так… Давно службу несёшь?
– Не помню, когда начал… Молодой был, без отца и матери… В степи у казаков табуны гонял. Ничего… иногда сыт был… Ну… приходят как-то трое. Один спрашивает: «Ты Сапронов?» – «Эге, говорю, Сапронов». – «И батька твой Сапронов?» – «Эге, говорю, должно, и батька-покойник Сапронов». – «И дед твой Сапронов?» – «Эге, говорю, не иначе, как и дед, царство ему небесное, Сапронов». – «Ну, коли так, вяжите ему руки!» Связали. Выходит, стало быть, какой-то Сапронов лет с полста назад от помещика Куратова убегом жил. Где – неведомо. А по закону и дети его и внуки всё же остались крепости зависимы и при сыске подлежат детям Куратова. А мой ли дед убежал, али какой другой, пёс его знает. Может, чужой мне жизнь загубил… Сдали меня в крепость какому-то Куратову… Эге, думаю, коли верно, что дед мой беглый, я от него не отстану… Только споймали меня. Острог да Сибирь… Потом обратно к барину. Кинулся тогда воли искать в рекрутах… Закон такой был, не могли баре препятствовать… Ну… Сунули в гвардию… Который год служу…
– Хрен редьки не слаще, служивый!
– Зато детей на кабалу не народил. Понимать надо.
Поглядел Фёдор на солдата: «Умница!»
Издрогший звонарь за полночь усмотрел с колокольни: с той стороны фонарём закивали. Свет чуть приметный, озябший… Завтра тысячей свеч окружат отошедшую, а сейчас что – тусклый фонарь на том берегу и всё!.. Снял шапчонку звонарь, перекрестился, за верёвку тронул… Бум-бум-бум!! «Со святыми её упокой матушку Лизавету». Перекрестился и Фёдор на другом берегу, – преставилась царица.
Солдат тоже крестится.
– Царство небесное. Кончился наш ротный… Она у нас в роте капитаном была… – И вдруг шапку оземь: – Кончилась моя присяга! Можа, теперь я вольный!
– Вольный?! Э-эх! Ступай в казарму – на миру и смерть красна, и правда виднее!
– Нет, барин… это ещё подумать надо… Кончилась присяга и стало быть… всё!
– Ступай к ребятам, служба; в одиночку пропадёшь!
Задумался солдат, – ин быть по-твоему! Не помни лихом!
Ушёл солдат, остался Фёдор один. Тоска, ночь, позёмка метёт…
Думает Фёдор, стоя один на ветру: «Сейчас во дворце тишина! Свечи затеплены к панихиде. По углам шепчутся. Мыши грызут железо. А русская земля молчит!» Обрадовался, снова увидя солдата:
– Ну что, служба, назад пришёл?
– За хвонарём… казна всё же… у нас в полку драть здоровы!
* * *
Не «обошлось» Александру Петровичу! От театра указом с насмешкою отставлен был: «Будет статься, имея свободу от должностей, усугубит своё прилежание в сочинениях…» С того дня всё заботы о русском театре легли на Фёдора и Дмитревского… Сумароков в театр ни ногой. Не на царицу в обиде, а на Фёдора и Дмитревского: «Мои труды по театру более, нежели то, что Волков «шишаки» сделал! У Волкова в команде мне быть нельзя… У Дмитревского тож!»
Обо всём позабыл Александр Петрович в дворянском ущербе своём…
* * *
Евграф Чемесов[32]32
Чемесов Евграф Петрович (1737–1765) – выдающийся русский гравёр. Родился в Нижегородской губ. в дворянской семье. С 1759 г. учился гравированию в классе Г.Ф. Шмидта. В 1759–1760 гг. создал отличный портрет Петра I с оригинала Натье. С 1762 г. академик, руководитель граверного класса. Близкий друг Ф.Г. Волкова.
[Закрыть] ближе всех стал Фёдору в эти дни… Придет, сядет к окну, делом своим займётся – рисует. Чёрточки малые одну за другой друг к другу близит. И получается удивительно! Да ещё над Фёдором посмеивается:
– В гравировальном деле терпение надобно как нигде! А ты что в терпении смыслишь, бурелом ты этакий! Вот они, чёрточки-то… Ты их так, а они, рассердясь, тебя раз, они тебя два… стоишь, руками разводишь, – сызнова начинай! Упрямство есть у тебя, а терпенья…
– Я, Евграф, с мальчишества на кулачках бился… Ежели, скажем, мне… раз, да ежели два, да ежели в третий, – с обоих берегов смеяться начнут…
Опять посидят, помолчат, каждый своим занят. И опять…
– Упрям ты, Фёдор… а что с того? Пётр ваш театр не нынче так завтра закроет, а вас всех в солдаты… и поделом! Буду на площадь ходить, на тебя смотреть, как ты артикулы выкидывать станешь…
– Ходи. Художнику всё видеть надобно. Упрямство упрямству рознь! Отчим мой, Фёдор Васильевич, мыльню во дворе строить начал. Лесу свезли, заготовили ладного. Ну и скажи – одно бревно ни туда, ни сюда… Само по себе! А лесу еще прикупить скупость не позволяет. Всунули бревно кое-как… Пойдет отчим в мыльню – плечом или головой обязательно стукнется! Чёрта стал поминать, что с ним отродясь не бывало. В суеверие впал! В мыльню входя, нарочно об дверь или что ударялся, – бревна избежать надеясь… не помогало! А менять бревно теперь уже не из-за скупости – из-за упрямства не захотел. И я, видно, Евграф, бревно, что без размеру втиснуто, переупрямить хочу. А ведь, кажись, разумом бог не обидел.







