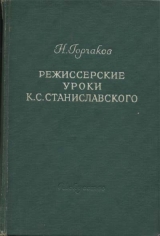
Текст книги "Режиссерские уроки К. С. Станиславского"
Автор книги: Николай Горчаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Я стал в нескольких шагах от него в кулисах, так что мог видеть его, будучи невидимым зрителю. Никогда не забуду я тот серьезный и требовательный взгляд заговорщика, который бросил на меня Станиславский в ту минуту, когда открылся занавес и Завадский объявил о его выступлении. Зал встретил Константина Сергеевича восторженно. Никто в Москве не верил афише, возвещавшей об его участии на нашем вечере-открытии. В последнее время никто не видел Станиславского в концертных выступлениях.
Овация долго не прекращалась. Необычайно величествен и торжествен был Станиславский в эту минуту. Сдержанно, без улыбки поклонившись залу, он сел в кресло. Голова его на секунду склонилась на руку, а затем! Константин Сергеевич бросил взгляд вокруг себя и, как бы прислушиваясь к чему-то внутри себя, очень медленно, на низких глубоких нотах произнес первую строку «Скупого рыцаря».
Константин Сергеевич читал не торопясь, стараясь передать все внутреннее содержание образа Скупого рыцаря и соблюсти всю поэтичность и ритмическую особенность пушкинских строк. Постепенно он «набирал» ритм, и звук его голоса усиливался, поднимался, снова падал вниз и снова доходил до «форте». Жест был очень скупой, только глаза его горели и сверкали из-под нависших, сдвинутых густых бровей. Подсказывать что-либо я, конечно, не мог и не смел: я ведь не знал ни одной его паузы и мог испортить все впечатление, если бы малейший звук моего голоса донесся в зал. Велико поэтому было мое изумление, когда, спускаясь со мной со сцены, Константин Сергеевич сказал со своей неповторимой интонацией:
– Замечательно подсказывали. Я все слышал, а никто ничего не заметил. Я вам очень благодарен.
Думаю, что Константин Сергеевич слышал мой голос в своем воображении, но присутствие мое сообщило ему уверенность в том, что если он что-либо забудет, ему будет немедленно оказана помощь[3]3
Константин Сергеевич всегда боялся за свою память, и впоследствии, когда я был уже в МХАТ и помогал ему возобновлять «Горе от ума», он вспомнил неожиданно этот вечер-концерт, меня в качестве суфлера и попросил, «когда у меня будет время», приходить на спектакль и следить за его текстом из-за кулис, хотя настоящий суфлер сидел на своем месте. Разумеется, я всегда присутствовал на этом спектакле.
[Закрыть]. Но в этот вечер Константин Сергеевич не забыл ни одного слова. Я не берусь судить, как он читал с точки зрения знатоков этого дела. Для нас, молодежи, это было громадное событие само по себе: видеть и слышать К. С. Станиславского в «Скупом рыцаре». Для тех, кто был в зале из наших учителей и представителей московских театров во главе с Вл. И. Немировичем-Данченко и А. И. Южиным, я думаю, это было событием тоже достаточно примечательным и необычным. Все понимали, что это выступление – дань уважения и признательности Станиславского Вахтангову, своему верному и любимому ученику, в знаменательный для Вахтангова день открытия его театра.
В артистической комнате Станиславский сейчас же вспомнил о данном мне обещании разметить «Скупого рыцаря» и, взяв мою книгу, стал со мной немедленно заниматься в буквальном смысле слова законами чтения пушкинских стихов, делая отметки карандашом на книге.
К сожалению для меня, это продолжалось всего несколько минут. Вошедший Вахтангов прервал наше занятие. Он обменялся долгим горячим поцелуем со Станиславским и увел его к себе в кабинет, а у меня на всю жизнь сохранилась память об этой встрече – первый лист «Скупого рыцаря» А. С. Пушкина, размеченный рукой Станиславского.
* * *
Ранней осенью 1922 года театральная Москва провожала Художественный театр в гастрольную поездку в Америку.
Дни стояли еще теплые; Станиславский был в соломенной шляпе и легком пальто. И, вероятно, поэтому все ему говорили одну и ту же фразу: «Не простудитесь, Константин Сергеевич».
Провожали с Белорусского вокзала. Около всех уезжавших мхатовцев – Качалова, Луженого, Леонидова, Книппер-Чеховой, Москвина и других – были свои группы провожающих.
Мы, молодежь осиротевшей Третьей студии MXAT (весной скончался Вахтангов), собрались возле Станиславского. Он посматривал на нас тревожными глазами, перекидывался отрывочными фразами, а потом сказал:
– Больше всего беспокоюсь за вас, студию покойного Евгения Богратионовича. Вы остаетесь без МХАТ, совсем одни. Если что понадобится, обращайтесь прямо к Владимиру Ивановичу. Мы с ним вчера много говорили о вас. Народ вы талантливый, смелый, нужно к этим прекрасным качествам прибавить трудолюбие и выдержку. Насколько я знаю, у вас в студии круговая, крепкая дружба – это очень важно, это самое драгоценное из наследства Вахтангова. Эх, не хочется мне уезжать, да ничего не поделаешь… Не люблю я уезжать из России. Ну, вернемся, тогда поговорим, может быть, поработаем вместе. Пишите мне о своей жизни, о своих планах.
Эта короткая речь была пронизана таким чистым чувством любви к молодежи, к новой поросли молодого советского театра, что у нас слезы сами собой навертывались на глаза.
Мы махали платками, шляпами, долго шли по платформе за уходящим поездом и до самого последнего мгновения видели шляпу Константина Сергеевича в поднятой в знак прощального привета руке.
Грустные, как будто потерявшие что-то свое, близкое, дорогое, расходились мы по домам в этот вечер.
«ОТЦЫ» И «ДЕТИ»Летом 1923 года Третья студия гастролировала в Швеции и Германии. Наши гастроли пользовались большим успехом, но, вследствие валютного кризиса в Германии и катастрофического ежедневного падения марки, при необходимости продавать билеты в театр за пять дней, мы фактически получали в день спектакля одну пятую сбора и, как говорится, «прогорели» так, что не могли из Берлина двинуться в Прагу и Бухарест, как это было намечено.
Обращаться за помощью еще раз в Советское посольство нам не позволяла совесть. При выезде из Москвы нам уже была предоставлена значительная сумма в иностранной валюте, в Стокгольме мы тоже получили крупную сумму от Советского торгпредства на переезд в Германию. И мы одни были виноваты в том, что не сумели обеспечить себя в Берлине достаточно выгодным контрактом. Да и стыдно было за свою самоуверенность, за неуменье вести дело, за неопытность, которая привела к столь печальному концу наших с художественной стороны весьма успешных гастролей.
Руководство студии долго искало выхода и наконец решило обратиться за денежной помощью к Художественному театру, труппа которого после года гастролей в Америке приехала на летний отдых в Германию.
Большинство труппы во главе с Константином Сергеевичем и приехавшим на лето из Москвы лечиться «на водах» Вл. И. Немировичем-Данченко поселилось в дачной местности на берегу озера Варен, в полутора часах езды от Берлина.
Для переговоров с Константином Сергеевичем решили послать меня и Льва Петровича Русланова.
Приехав в Варен и не зная, в каком месте поселка разместились «художественники», мы спросили, где живет «главный актер» Художественного театра, думая, что нам укажут дачу Станиславского, и попали… к В. В. Лужскому.
Оказалось, что все дела «художественников» вел В. В. Лужский: привез их в Варен, нанял всем дачи, устроил общую столовую, вел все денежные расчеты с местными жителями. По этим признакам он у немцев и считался главным.
С В. В. Лужским я был хорошо знаком. После того как он по приглашению Евгения Богратионовича ставил с нами в студии «Жоржа Дандена» Мольера, он иногда звал меня в свой чудесный сад на Арбате и показывал новые растения, полученные им из Ботанического сада.
Это был счастливый случай. Попади мы сразу к Станиславскому с тем рассказом о наших бедствиях, который мы передали В. В. Лужскому, результат мог быть плачевным.
Василий Васильевич помрачнел, слушая нас, но все-таки сейчас же собрался идти к Н. А. Подгорному, К. С. Станиславскому, А. Л. Вишневскому и Вл. И. Немировичу-Данченко. Вместе с ним они составляли дирекцию поездки, и он нам сообщил, что столь важный вопрос может быть решен только всеми вместе.
Нам он велел прийти через два часа, рассказал, где погулять и дешево позавтракать. Не забыл спросить, есть ли у нас деньги на еду. У нас их не было, но из гордости мы, разумеется, в этом не признались.
Через два часа мы вернулись к даче Василия Васильевича и, к нашему изумлению, застали его за накрытым на три прибора столом. Очевидно, мы не убедили его в том, что у нас достаточно денег на завтрак, и добрейший Василий Васильевич приготовил нам «вспомоществование», как он выразился, усаживая нас за стол.
– Вам понадобится много сил, чтобы выслушать все, что приготовился вам высказать К. С., – необходимо подкрепиться, – шутил он.
И уже не шутя рассказал нам, что денег нам дадут, но условия таковы: ни о каком дальнейшем продолжении гастролей наших в Праге и Бухаресте не может быть и речи; мы должны выехать немедленно в Москву в сопровождении представителя дирекции МХАТ. В течение года мы обязуемся вернуть МХАТ деньги из расчета перевода курса доллара на червонец.
Рассказал нам и о том, что ругали нас очень много, но то, что мы обратились за помощью прежде всего во МХАТ, членов дирекции тронуло – значит, есть какая-то внутренняя связь между театром и нами.
А затем К. С. Станиславский велел нам перед отъездом из Варена в 5 часов явиться к нему лично. И просил заранее предупредить нас, что ни о каких благодарностях он слушать не станет, а хочет сказать нам лишь несколько слов.
Мы благодарили Василия Васильевича за помощь нашему театру и за заботу о нас лично: завтрак оказался настоящим обедом.
– А теперь пойдемте, я вас отведу к «самому», – сказал Василий Васильевич.
Ровно в 5 часов мы были у К. С. Станиславского. Он занимал две комнаты на втором этаже небольшой дачи. Внизу жил Н. А. Подгорный.
Сурово встретил нас Константин Сергеевич. Долго молчал перед тем, как начать говорить. Видно, что сам волновался и тщательно обдумывал свои слова.
– Передайте своим товарищам по театру то, что найдете нужным, – вам же я выскажу все, что думаю, – так начал Константин Сергеевич. Голос его прерывался…
– Только не волнуйтесь, Константин Сергеевич, дело прошлое… Все обошлось, – мягко заметил В. В. Лужений.
– Я не могу не волноваться, – отвечал ему Станиславский, – они, вероятно, думают, что это их личное дело – удачно или неудачно прошла их поездка. Они забывают, что на них не только марка МХАТ, но что еще важнее – они являются представителями молодого советского искусства. Они не думают, как бережно нужно охранять эти молодые побеги от всего, что может помешать их росту. Берлин полон белогвардейцами, которые только и ждут, чтобы с нами, советскими артистами, что-нибудь случилось. Они ловят каждый слух, каждую сплетню о нас. А тут лучший московский молодой театр, носящий марку МХАТ, сел по собственной глупости в финансовую лужу. Хорошо, что они еще сообразили обратиться к нам и мы за счет своих сбережений можем их отправить домой, как провинившихся школьников. А если бы нас не было? Если бы кто-нибудь узнал, как глупо они вели свое хозяйство…
Театр – это не только две-три хорошие постановки на сцене. Это не только талантливая труппа. Это безупречно, артистически работающий организм во всех своих частях, в том числе и финансовой.
Спектакли у вас, я верю, остались такими же хорошими, какими я их видел при жизни Евгения Богратионовича. И актеры, наверно, выросли, сформировались, талантов у вас много. Я всех отлично помню: и Щукина, и Басова, и Орочко. А дирекция у вас, значит, никуда не годится, раз не сумела обеспечить вам пусть скромный, но твердый материальный успех.
Вы не научились еще организации театра, а отправились в такое рискованное путешествие. Это легкомыслие и безответственность перед государством. Что я буду отвечать Луначарскому, если он меня спросит, как все это случилось?
Отправляясь в поездку, вы мне не написали ни одного письма, не спросили моего мнения и согласия на гастроли. А теперь просите помочь вам, как напроказившие дети…
– У кого их нет, Константин Сергеевич… – вступился за «детей» Василий Васильевич, воспользовавшись паузой.
– Совершенно верно, – продолжал Константин Сергеевич, – у всех нас дети, свои собственные дети. У вас два сына, Василий Васильевич, у меня Игорь и Кира… И вот они (он сурово взглянул на нас, но взгляд его вдруг смягчился – уж очень, вероятно, понурый вид был у нас) …и они тоже дети Художественного театра. Вы все записываете, что я говорю, – обратился он ко мне, – это хорошо, я ничего не имею против, только повторяю: своим товарищам передайте, что найдете нужным:, а запись, когда перепишите, пришлите мне. Я сейчас взволнован я могу наговорить много лишнего, но это оттого, что я люблю театр и очень беспокоюсь за судьбу нашего нового искусства. Я хотел бы, чтобы вы меня правильно поняли: театр – это не только режиссер, труппа, хорошо поставленная и разыгранная пьеса, – это весь ансамбль театра: директор, администратор и гардеробщики. Только так может развиваться новый театр и нести свою культуру зрителю. Кто нарушает это правило, жестоко расплачивается. Театр – это не игра в бирюльки! Это серьезное занятие, а сейчас и дело народное, государственное… Приедете в Москву – напишите о своих планах… о новых работах. Все подробности о наших взаимоотношениях вам, наверное, Василий Васильевич сообщил. Благодарите его – некоторые члены дирекции считали, что вас надо лишить марки МХАТ… но другие вас отстояли… на год, до нашего возвращения в Москву. Приедем – поговорим обо всем.
Мы встали и простились с Константином Сергеевичем. А у выхода в сад встретили Н. А. Подгорного и Вл. И. Немировича-Данченко.
– Ну что, здорово попало? – встретил нас вопросом Владимир Иванович. – Не послушались моего совета[4]4
Весной в Москве Вл. И. Немирович-Данченко советовал нам не торопиться с поездкой, подождать еще хотя бы год.
[Закрыть] и попали в неприятную историю. Ездить по заграницам не так просто, как кажется. Ну, ничего, все обойдется. Возвращайтесь в Москву, приходите осенью ко мне – обо всем договоримся. – И он крепко пожал нам руки.
Весной 1922 года, когда еще был жив Е. Б. Вахтангов, уже несколько месяцев не покидавший постели, в одно из воскресений на утренний спектакль (шли чеховские одноактные пьесы) к нам в студию неожиданно пришел Константин Сергеевич. Не помню точно повод, по которому) он пришел: быть может, у него было ощущение, что мы, ученики Евгения Богратионовича, тяжело переживая болезнь своего учителя, чувствуем себя одинокими; быть может, хотел посмотреть рядовой спектакль, так как наш театр носил наименование Третьей студии Художественного театра, и Художественный театр отвечал за нас.
Он посмотрел спектакль, остался доволен, поговорил со всеми нами и собрался идти домой. Я попросил разрешения проводить его. В тот год я только что окончил школу при театре и должен был начать свою первую режиссерскую работу (по совету Евгения Богратионовича, работу над инсценировкой повести Диккенса «Битва жизни»). Естественно, что возможность провести с Константином Сергеевичем лишние полчаса была для меня чрезвычайно привлекательна. Константин Сергеевич сказал:
– Мне необходимо пойти попрощаться с Айседорой Дункан. Она уезжает во Францию. Проводите меня к ней.
Мы пришли к Айседоре Дункан на улицу Кропоткина, в особняк, где она жила и где помещалась школа ее имени. Я присутствовал при этом свидании и в течение пятнадцати минут наблюдал за разговором К. С. Станиславского и А. Дункан. Говорили они по-французски. Долго, очень по-дружески прощались в передней…
Потом мы пошли по Гоголевскому бульвару. К. С. расспрашивал о наших делах в театре, как мы собираемся дальше работать и жить. На бульваре он захотел посидеть. Был хороший весенний вечер. Станиславский спросил меня со своей неизменной вежливостью, не тороплюсь ли я. Куда я мог торопиться от него?! Мы сели на скамейку. И тут я попросил разрешения задать самый острый, волнующий меня вопрос: что такое режиссер?
Константин Сергеевич ответил мне на это тоже вопросом:
– Вы, вероятно, хотите знать, режиссер ли вы? Хотите, чтобы я вам сказал, считаю ли я вас за режиссера? Давайте, я вас проэкзаменую.
Это было не совсем то, на что я рассчитывал, но отступать было поздно.
– Вот мы сидим с вами на скамейке, на бульваре, – сказал Станиславский, – мы глядим на жизнь, как из открытого окна. Перед нами проходят люди, перед нами совершаются события – и большие и малые. Расскажите все, что вы видите.
Я попытался это сделать и рассказал то, что мне казалось важным и интересным и что привлекало мое внимание. Нужно сознаться, что это было не очень много, – то ли мне мешало мое положение экзаменующегося, то ли неожиданность постановки вопроса, но я не был удовлетворен своим рассказом; очевидно, не совсем доволен был и Константин Сергеевич.
– Вы многое пропустили, – и он назвал целый ряд действительно пропущенных мною событий.
Он рассказал, как подъехал извозчик, с которого сошла женщина, очевидно, она привезла больного ребенка в дом. Он заметил слезы у другой женщины, которая проходила мимо нас и которую я не видел, и еще целый ряд других фактов. Он указал, что я пропустил все звуковые ощущения, которые вокруг нас возникали.
А потом Константин Сергеевич предложил мне:
– Определите, кто идет мимо нас?
Я посмотрел:
– Это, по-моему, какой-то бухгалтер. Он такой аккуратный, с карандашом в кармане, портфель чистенький, сам сосредоточенный.
– Это подходит к бухгалтеру, – сказал Константин Сергеевич, – но может определять и целый ряд других профессий.
– А это кто? – и он указал на другую фигуру.
Я посмотрел и сказал, что, по-моему, это курьер, потому что человек, видно, никуда не торопится, идет какой-то растрепанной походкой, папка подмышкой: шел, шел, потом решил посидеть, вскочил, пошел быстрее, потом махнул рукой и опять сел на другую скамейку, закурил папиросу. По-моему, это курьер, посланный с очень срочным поручением.
Этот ответ Станиславскому понравился больше. Он оказал, что на этом наблюдении можно построить образ и сценическое действие.
– А о чем говорят те двое на скамейке?
– Влюбленная парочка, по-моему.
– Почему?
– Потому что они больше говорят глазами, чем движением губ, необычайно заботливы друг к другу, даже в мелочах. Кроме того, отрывочность жестов, взглядов…
К. С. согласился, что, пожалуй, это действительно влюбленные, и задал следующий вопрос:
– А что вы знаете о том месте, на котором мы находимся?
Что я знал о Гоголевском бульваре? Конечно, мало.
– А что вы знаете о сегодняшнем дне, каков он в Москве и даже во всем мире?
Тут на мой грех оказалось, что я даже газеты сегодня не читал, а Константин Сергеевич ее читал и очень внимательно.
– А что вы заметили, когда мы были у Дункан?
– Я был так взволнован, – ответил я, смущенный предыдущими неудачными ответами, – видя вас обоих, наблюдая ваше прощание… Я видел перед собой двух знаменитых людей, и… больше ничего не могу оказать.
– Вы заметили самое существенное: мы действительно играли в двух мировых знаменитостей. Вы только не заметили, для кого мы играли. Вы не заметили господинчика, который сидел в углу? Это специальный секретарь Дункан, он все записывает и будет писать книгу о ней и ее жизни. Когда он сидел в углу, она играла и я играл. Вы заметили, как мы говорили по-французски? Как по-вашему, хорошо мы говорили?
– Мне казалось, что вы говорили хорошо.
– Мы ужасно говорили, но делали вид, что говорим замечательно. А когда мы прощались, вы не заметили – она мне так крепко пожала руку, что даже сейчас больно. Мне кажется, что она хорошо ко мне относится, и я к ней очень хорошо отношусь. Вы могли бы и это заметить, но заметили только результат, во что мы играли, а не заметили причину нашей игры. А что вы знаете о Дункан?
Оказалось, что я о ней ничего на знал и только мог сказать, что она танцует босая.
Следующий вопрос был самый тяжелый.
– А что вы обо мне знаете?
Ничего путного я и на этот вопрос ответить не мог.
К. С. сказал:
– Вот мы с вами прошли небольшой курс режиссуры. Режиссер – это не только тот, кто умеет разобраться в пьесе, посоветовать актерам, как ее играть, кто умеет расположить их на сцене в декорациях, которые ему соорудил художник. Режиссер – это тот, кто умеет наблюдать жизнь и обладает максимальным количеством знаний во всех областях, кроме своих профессионально-театральных. Иногда эти знания являются результатом его работы над какой-нибудь темой, но лучше их накапливать впрок. Наблюдения тоже можно накапливать специально к пьесе, к образу, а можно приучить себя наблюдать жизнь и до поры до времени складывать наблюдения на полочку подсознания. Потом они сослужат режиссеру огромную службу. Вы не первый задаете мне вопрос, что такое режиссер.
Раньше я отвечал, что режиссер – это сват, который сводит автора и театр и при удачном спектакле устраивает обоюдное счастье и тому и другому. Потом я говорил, что режиссер – это повитуха, которая помогает родиться спектаклю, новому произведению искусства. К старости повитуха становится иногда знахаркой, многое знает; кстати, повитухи очень наблюдательны в жизни.
Но теперь я думаю, что роль режиссера становится все сложнее и сложнее. В нашу жизнь вошла неотъемлемой частью политика, а это значит, что вошла мысль о государственном устройстве, о задачах общества в наше время, значит, и нам, режиссерам, теперь надо много думать о своей профессии и развивать в себе особое режиссерское мышление. Режиссер не может быть только посредником между автором и театром, он не может быть только повитухой и помогать родиться спектаклю. Режиссер должен уметь думать сам и должен так строить свою работу, чтобы она возбуждала у зрителя мысли, нужные современности. Я попробовал так работать над «Каином». Я поставил себе целью заставить людей задуматься над теми мыслями, которые заложены в этом произведении.
И со своей обычной самокритичностью К. С. добавил:
– Кажется, мне это не удалось.
Эти качества режиссера, названные мне К. С. Станиславским в весенний вечер 1922 года на скамейке Гоголевского бульвара, – способность наблюдать, уметь думать и строить свою работу так, чтобы она возбуждала у зрителя мысли, нужные современности, – были отличительными чертами самого Станиславского – режиссера и руководителя театра – и, как я понял впоследствии, необычайно точно характеризовали задачи советского режиссера.






