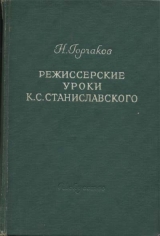
Текст книги "Режиссерские уроки К. С. Станиславского"
Автор книги: Николай Горчаков
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 32 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]

К. С. Станиславский
Николай Горчаков
Режиссерские уроки К. С. Станиславского
Беседы и записи репетиций
ОТ РЕДАКЦИИ
Автор книги «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» Н. М. Горчаков принадлежит к числу тех деятелей советского театра, чья творческая жизнь началась в первые годы после Великой Октябрьской социалистической революции. Окончив в 1922 году театральную школу при Третьей студии МХАТ по классу режиссуры у Е. Б. Вахтангова, Н. М. Горчаков был принят в 1924 году вместе с группой других молодых вахтанговцев в Московский Художественный театр, где в основном протекала и протекает его дальнейшая режиссерская деятельность.
С первых же месяцев пребывания в стенах МХАТ Н. М. Горчаков работал под непосредственным руководством Константина Сергеевича Станиславского.
Владея техникой стенографии, Н. М. Горчаков поставил себе за правило подробно записывать высказывания Станиславского и вести дневник занятий и репетиций, проводимых Станиславским. Эти записи и легли в основу книги «Режиссерские уроки К. С. Станиславского», имеющей, таким образом, не столько мемуарный, сколько документальный характер.
Первые уроки режиссерского реалистического искусства Н. М. Горчаков получил от К. С. Станиславского при переносе на сцену МХАТ диккенсовского спектакля «Битва жизни», поставленного им еще во время пребывания в Третьей студии. Константин Сергеевич, посмотрев «Битву жизни», не ограничился краткими замечаниями, но дополнительно провел ряд больших репетиций, являющихся и для режиссера пьесы-инсценировки и для ее исполнителей своего рода введением в «систему Станиславского».
Когда в 1925 году решено было возобновить «Горе от ума», К. С. Станиславский привлек к работе с новыми молодыми исполнителями ролей Чацкого, Софьи, Лизы, Молчалина молодых режиссеров И. Я. Судакова и Н. М. Горчакова, давая им попутно и общие постановочные задания по «Горю от ума». Эти работы также зафиксированы Горчаковым.
Своеобразную режиссерскую корректуру осуществил К. С. Станиславского в том же 1925 году по спектаклю «молодой группы артистов МХАТ» – старинному водевилю «Лев Гурыч Синичкин».
В дальнейшем, когда Горчакову поручались самостоятельные постановки пьес «Продавцы славы», «Сестры Жерар», шедших на Малой сцене МХАТ, Станиславский провел большую работу по выпуску этих спектаклей.
Заключительная часть книги посвящена участию К. С. Станиславского в работе над пьесой М. Булгакова «Мольер», поставленной Горчаковым на сцене филиала MX AT в 1936 году. Беседы К. С. Станиславского с автором, режиссером и актерами сохраняют громадное принципиальное значение.
«Театр – это отныне ваша жизнь, целиком посвященная одной цели – созданию прекрасных произведений искусства, облагораживающих, возвышающих душу человека, воспитывающих в нем великие идеалы свободы, справедливости, любви к своему народу, к своей родине», – с этими словами обратился К. С. Станиславский к молодому пополнению MXAT, артистам Второй и Третьей студий, влившимся в 1924 году в труппу театра.
Эти слова о высоком идейном содержании искусства театра воплощены в каждой работе великого советского режиссера. Над чем бы ни работал Станиславский – над «Горем от ума» или «Битвой жизни», над «Продавцами славы» или «Сестрами Жерар», над «Синичкиным» или «Мольером» – он прежде всего требовал и от режиссуры и от исполнителей вскрытия идейной основы драматического произведения, он требовал, чтобы пьеса и спектакль были близки современному зрителю. В идейности спектакля Станиславский видел залог его творческой молодости, и в этом смысле особенно поучительна работа Станиславского над «Битвой жизни».
Гениальную комедию Грибоедова «Горе от ума» Станиславский ценил прежде всего как патриотическое произведение, и его высказывания по поводу того, как надо ставить и играть «Горе от ума», проникнуты громадной любовью к русскому народу, к Родине.
Репетируя «Продавцов славы», Станиславский дает блестящий сатирический анализ психологии французской буржуазии. Он стремится к тому, чтобы комедийные положения «Продавцов славы» достигли на сцене советского театра памфлетной силы и были наполнены сарказмом и гневом, бичующим буржуазный строй.
В работе над «Мольером» Станиславский дал суровый урок драматургу. Отдавая должное умению автора занимательно строить интригу, Станиславский считал, что пьеса о Мольере должна быть прежде всего пьесой о гении, о великом художнике. У Булгакова же подробно рассказывалось о всевозможных злоключениях Мольера семейного характера, изображалась борьба короля с архиепископом, но не было утверждения Мольера как одного из славных представителей мировой драматургии, как борца за передовые идеи своего времени, против мракобесия и ханжества всевозможных Тартюфов. Станиславский считал невозможным до радикальной переработки пьесы показывать ее зрителю. Крушение спектакля подтвердило справедливость суровой оценки Станиславского.
Разнообразнейшие творческие вопросы, поставленные Станиславским в работе над всеми этими спектаклями, дают яркое представление о «системе Станиславского» как живом творческом начале в практике советского театра.
Книга «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» воссоздает живой образ великого художника-патриота, последовательного борца за торжество социалистического реализма в советском театре.
ПЕРВЫЕ ВСТРЕЧИ
ЗНАКОМСТВО С «СИСТЕМОЙ»Впервые я увидел К. С. Станиславского – увидел в жизни, а не на сцене – на генеральной репетиции «Каина» в Художественном театре в 1920 году.
Зал был предоставлен молодежи московских театров и студий, пришедшей после революции учиться театральному искусству и впервые в тот день приглашенной в Художественный театр на просмотр новой работы театра.
О постановке «Каина» говорили в театральных кругах очень много, рассказывали про смелые замыслы Станиславского, про его неистощимую фантазию на репетициях.
И вот сегодня нас пригласили присутствовать на последнем этапе работы над спектаклем в МХТ. Мы понимали все значение этой генеральной репетиции и волновались, вероятно, не меньше ее участников. Это чувствовалось по настроению зрительного зала.
Вдруг весь зал затих. В темной части его, в дверях, находившихся под бельэтажем, появился К. С. Станиславский, направлявшийся к своему режиссерскому столику.
Видно было, что Константин Сергеевич тоже волновался. Он смотрел очень внимательно на улыбающиеся лица, на обращенные к нему восторженные глаза и как будто вбирал в себя искреннее, теплое чувство зрителей.
Он остановился у столика, еще раз окинул взором весь зал, вглядываясь в самые дальние его края, и каждому из нас казалось, что он видит в эту секунду именно тебя. Затем, соединив свои необычайно выразительные руки в дружеском пожатии, высоко поднял их и сделал широкий, плавный, приветственный жест ко всему залу.
Охваченный чувством восторга, весь зал поднялся и горячими аплодисментами отвечал на приветствие Станиславского.
Станиславский, раскланиваясь в разные стороны, благодарил жестами за овацию и просил всех сесть.
Когда наступила тишина, он сказал несколько слов о том, что это его первая встреча как режиссера со зрителем после революции, что спектакль еще не готов, что у ангела нет еще даже костюма: «…он, кажется, выйдет просто в какой-то простыне…», но что он считает необходимым проверить спектакль на публике.
Затем он секунду помолчал и опустился в свое кресло. Лицо его мгновенно стало необычайно серьезно, даже напряженно.
С моего места мне было удобно следить и за Станиславским и за сценой. На сцене проходили картины из трагедии Байрона, а на лице Станиславского отражалось каждое слово, каждое движение актера. Я никогда не видел более подвижного, выразительного, впечатляющего лица. Какой детской радостью дышало оно, когда артисты на сцене удачно исполняли свои задачи! Каким строгим, нахмуренным становилось оно, когда на сцене что-либо не ладилось. Сверкали глаза из-под сдвинувшихся густых бровей, рука быстро писала на лежавшем перед ним листе бумаги, нетерпеливо что-то шептали губы.
Смена выражений происходила мгновенно; ни на одну секунду его чудесное лицо не переставало жить, волноваться, радоваться, переживать вместе с исполнителями их чувства. Весь целиком он был с актерами на сцене, по ту сторону рампы.
Он не следил за реакцией зрительного зала, не замечал того, как с ходом спектакля ослабевали интерес и внимание зрителей к тому, что происходило на сцене. Спектакль был встречен сдержанно, с некоторым недоумением. Тема богоборчества не прозвучала революционно, бунт Каина не получился, спектакль не поднялся до высот «трагедии человеческого духа».
* * *
Через некоторое время Е. Б. Вахтангов вызвал меня к себе и рассказал, что он просил К. С. Станиславского включить группу молодых студийцев-вахтанговцев в число слушателей лекций о «системе». Эти лекции предназначались для учеников различных студий. Вахтангов назначил меня старостой нашей группы студийцев и сказал, что Константин Сергеевич просил прислать к нему «старосту», чтобы составить себе впечатление о той молодежи, с которой ему предстояло встретиться.
– Вот вы и познакомитесь с Константином Сергеевичем, – сказал мне Евгений Богратионович. – Я знаю, вам давно хочется посмотреть на него вблизи. Впечатление у вас будет, конечно, большое, но не теряйтесь перед ним, не заискивайте, не думайте сразу завоевать его расположение. Обаяние его огромно, но он совсем не так доверчив, как кажется. Ох, и трудно же бывает с ним иногда…
С этим напутствием я и отправился в Леонтьевский переулок. Трусил и волновался я изрядно. Константин Сергеевич принял меня очень просто, сдержанно, я бы сказал, деловито. Он пристально в меня всматривался, как бы стараясь за моими ответами узнать еще что-то для него важное и нужное. Вопросы его были очень ясны, и цель их мне была понятна. Сколько будет учеников Вахтангова? Когда они приняты в студию? Какой был экзамен, когда их принимали? Какой их возраст, и был ли кто-либо из них знаком раньше с театром? Кто занимался раньше с ними «системой»? Знаю ли я что-нибудь о других студийцах, которые вместе с нами будут слушать его лекции? Чего мы ждем от этих лекций? Ясно ли нам, что если даже он нам будет целый год читать лекции, актеров они из нас не сделают? «Система» – это лишь путь к самовоспитанию актера, это тропинка, по которой надо идти всю жизнь к поставленной перед собой цели. Никаких рецептов, как сыграть ту или иную роль, он не имеет и не собирается нам сообщать. «Система» – это лишь ряд упражнений, которые нужно делать каждый день, чтобы верно играть все роли. Он очень хотел бы, чтобы все, кто будет его слушать, знали бы об этом заранее; чтобы не ждали от него необычайных открытий и не разочаровывались от тех простых упражнений, которые он предложит. Не могу ли я собрать старост остальных трех групп, рассказать им о нашем разговоре, а затем каждый староста соберет свою группу и сообщит студийцам о характере предполагаемых занятий. Может быть, кто-нибудь просто не захочет присутствовать на его занятиях, узнав, что это будет не «открытие истин», а простые упражнения. Он хотел бы иметь подготовленную, организованную аудиторию. Вступительная беседа будет очень короткая, он начнет с первой же лекции упражнения. «Система» – это практические занятия, а не теоретические размышления. Если дело пойдет на лад, он очень скоро возьмет пьесу и на ней будет проходить элементы «системы». Не могу ли я повторить ему все его замечания, чтобы я убедился, хорошо ли я его понял?
Я постарался как можно точнее повторить все слышанное, тем более, что я записывал все перечисленные вопросы.
Я старался не прибавлять от себя никаких толкований его мыслей, и мне показалось, что это удовлетворило Константина Сергеевича.
Затем мы расстались. Свидание было очень коротким: двадцать – двадцать пять минут, хотя мне показалось, что я пробыл у Константина Сергеевича часа три. Это ощущение у меня родилось, вероятно, от того большого внимания, с которым я слушал Станиславского. В этот же вечер я обо всех своих впечатлениях рассказал Евгению Богратионовичу.
– Ну, и какой же он, по-вашему? – спросил меня в заключение Вахтангов.
– Строгий и очень деловой, – отвечал я подумав.
– Это оттого, что он вас боялся, – последовал совершенно неожиданный ответ Евгения Богратионовича. – При полной уверенности в правильности своих взглядов на искусство у Константина Сергеевича потрясающая скромность. Встреча с любым новым человеком, какого бы возраста он ни был и какое бы положение в театре ни занимал, – для него всегда проверка своих мыслей об искусстве и своей «системы» на этом человеке. Причем он не столько ждет возражений от собеседника, сколько проверяет, какое впечатление производят его слова и утверждения на последнего. И боится, или, вернее, внутренне беспокоится в это время, что его слова не произведут того впечатления, которое ему необходимо произвести на нового восприемника его «системы». Ведь вы для него были представителем той новой молодежи, которой он еще совсем не знает, и поэтому он очень волнуется за свою встречу с нею.
– Не беспокойтесь, вы произвели на него вполне благоприятное впечатление, – прибавил опять-таки совершенно неожиданно для меня Евгений Богратионович. – Сейчас же после вашего ухода он позвонил мне в Первую студию и сообщил свое мнение о вас. Вот вам на всю жизнь пример внимания замечательного художника театра к молодежи. Чувство ответственности за свое дело у Константина Сергеевича равно его скромности, но зато он требователен к другим так же, как и к себе. Запомните это тоже очень крепко, когда вам от него за что-нибудь попадет. А что попадет – в этом я уверен!.. – весело закончил Вахтангов свое наставление.
Занятия с объединенной группой студийцев Константин Сергеевич построил по точному плану, о котором он мне сообщил в первую встречу.
Он сделал небольшое вступление об искусстве представления и искусстве переживания, а затем на первом же занятии начал упражнения на свободу мышц, внимание и прочие элементы «системы».
На моей обязанности лежало приезжать за Константином Сергеевичем на извозчике и отвозить его домой после окончания занятий. Несмотря на столь, казалось бы, удобные случаи для разговоров, их между нами не происходило. Когда Константин Сергеевич ехал на урок, он был всегда очень собран, сдержан, молчалив, мне было очевидно, что он готовился внутренне к встрече с нами, и я не решался обращаться к нему с вопросами. Уезжал он обычно утомленным и по дороге отдыхал. Чувствовал он себя в эту зиму неважно. Занятия с нами, мне кажется, его не увлекали, судя по вопросам и отрывочным фразам, с которыми он все же иногда обращался ко мне. Его тревожила судьба Художественного театра, отсутствие нового репертуара, неясность общего направления в театральном искусстве.
От своего первоначального плана работы Константин Сергеевич не отступил. Месяца через полтора-два он начал с нами репетировать «Венецианского купца» Шекспира, на материале пьесы, на отдельных «кусках» и положениях демонстрируя законы своей системы работы с актером.
Лето и традиционный конец сезона в театрах прервали наши встречи. Осенью Константин Сергеевич плохо себя чувствовал, и занятия с ним у нас не возобновлялись.
РОЖДЕНИЕ НОВОЙ СТУДИИ МХАТУвидеться с Константином Сергеевичем той же осенью мне пришлось по совсем особому поводу.
Структура управления театрами и студиями так сложилась в те годы, что существовать под скромной маркой «Мансуровская студия Е. Вахтангова» становилось трудно. Между тем весной мы получили большой особняк на Арбате (Государственный театр имени Евг. Вахтангова). В студию пришла еще одна значительная группа молодежи (из студии Е. Гунста), и к осени Евгений Богратионович хотел открыть театральную школу при студии. У нас был готов спектакль «Чудо св. Антония» М. Метерлинка и вечер одноактных пьес А. Чехова. Готовились еще новые спектакли. Евгений Богратионович решил просить дирекцию МХТ разрешить нам сделаться Третьей студией Художественного театра.
Но Евгений Богратионович был нездоров и не мог лично заниматься этим делом. Поэтому он посоветовал нам самим прежде всего направиться к Константину Сергеевичу и рассказать ему о наших трудностях.
Руководство студии поручило поехать к Константину Сергеевичу в санаторий, где он отдыхал, Л. П. Русланову, К. Я. Миронову и мне.
Мы отправились в путь на велосипедах. Был предвечерний час сухого теплого летнего дня в конце августа. В санатории «Серебряный бор» нам сказали, что Константин Сергеевич сейчас гуляет в парке, вероятно, в одной из аллей около ограды, выходящей на Москву-реку.
Мы пошли в парк. Еще издали увидели его, действительно, на указанном месте. Он сидел на скамье, поглядывал вдаль, на коленях лежал большой раскрытый блокнот. Он что-то изредка записывал карандашом в золотой оправе. Его можно было бы принять за художника, зарисовывающего пейзаж на закате солнца.
Мы подошли ближе и остановились в нескольких шагах от него, выжидая удобной минуты.
– Вы ко мне? – спросил он, когда его взгляд остановился на нас.
– Да, Константин Сергеевич, – и мы подошли ближе, представились. Сильно волнуясь, я рассказал, как умел, цели нашего приезда. Отдал ему письмо Вахтангова.
Константин Сергеевич помолчал, прочел письмо, еще немного подумал и сказал нам:
– То, что вы обратились прямо ко мне и в Художественный театр, – это очень хорошо. Это меня радует. Значит, воспитывая своих учеников, отдавая им свои силы и знания, – я говорю об Евгении Богратионовиче, которого мы все во МХАТ очень ценим и любим, – мы прививаем им любовь к нашему театру.
Вы говорите, что не хотите отрываться от Художественного театра, об этом пишет и Евгений Богратионович. Я не видел ваших работ, не знаю вашего театра, но я верю Вахтангову и вам. Нам нужны молодые силы, новые актеры и режиссеры. Мы сейчас очень пристально следим за молодыми актерами Второй студии. Я думаю, что они нам помогут и войдут, когда это будет нужно, в труппу Художественного театра. А вы готовы к этому? Вы поможете нам, когда мы позовем вас?
– Конечно, Константин Сергеевич! Евгений Богратионович просил вам об этом сказать особенно ясно и точно.
– Я верю вам, верю Евгению Богратионовичу. Но вот тот театр, в котором он работает сам, почти отделился от нас. Я говорю о Первой студии. Они любят больше свое дело, чем Художественный театр. Нам приходится очень долго и сложно согласовывать с ними репертуар и участие их актеров в наших спектаклях. Вы сейчас вольные люди, а став под марку МХАТ, вы должны будете нести ряд обязательств по отношению к Художественному театру. И первое из них – бросить свой театр, нарушить свои пьесы и постановки, если вы нам понадобитесь. Мы, конечно, не хотим вам мешать жить и развиваться, но просто так, формально мы не можем дать вам марку, хотя я верю, что вы ее не опозорите, а особенно я доверяю Евгению Богратионовичу. Евгений Богратионович прекрасно умеет воспитывать молодежь. Обдумайте еще раз, на что вы идете, и тогда приезжайте опять ко мне. В принципе я не возражаю. Говорили вы об этом с Владимиром Ивановичем!?
– Нет, мы хотели сначала поговорить с вами.
– Обязательно съездите к нему. Он сейчас у себя на даче в Малаховке. Расскажите про наш разговор, а потом приезжайте ко мне. Как здоровье Евгения Богратионовича?
Мы рассказали Константину Сергеевичу обо всем, что его интересовало, но беседа наша была непродолжительна. Что-то занимало, помимо нас, в этот вечер его внимание. Мы сказали Константину Сергеевичу, что Евгений Богратионович поручил нам узнать у него, как он себя чувствует. (Только недавно К. С. Станиславский болел воспалением легких.)
– Сейчас ничего, – отвечал нам Константин Сергеевич, смотря как-то пристальнее обычного на расстилавшийся передним за оградой пейзаж. – А вот когда болел, все думал, что умру и ничего не оставлю после себя. Дневник я вел только в молодости. Пробую, отдыхая здесь, записывать, что помнится из прошлых лет, из истории Художественного театра. Многое ушло из памяти, многое стерлось, потускнело. Записывайте все, что вы делаете. Записывайте за Евгением Богратионовичем каждое его занятие, каждый урок. Сам он, кажется, этим не занимается. А потом будет вот как со мной (он указал карандашом на блокнот). Не поздно ли будет…
Раздался звонок к ужину, и мы простились с Константином Сергеевичем. Ехали обратно молча, под впечатлением встречи. Станиславский был с нами внимателен, ласков, прост. Но в этот вечер от него веяло какой-то сдержанной грустью, озабоченностью. Я помню его и в последующие годы всегда таким в те минуты, когда его беспокоил вопрос о том, как закрепить все найденное им и проверенное в искусстве актера и режиссера, как передать свой опыт, свои знания тем, кто будет строить новый, советский театр.
Высокая, благородная забота! Мы последовали совету Константина Сергеевича и посетили Вл. И. Немировича-Данченко в Малаховке. Мы были приняты им так же сердечно и внимательно, как и Константином Сергеевичем. Владимир Иванович отнесся вполне благожелательно к просьбе Евгения Богратионовича и обещал поставить вопрос о принятии студии Вахтангова в «семью МХАТ», как он сказал на заседании дирекции театра.
13 сентября 1920 года состоялось постановление дирекции Художественного театра о том, что «студию Е. Б. Вахтангова считать Третьей студией МХАТ».
* * *
В январе 1921 года Третья студия МХАТ уже показывала Константину Сергеевичу в помещении на Арбате свой первый спектакль – «Чудо св. Антония» М. Метерлинка и «Свадьбу» А. Чехова. Мы все участвовали в качестве актеров в этих пьесах, и принимал Станиславского один Евгений Богратионович.
Зал у нас вмещал сто – сто двадцать человек, сцена была еще меньше[1]1
Спектакли в это время происходили в так называемом «Малом» зале. Большой зал и большая сцена не были еще готовы; открытие их состоялось через полгода.
[Закрыть]. Из-за кулис мы не могли следить за впечатлениями Константина Сергеевича.
Как заведующий постановочной частью я имел право находиться в любом месте сцены и, кроме того, знал хорошо свои декорации.
В первом акте «Чуда св. Антония» большие вешалки в передней стоят параллельно рампе в глубине сцены; в них просверлены дырки для крючков с одеждой.
Одного крючка на самом видном месте у меня недоставало еще на прошлом спектакле, и я нигде не мог подобрать подходящего по форме для замены. Зная острый глаз Вахтангова, я мог быть уверенным, что мне крепко попадет от него за этот крючок сегодня. А тут еще Константин Сергеевич смотрит спектакль! У меня мелькнула мысль: крайний крючок от кулис, на котором висело всегда фальшивое пальто, я переставлю на середину вешалки, фальшивое пальто прикреплю наглухо к вешалке, ведь оно закрывает крючок, когда висит на нем, а дырка в вешалке послужит мне как «глазок», через который я буду смотреть на Станиславского, когда откроется занавес.
После той выучки на театрального плотника и бутафора, которую проходили у Вахтангова все, кто хотел стать режиссером, мне ничего не стоило в пять минут проделать всю задуманную мною операцию.
Как только раскрылся занавес, я приник к отверстию в вешалке и сейчас же увидел крупное красивое лицо Станиславского, с интересом осматривающего нашу сцену и декорации. Они были скромные, но оригинальные. Художник спектакля Ю. А. Завадский по заданию Е. Б. Вахтангова нашел очень выразительные элементы оформления пьесы.
Лицо Константина Сергеевича всегда очень непосредственно отражало его мысли, и мне нетрудно было догадываться об его отношении к происходящим перед ним на сцене событиям[2]2
Мои догадки подтвердил потом Евгений Богратионович, сообщивший нам после отъезда К. С. Станиславского его замечания по спектаклю.
[Закрыть].
Мне показалось, что он поверил во все начало пьесы, в служанку Виржини, в обстановку акта.
Когда начали собираться родственники умершей хозяйки дома, Константин Сергеевич насторожился: фигуры были вылеплены очень ярко, почти карикатурно. Однако та внутренняя насыщенность, с которой действовали актеры, особенно О. Н. Басов, Б. В. Щукин, Б. Е. Захава, Б. В. Елагина, В. К. Львова, Ц. Л. Мансурова, Е. В. Ляуданская, Р. Н. Симонов, И. М. Кудрявцев, победила через некоторое время его настороженность, и он с улыбкой воспринимал их слова и поступки.
Тонкий юмор Басова, Щукина, Симонова, Завадского, Захавы, Котлубай всецело оправдывал талантливый сатирический замысел Вахтангова, органически сливался с характерами действующих лиц. С середины акта Станиславский весело и открыто, как-то даже по-детски наивно принимал спектакль. При всякой неожиданности на сцене лицо его выражало искреннее удивление, а удачные актерские и режиссерские куски он как бы внутренне играл вместе с актерами. Громадной, трогательной любовью и заботой о новом молодом поколении веяло от всей его фигуры.
Во время второго акта я не мог наблюдать за ним. Мне нужно было гримироваться на роль шафера в «Свадьбе» Чехова, которая шла вместе с «Чудом св. Антония» в один вечер.
Но те из моих товарищей, кто наблюдал за Константином Сергеевичем из зрительного зала, сообщали нам за кулисы, что и второй акт «Антония» и «Свадьбу» он смотрел с тем же удовольствием и видимым одобрением.
После конца спектакля, быстро разгримировавшись, мы все собрались в гостиной – актерском фойе.
Станиславский и Вахтангов сидели рядом на диване.
– Ну, кажется, все в сборе, – сказал Евгений Богратионович, оглянувшись на нас.
Станиславский в свою очередь долго, пристально, с улыбкой рассматривал всех, узнавая, очевидно, в разгримировавшихся актерах черты их сценического образа.
– Поздравляю вас, – сказал он, – поздравляю Евгения Богратионовича с отличным спектаклем. А главное, поздравляю его и себя самого с еще одной талантливой группой актеров, воспитанной одним из самых талантливых актеров Художественного театра – Вахтанговым. Можно сделать много хорошихпостановок – это сравнительно не так трудно, – но воспитать, создать новую, молодую труппу – эта задача по силам очень не многим режиссерам. Вы должны быть счастливы, что у вас такой учитель, как Евгений Богратионович. Сейчас мне ни о чем другом не хочется говорить. Многое в спектакле мне очень понравилось; вероятно, если бы я сам ставил этот спектакль, то многое сделал бы не так! Это естественно. Но сегодня все это не имеет значения. Я присутствовал при рождении ребенка – нового театра – и хочу по праву крестного отца пожелать вам много лет счастливой жизни вместе с вашим прекрасным учителем Евгением Богратионовичем.
Константин Сергеевич расцеловался под наши дружные аплодисменты с Евгением Богратионовичем и стал прощаться с нами. Он сказал, что волновался, смотря спектакль, и от этого устал больше обычного. Чувствовал он себя в эту зиму неважно.
Проводив его, мы собрались вокруг Евгения Богратионовича. И первые его слова были обращены ко мне:
– Ох, и вмажу я вам когда-нибудь, Николай Михайлович! – сказал он, удивив меня этим, до крайности. – Вы думаете, что я не видел, как вы весь первый акт подглядывали за Константином Сергеевичем в «глазок»? Пальто-то у вас на вешалке шевелилось само по себе! Хорошо, что Константин Сергеевич ничего не заметил. Ведь, кроме вас, некому было придумать такой фортель.
Я не отрицал. Я только был потрясен еще раз остротой внимания Вахтангова. А он мне написал через полгода на программе спектакля и концерта в день открытия Большой сцены студии: «Ох, и вмажу я вам когда-нибудь, Николай Михайлович!», хотя в тот вечер я, кажется, ни в чем не провинился. А так, на память! Чтобы хорошо помнил, чего нельзя в театре делать!
Через несколько месяцев мы собирались торжественно праздновать открытие «Театра Третьей студии МХАТ». Евгений Богратионович предложил играть в этот вечер «Чудо св. Антония» и устроить концерт с выступлением в нем старейших руководителей московских театров: А. И. Южина и К. С. Станиславского.
– Эх, если б мне удалось уговорить выступить Константина Сергеевича! По-моему, он очень давно не выступал в концертах. Его имя на нашей афише было бы лучшим признанием нашего театра, – сказал нам Евгений Богратионович. И через два дня торжественно сообщил: – Уговорил.
Я был одним из ответственных устроителей этого концерта, и мне поручили заехать за Константином Сергеевичем, и привезти его в этот вечер в студию. Я застал его одетым в черный парадный костюм и крахмальное белье. Он держался торжественно и серьезно. Спросил меня, как прошел спектакль, кто из московских знаменитостей театрального мира находится в зале. Предупредил, что на улице разговаривать не будет, облачился в теплую шубу, меховую шапку, большой шарф, и мы поехали. В театре я провел его в отдельную комнату, приготовленную для него за кулисами. Он спросил, кто еще из актеров будет находиться с ним в этой комнате. Я отвечал, что эта комната предназначена Евгением Богратионовичем только для Константина Сергеевича. Он спросил, далеко ли она от сцены. Сцена была рядом, нужно было только подняться по небольшой лестнице. Константин Сергеевич попросил оставить его одного и зайти за ним непосредственно перед объявлением его выступления. Читать он хотел монолог из «Скупого рыцаря» Пушкина. В концертах он никогда не выступал в последние годы, и сегодняшний вечер для него был большим событием. Я видел, что он волновался, и предложил последить за ним из кулис с книгой Пушкина. Он остался доволен моим предложением, только удивился, откуда у меня припасена книга. Я признался, что слышал не раз от Вахтангова о его работе над этим монологом и хотел разметить по экземпляру особенности чтения Константина Сергеевича. Он предложил мне не делать этого во время его чтения; после концерта, вернее после своего выступления, он разметит мне сам стихи Пушкина. Я поблагодарил и побежал сообщить о приезде Константина Сергеевича Вахтангову.
– Не тревожьте его, – сказал мне Евгений Богратионович. – Константин Сергеевич терпеть не может публичных выступлений и всегда очень волнуется за них. Я думал, что он в последнюю минуту откажется. То, что он у нас, – это первая большая победа нашего театра. Никого к нему до выступления не пускайте. Это мое личное распоряжение. Я приду к нему, как только он закончит свое выступление. Идите и дежурьте у дверей его комнаты.
Я так и сделал. Минут десять я провел на страже у комнаты Станиславского. Он, очевидно, проверял еще раз текст. Звуки его голоса доносились ко мне из-за двери. Затем мне сообщили, что Константину Сергеевичу надо идти на сцену. Я постучал в Дверь, и через несколько секунд мы поднимались на сцену. Станиславский выступал первым в концерте. На сцене его встретил Ю. А. Завадский, который вел программу. За закрытым занавесом стояли небольшой круглый стол и кресло. Завадский спросил, не нужно ли чего еще на сцене Константину Сергеевичу. Станиславский присел, примерился к креслу и, сказав, что ему ничего не надо, отошел ко мне в кулисы. Он был бледнее обычного, рука его сжимала небольшую книгу – томик Пушкина в издании «Просвещения». Точно такая же была и у меня в руках.








